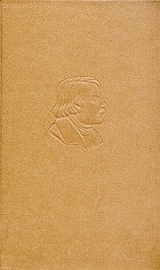
Текст книги "Мертвые души. Том 3"
Автор книги: Юрий Авакян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА 4
Только что успели герои наши выбраться из пределов Петербурга да покатить по тракту, соединяющему две наши столицы, как у меня, оказавшегося вместе с ними на свободе, о которой я столь страстно мечтал, томясь перипетиями петербургской жизни Павла Ивановича, сразу же возникли серьёзные затруднения. И проистекали они из простого, на первый взгляд, рассуждения – что сей наиглавнейший тракт отечества нашего, по которому пылит нынче тройка Чичикова, чьи проделки я словно бы приставлен живописать некою высшею силою, хорошо известен всякому, кому доводилось, хотя бы однажды, путешествовать либо из Петербурга в Москву, либо в противуположном направлении. И все те Тосны да Лобани, все Бронницы да Ядровы, все Спасския—полисти да Хотиловы, Торжки, да Выдропуски, все они живут и дышат, отнюдь не вымышленною, а натуральною жизнью, и населены посему не бумажными персонажами, выходящими из—под авторского пера, а дорогими соотечественниками нашими, пускай и не всегда далёкими от того, чтобы характером, либо физиогномией своею подчеркнуть ту или же иную из авторских идей или сентенций.
Скажу более – подобное обстоятельство видится мне не просто некой, вызвавшей заминку в плавном моём повествовании, трудностью, которой можно было бы и пренебречь, использовавши обычные уловки, на которые всегда столь горазда пишущая братия. Увы, увы, обстоятельство сие уж готово встать передо мною точно непреодолимая стена, что не пускает меня вослед за моими героями.
Посудите сами, господа, начни я менять истинные названия встреченных Павлом Ивановичем на пути городов и городишков измышленными мною – что из того выйдет хорошего? Ничего!.. Ничего кроме конфуза. Всякий тогда скажет – «Гляди—ка, эка, куда его развернуло. Стыдно, батенька не знать в наше время географической науки, ну или хотя бы даже и малой ея части!». Вздумаю же я, на новомодный манер, обходиться двумя либо тремя разделёнными чёрточкою буквами, выбранными мною из названий сих достойных населённых пунктов, то и тут сраму не оберёшься, потому как хитрости в том нет никакой.
Напишу я, к примеру, пытаясь сокрыть истинное название городка – «Чу—во», либо «М—ное», или же «Я—цы», как тут же, каждый из ездивших по сему тракту смекнёт, что это ни что иное, как Чудово, да Медное, а «Я—цы» это вовсе ни какие не Яйцы, и не Яичницы, как можно было бы подумать, а всем хорошо известные Яжелбицы, которые – что такое, к стыду своему, сказать не берусь.
Ежели же прибегну я к старой методе, и примусь крестить всё встреченное мною на пути жильё столь привычною всем буквою «N», то и тут ничего путного не выйдет, потому, как придётся Павлу Ивановичу беспрестанно перебираться из одного «N» в другое, коих будет понатыкано на его пути около трёх десятков. Нехорошо это ещё и с той стороны, что герой наш уже сейчас направляется в тот самый город «NN», где собственно и приключилась наша первая с ним встреча, посему смею утверждать, что подобное обилие этой, по своему даже и красивой буквы, вовсе не украсит нашего повествования, а напротив, внесёт в него весьма изрядную путаницу.
Но всё это было бы полбеды! А вообразите, что вздумается вдруг Павлу Ивановичу завесть, с кем бы то ни было в пути дружбу, либо затеять некое предприятие, может быть даже и с «мёртвыми душами»; во что тогда обратится наша поэма? В форменный донос! Ибо, как ни крути, на какие хитрости не пускайся, а всё равно дознаются, где и когда жил такой—то и такой—то, проверят все бумаги, прикинут в уме, покумекают, и скажут кому—то, может быть даже и невинному – «Ну что, попался, голубчик?!». И вот по нашей нескромности, да неумелости, отправиться сей бедняк по этапу в самою Сибирь.
Конечно же, мне могут возразить, что подобным же образом, вполне возможно поступить со всяким другим из персонажей уж выведенным мною на страницы сей поэмы, и что ничего в том мудрёного нету, чтобы дознаться, какой такой есть город Тьфуславль, либо та же тьфуславльская губерния, или же город «NN», куда нынче правит пути своя любезный наш Павел Иванович. Но нет, господа! Спешу уверить вас в том, что это заблуждение, ибо настолько осторожен и хитёр автор этих строк, что сие предприятие весьма и весьма непросто. Потому как спрятаны все нити и концы опущены в воду того тёмного омута, что зовется авторским вымыслом. Ну а то, что вдруг одно покажется вам знакомым из того, что встретите вы на моих страницах, другое ли, так на то она и Россия, что в ней всякий город «NN», всякая губерния – «тфуславльская».
Те же авторския намёки, что позволяют судить, будто дело происходит как бы в южных наших губерниях, проистекают из—за неприятия организмом моим всякого холоду, всякой сырости и хляби, почему, собственно, и не люблю я Петербурга, о чём уж имел случай не раз упомянуть.
Так что теперь, вам, надеюсь, понятно какова стоящая предо мною задача, что сковывает авторский мой пыл, с коим готов я поспешать вослед за моим героем, столь близко подобравшимся до своей цели. И тут видится мне следующий выход – либо опустить все те сцены, что могут произойти, да что там говорить, обязательно произойдут с Павлом Ивановичем на его пути (уж мне ли его не знать, господа?), но тогда выпадет, пускай и небольшой кусок его жизни, которую мы привыкли описывать столь тщательно, либо надеяться на то, что близость до громадного куша, что грезился Чичикову в завершении его нового путешествия, подстегнёт его, не позволивши завёртывать во всяческия, попадающиеся по дороге селения. Да и признаться, ну какой в подобных остановках толк? Пускай и прикупит он, скажем, с десяток, другой душ, что, казалось бы, могли бы принесть ему некий прибыток, что с того? Столько новых хлопот да возни со всеми потребными бумагами – от совершения самой купчей крепости, до получения справки от того же капитана—исправника да решения суда в отношении переселения якобы купленных им крестьян, возникнет пред ним, столько времени заберёт у него вся эта суматоха да суета, что того и гляди пройдет месяц, а то и два, прежде чем сумеет Павел Иванович продолжить свой путь ко ждущему его впереди богатству.
Думаю, что подобное соображение не могло остаться незамеченным расчётливым умом нашего героя, и сие предположение моё оказалось более чем верным, потому как Павел Иванович, «ничто же сумняшеся» решил не тратя даром времени на всяческия мелочи править путь свой прямиком в «NN», делая остановки только лишь для того, чтобы дать роздых коням, да своим людям. Для сего же, господа, вовсе ненадобно никуда завёртывать; так как всем известно, что именно для оных целей и существуют почтовые станции да постоялые дворы, коих предостаточно выстроено вдоль всякого тракту. Ну и, слава Богу! И нам, надо признаться, легче от этого его решения. А теперь уж за ним, за ним! Не упуская его из виду, ни на минуту – до самого конца!..
Покинувши Петербург, Чичиков не сожалел об этом нисколько! Напротив, уезжал он с лёгким сердцем, даже и по той причине, что не сумел тут ни к чему ни привыкнуть, ни привязаться. И вам, друзья мои, надобно думать, небезызвестна сия особенность нашей северной столицы – её можно полюбить либо в минуту и уж навсегда, либо не полюбить и вовек.
Вот почему коляска Павла Ивановича, несмотря на довольно поздний для начала путешествия час, бойко стрекоча своими колёсами, бежала прочь из Петербурга, оставляя за собою облако бурой пыли, что повисала в тёплом весеннем воздухе густым медленно оседающим вниз шлейфом. Да признаться не одна она пылила по дороге – многие и многие экипажи сновали по сторонам. Которые из них ехали Павлу Ивановичу навстречу, спеша поскорее достигнуть до пределов желанного Петербурга, которые же напротив, точно бы набиваясь, Чичикову в попутчики, стремились в одном с ним направлении, стараясь обойти его коляску, дабы избегнуть тех пыльных облаков, что летели из—под ея быстрых колёс. Но то были напрасные с их стороны попытки, потому, как пыль из—за множества экипажей, летала надо всею дорогою, не спеша оседать на её поверхность, носившую следы явной о ней заботы. Дорога сия насыпана была из мягкой земли, что конечно же облегчало езду путешественникам, но способствовало возникновению тех пыльных облаков, о коих мы только что упоминали, и от которых невозможно было найти спасения. Посему Павел Иванович, равно как и прочие седоки прочих экипажей, часто чихал, то и дело прикрывая белое лицо своё платком, надеясь таковым манером избавить себя от летавшей кругом пыли, так что нынче ему было вовсе не до тех красот, которых ожидает всякий путешественник от предстоящего ему путешествия. Да признаться, простиравшиеся с обеих сторон тракту ландшафты были совсем не те, что могли бы ласкать глаз жаждающий красоты и гармонии – всё те же елки да берёзы стояли вдоль пути, да кустарник неизвестной Павлу Ивановичу породы клочками торчал у обочины.
В дождь сей тракт, конечно же, должен был раскисать немилосердно, что уж, как помнит читатель, довелось испробовать нашим героям по пути в Петербург. Пудовыми комьями грязи налипала эта дорога на колёсы бедных, застигнутых непогодою экипажей, растаскивавших грязь сию по сторонам, но заботою неких чиновников дорога всякий раз насыпаема бывала сызнова, что, как надобно думать, было делом весьма прибыльным, потому как истребляемы,были для сих целей тысячи возов земли, тысячи же и приписывались… Но молчу, молчу! Это всего лишь мёе писательское воображение подсказало мне подобный пассаж.
Однако чем далее наши путешественники уезжали от Петербурга, тем менее встречалось им на пути всяческих экипажей и тем реже приходилось Павлу Ивановичу прибегать к помощи носового платка, потому как воздух почти совсем очистился от клубов висящей над дорогою пыли, отчего задышалось свободнее, да и сама дорога наконец—то стала походить на наш обычный российский тракт. Исчезнула уж мягкая насыпная земля, уж кочки да ухабы развернулись во всей своей, привычной до каждого путника, полноте и коляска, то и дело подскакивая на сих дорожных многоточиях и запятых, вздрагивая всем своим лаковым корпусом, по которому дрожью прокатывался недовольный рокот металлических ея скобок и винтов, что словно бы крепким, железным своим словцом поминали подобныя частые подскакивания.
Всяк, кому доводилось отправляться в далёкое, полное грядущих забот путешествие, знает то, словно бы припекающее сердце чувство томления, что переполняет всё существо путешественника беспокойством и тревогою, когда вдруг начинает казаться ему, будто может он к чему—то опоздать, куда—то не успеть – пропустив нечто важное, от чего, может статься, зависят его счастье, будущность и судьба… Чувство сие, когда бывают, пройдены первые вёрсты, обычно проходит, и тогда уж путник, успокоившись, начинает отдаваться самой дороге – всем тем мелким, связанным с нею хлопотам, что всегда откуда—то да возьмутся на всяком пути, независимо от того, куда бы ты его не держал.
Так и Чичиков, после того, как миновали они с дюжину вёрст, успокоился, и, угревшись на кожаных сидениях своей коляски, точно бы в привычной и родной ему скорлупе, принялся размышлять о том времени, когда сумеет, обделавши все потребные дела, воротиться в милое сердцу его Кусочкино, что осталось дожидаться его где—то там, в покойной и лесистой глуши, но, как ни прикидывал он, всё одно выходило, что ранее Рождества ему никак не обернуться. В подобных размышлениях и расчётах прошло времени изрядно, потому как и сумерки успели уж опуститься на дорогу, уж потянуло холодком из ложбин, попадавшихся на пути, уж туманы расстелили над полями влажные свои покрывалы, а даль, разворачивавшаяся пред глазами Павла Ивановича, стала теряться в сгустившемся к ночи воздухе, в котором дрожал грустный плач одинокого, прятавшегося в полях коростеля.
Кони, тряся бубенчиками, бежали ровною рысцою, Селифан временами, точно бы от переполнявшего его счастливого чувства, навеянного дорогою, принимался что—то надсадно выкрикивать – изображая песню, слова которой, надо думать, рождались у него тут же в голове, а Петрушка весело поглядывая на Селифана, хрипло похохатывал, и оборотясь на Павла Ивановича, точно бы приглашал и его принять участие в общем веселье. Жмуря глаза, Чичиков одобрительно улыбался ему в ответ, чувствуя, как всё ближе подбирается до него на мягких своих, неслышных лапах сон. Завернувшись поплотнее в тёплый пахучий тулуп, ощущал он, как заполняется его сердце сладким уютным покоем и уверенностью в скором и счастливом завершении всего того огромного предприятия, что выстроено было его упорством и трудом. Он всё пытался вообразить было себе, каково же это – заделаться миллионщиком? Но воображение отказывало ему, потому как стоило лишь Павлу Ивановичу представить себе кучу туго перевязанных в пачки банкнотов, так сердце его тут же захлёстывало восторженное чувство, и все иные картинки, что готово было изобразить ему услужливое воображение, сразу же тонули в этом восторге. Однако скоро уж сумерки сделались столь густы, что трудно стало различать и дорогу, да и кони, к тому же, притомились; стало быть, пришла пора отдыхать. Посему—то завидевши впереди почтовую станцию, Чичиков велел Селифану заворотить к ней, с тем, чтобы можно было бы без помех провесть под ея кровом ночь. Станция сия являла собою большой обшитый тёсом дом – в три жилья, под железною крышею, обнесённый покосившимся, щербатым забором и воротами с одною лишь половиною створок, той которую не успели ещё сорвать с петель пьянныя возчики.
Остановившись у крыльца сего достойного строения, Павел Иванович, отдавши Селифану какие надобно приказания, проследовал в сени, столкнувшись в дверях у самого входу нос к носу со станционным смотрителем – обладателем настолько пакостной физиогномии, что глянувши на него Чичиков испытал даже некую досаду, пришедшую от одной только мысли о том – каково, однако же, жить на белом свете таковою образиною. Выцветший и потёртый мундиришко смотрителя кое—где уж пошёл швами, потому как шит был видно в годы далеко отступившей юности своего обладателя, как надо думать глядевшего тогда не столь обрюзгшим и раздавшимся вширь. Обшлага на рукавах сего мундира висели совершеннейшею бахромою, а сквозь с трудом сошедшиеся на смотрительском брюшке борты, бесстыдно светило исподнее. В довершение картины щека у смотрителя, видать по причине больного зуба, подвязана была красным клетчатым платком, в волосах, по которым скучало мыло с гребёнкою, запутались куриные пёрышки, верно набившиеся туда из худой подушки, и летал вкруг всей его фигуры, обвивая ея точно невидимым облаком, аромат лука, мешавшийся с водочным перегаром.
– Лошадей нет, и не ждите! – бросил смотритель, не удосуживая себя никаким иным приветственным возгласом.
Видно было, что фраза сия выскакивала из него при встрече со всяким вновь прибывшим, поэтому Чичиков лишь усмехнулся в ответ, как хорошо знающий ухватки подобных смотрителю субъектов. Они будут божиться и клясться в том, что лошадей нет, что все они в разгоне, либо в болячке, что чума у них, ящур, либо моровая язва, но дашь целковый, как лошади тут же сыщутся – не пройдёт и минуты. Посему—то Павел Иванович молча кивнувши в ответ на сию ламентацию, проследовал в общую залу.
– Лошадей нет, и не ждите! – со слабеющею надеждою в голосе крикнул ему во след смотритель.
– Нет и не надобно! Я на своих, – отвечал Чичиков не обернувшись, на что смотритель горько вздохнувши и понимая, что уплыл целковый, побежал во двор по каким—то своим смотрительским делам.
Пройдя в общую залу, крашенную зелёною всегдашнею краскою, затёртой до лоска спинами множества проезжающих, что сиживали не раз по стоявшим вдоль стен деревянным скамьям, Чичиков тоже присел на струганное, потемневшее от времени сидение и огляделся по сторонам. Признаться он не любил почтовых станций, отдавая предпочтение, впрочем, как и многие, постоялым дворам да гостиницам, где по крайней мере возможно выспаться в отдельном нумере, пускай и на соломенном, но матраце, что служит, как правило, прибежищем для многочисленных клопов и блох, от которых, как ни старайся, не убережёшься, так же, как и от судьбы. На почтовых же станциях изо всех перечисленных удобств наличествуют разве что клопы с блохами, да те самые деревянные скамьи, по которым и спят временные постояльцы сих, безусловно наиполезнейших заведений, застигнутые ночною порою, либо же непогодою.
Оглядевшись по сторонам, Чичиков увидел, что один угол в общей зале выгорожен ширмами, из чего можно было заключить, что там помещалось либо семейство, либо одинокая путешественница, вынужденная коротать здесь ночные часы. Предположение его в самом скором времени подтвердилось, потому как из—за ширм раздался шорох крахмальных юбок, перестук дамских каблучков, и два голоса – мужской и женский о чём—то негромко стали переговариваться меж собою.
«Стало быть супруги», – подумал Чичиков, но наблюдения его были прерваны вернувшимся с улицы смотрителем, что тут же принялся требовать с него оплаты за овёс, потому как по его словам овёс был казённый и он посему не был во праве расточать сие казённое добро на всяческих проезжих лошадей.
Чичиков снова усмехнулся на эти его слова, зная наверное, как приторговывают казённым овсом на всех почтовых станциях по всей же необъятной нашей матушке Руси, но, тем не менее, не стал спорить со смотрителем, а, заплативши назначенную цену, добавил ещё и сверх того, попросивши смотрителя распорядиться по поводу ужина.
– Пожалуйте, пожалуйте! Сей же час будет исполнено, – залебезил смотритель, делая попытку состроить во чертах пакостной своей физиогномии радушную улыбку, а затем поспешил во смежный с общею залою покой.
«Вот послужит он эдак годков пятнадцать, двадцать, да и сколотит себе капиталец тысчонок в семьдесят! И всё по целковому с проезжающих, да за овёс, – подумал Чичиков, – а там гляди и прикупит домишко в слободке, да будет себе на вечерней зорьке чаи попивать со своею смотрительшею, в полном покое и удовольствии».
Но тут подан был ему ужин тою самою смотрительшею, которую он только что успел помянуть. Не знаю, право, о чём рассказать во первой череё – об ужине, либо о смотрительше? Потому как они одна другого стоят – как ужин сей являл собою гречневую кашу с остынувшею телятиною, так и смотрительша была та же гречневая каша с тою же остынувшею телятиной.
Но Павел Иванович, принявши поданное ему блюдо с благодарностью, приступил было уж к ужину, как внезапно из—за ширм ограждавших угол от посторонних взоров, дробно стуча каблуками сапожек, точно бы козьими копытцами, появился небольшого росту, сухой, желчного вида господин с редкими, но прилежно зализанными на пробор волосиками, украшавшими его маленькую костистую головку. Глазки его, мелкие и колючие, горели негодованием, а жидкие усики под тонким красным носом трепетали от гнева, сотрясавшего всё его довольно хрупкое тело. Уставившись на Чичикова сощуренными в щёлки глазами, он произнёс дрожащим от злости, надтреснутым голосом:
– Сударыня! По какому праву сей господин ужинает вперёд нас?! Мне кажется, что мы с супругою моею прописались тут ранее него?!
В первые мгновения Чичиков даже опешился от подобного наскоку, не понявши, от чего это глядящий на него в упор господин, называет его сударынею, но недоумение его тут же исчезнуло, потому как на обвинительную сию инвективу отозвалась смотрительша, не успевшая покинуть ещё общую залу:
– Позвольте, сударь, – отозвалась глядящая холодною телятиною смотрительша, словно бы делаясь при этом ещё холоднее, – но вы не захотели каши с поджаркою, а другого у нас ничего нет.
– Да, но вы ведь обещали пулярку…, – капризно произнёс желчный господин, не терпящим возражения тоном.
– Сударь вы мой! Но покуда её изловят да ощиплют, покуда изготовят, пройдёт время. Так что извольте уж обождать, – сказала смотрительша.
– Обождать?! – вскричал желчный. – Я вам покажу – «обождать»! Я не потерплю подобного обращения! Вы у меня по суду ответите, канальи! Да знаете ли вы, с какими господами я на короткой ноге?! Да в какую должность собираюсь войти?! Я вам всем покажу, где раки зимуют, всем! – не унимался он, и всё более распаляясь, принялся даже топать ногами, отчего по зале вновь рассыпалось цоканье козьих копытец.
Смотрительша же смеривши его равнодушным взглядом, как ни в чём ни бывало повернулась к нему спиною и, словно бы говоря всем видом своим «видывали мы таковских», вышла из залы, оставив разгневавшегося сего господина осёкшимся на полуслове. Однако он, казалось, вовсе и не собирался отступать. Не успела ещё затвориться за смотрительшею скрыпучая дверь, как он уж оборотил гнев свой до Чичикова.
– А вы, сударь вы мой, тоже хороши! Совести, совести–то в вас, как погляжу, нет ни на грош! Хотя по виду и не скажешь, по виду словно бы и благонадёжный гражданин отечества нашего, – сказал он, картинно разведя руки в стороны и тут же уронивши их так, что в боковых карманах дорожного его сертука отозвалась бряцанием и звоном какая—то мелкая монета. – Как же вам, милостивый государь, невдомёк, что не поступают подобным манером приличные господа? Как же вам только не совестно есть теперь предо мною свою телятину, когда мы с супругою моею здесь вперёд вас прописались? Да, как вы можете, апосля такового в глаза—то людям смотреть? Ведь вот из—за таких как вы и пропадает наша Россия – в которых ни порядка нет, ни совести! – не унимался он.
Чичиков с набитым кашею ртом изумлённо глядел на него, как глядят изумлённыя дети на внезапно выпрыгнувшего пред ними из коробки игрушечного чёртика, что повизгивая и кружа сучит спрятанными в лапах пружинками, скрипит потайными шестерёнками, стараясь напугать их механическими своими кривляньями.
– Позвольте, позвольте, милостивый государь, да кто это позволил вам переходить на личности? Вы что же себе это позволяете на людей кидаться, где это видано подобное отношение? Вы выучились бы сперва хорошим манерам, а затем уж…, – попытался было вставить Чичиков с трудом проглотивши кашу, но желчный господин не дал ему возможности договорить.
– Да знаете ли вы, сударь, с кем говорите? Я штабс—капитан Петрушкин! Да меня тут всякая собака знает! – вскричал он, топорща жиденькие свои усишки.
– Ну, вот и знайтесь с собаками, – отвечал ему Чичиков, все ещё не отошедший от столь неожиданного нападения, – мне же знаться с вами совершенно ни к чему. Мало ли каких «Петрушек» встретишь на пути, но коли вы уж назвали себя, то позвольте и мне представиться – Чичиков Павел Иванович, жандармский полковник, служащий Третьего отделения, – соврал он, да и то сказать, Третье отделение и прочее приплелось как бы само собою и почему оно выскочило, не сказал бы, наверное, Чичиков; может быть, даже и от того, что, выскочивши тогда в разговоре с Ноздрёвым и произведя над ним поразительный эффект, оно затаилось где—то во глубине памяти Павла Ивановича, именно для подобного вот часу.
Признаться и нынче эффект вышел поразительный! Господин Петрушкин, что разве уже не пузырями исходивший от упоминания Чичиковым «всяческих Петрушек», коих якобы всегда в изобилии встретишь в дороге, тут же прекратил свои кривляния и, ставши словно бы столбиком, дёрнул кадыком на тонкой жилистой шее, а затем, тоскливо махнувши на всё ладошкою и не произнеся более ни слова, процокал назад к себе за ширму, из—за которой вновь послышалось шуршание юбок и гневный женский шепоток, явно о чём—то его вопрошавший.
Дожевавши свою телятину и отойдя немного от бывшей минутами назад перепалки, Павел Иванович подумал, что это оно удачно вышло – насчёт Третьего отделения, явно придясь к месту и что надобно бы сие взять ему на заметку, для того чтобы и в будущем укорачивать подобных, не в меру горячих субъектов. Ощущая себя победителем, и пребывая оттого в прекрасном расположении духа, Чичиков направился было за чаем ко стоявшему в углу залы большому, пышущему жаром самовару, как тут створки ширмы скрывавшей ретировавшегося с поля боя его противника распахнулись и из—за них вновь появился Петрушкин, державший в руках по большому серебряному подстаканнику, с позвякивавшими в них пустыми стаканами. Увидавши Павла Ивановича, что также как и он намерен был напиться чаю, Петрушкин, наверняка помимо чаю жаждавший ещё и реваншу за постигшее его несколько ранее поражение, бросился вперёд звеня стаканами и всё так же дробно стуча копытцами, но увы, и тут ожидал его конфуз, потому как Павел Иванович вовсе не намерен был уступать ему своего первенства. Не теряя достоинства, и не переходя по примеру того же Петрушкина на рысь, Чичиков, однако же, добрался до самовара первым, и подставляя свой стакан под пылавший жаром медный кран, услыхал за спиною недовольное и злобное ворчание.
Не обративши внимания на переминавшегося с ноги на ногу Петрушкина, Павел Иванович едва—едва отвернувши кран, принялся цедить кипяток в стакан тоненькою струйкою, стараясь достигнуть того, чтобы стакан его наполнялся как можно дольше, словно бы стараясь растянуть удовольствие от достигавших до его слуха глухих и нетерпеливых вздохов томящегося позади соперника. Но когда стакан был им вроде бы уже и нацежен и маявшийся за спиною Чичикова штабс—капитан вздохнул было с облегчением, Павел Иванович, сделавши вид, будто была обнаружена им в стакане некая соринка и сливши кипяток в стоявшее тут же в углу жестяное ведро, принялся цедить стакан сызнова под нетерпеливое рассыпающееся по залу цоканье. Второй и третий стаканы подобным же образом обращены были нашим героем в помои, а когда же черед дошёл и до четвёртого стакана, изнемогающий от нетерпения Петрушкин не выдержал и срывающимся голосом, со сквозившими в нём нотками негодования, проговорил:
– Милостивый государь, эдак вы всю воду выпустите, и прочим постояльцам уж нечего будет пить!..
– Я кажется, сударь, не просил у вас никаких советов, – полуобернувшись и видя, как у того по лицу и шее пошли красныя пятны, отвечал ему Чичиков. – Я уплатил вперёд за двадцать стаканов чаю, и уверяю вас, что покуда не сочту, что чай сей возможно пить, и что в нём не плавает никаких козявок да соринок, буду поступать с ним по своему разумению.
– Но может быть вы позволите наполнить мне мои стаканы, а затем уж и продолжите свои изыскания в отношении козявок? – спросил Петрушкин строя во чертах лица своего некое подобие насмешливого превосходства.
– Э…э…э, нет! И не просите! А ежели и у вас станут появляться в стаканах козявки, то тут уж придётся ждать мне, а чего, позвольте спросить, ради? – отвечал Чичиков, сопровождая свои слова очередным, проследовавшим в помойное ведро стаканом.
– О Боже! Что за наказание?! – возгласил Петрушкин, нервно забегавши за спиною у Павла Ивановича. Жиденькие его усики жалобно поникнули, а стаканы в подстаканниках, что держал он в руках, принялись возмущённо позвякивать при каждом козьем его шаге. – Ну скажите на милость, долго ли сие ещё будет продолжаться? – проговорил он, разве что не икая от нетерпеливого негодования.
– Я уж имел удовольствие ответить вам, сударь, что мною уплачено вперёд за двадцать стаканов. Налил же я себе покуда что восемь, стало быть, остается всего то дюжина, – сказал Чичиков, поднимая к потолку глаза и загибая пальцы на свободной от упражнений с самоваром руке, так, будто и впрямь собирался пересчитывать остающиеся впереди стаканы кипятка.
Отблескивавший тусклою жаркою медью самовар, хотя и был огромен, но ставлен был смотрителем часа четыре назад, и к сему времени им, надо думать, успели уже как следует попользоваться, оттого—то и кипятку в нём оставалось разве что не на самом дне. Так что струйка воды, лившаяся из его носика, с каждою минутою становилась всё тоньше и тоньше и, наконец, выпустивши из своего опустевшего нутра последний стакан кипятку, самовар точно бы всхлипнул на прощание и совершенно затих. Чичиков же придирчиво рассмотревши кружащий у него в стакане кипяток, удовлетворённо хмыкнул и пошёл назад к своей лавке, где заботливым Петрушкою уж была постлана ему постель.
А нетерпеливый штабс—капитан, дождавшийся наконец—то своего часу, бросая вослед Павлу Ивановичу недружелюбные взгляды, приступил было к самовару, но самовар вовсе не расположен был ему услужить. Он снова всхлипнул, хрюкнул, и выцедивши из своего огромного чрева всего лишь несколько капель воды, сиротливо стукнувших о донце одного из подставленных штабс—капитаном стаканов, замолкнул, теперь уж, насовсем. Однако злоключения бедного штабс—капитана не закончились тем вечером одною лишь этою, сделанной над ним Павлом Ивановичем проказою. Чертыхаясь и ворча он принялся было выкликать смотрителя, а сам, в надежде добыть из опустевшего самовара хотя бы полстакана кипятку, ухватился за его жаркие, не остынувшие покуда бока, пытаясь склонить медную сию машину несколько вперёд. Но жар, томившийся в толстых стенках медного корпуса, опаливши ладони сему неудачнику, не позволил ему этого сделать, и завопивши от боли он выпустил из рук сей трёхпудовый самовар, который тут же рухнул на досчатый, вытершийся пол залы, оглашая её немилосердным грохотом. Что есть мочи дуя на обожжённые свои ладони и выкрикивая ругательства, Петрушкин принялся прыгать по зале, выделывая забавные антраша и высекая из полу уж ставшую привычной Павлу Ивановичу, что следил за ним со своей расположенной у противуположной стены лавки, козью дробь.
Гром от рухнувшего наземь самовара, крики боли, призывы направленныя до смотрителя, козий перестук каблуков Петрушкина – всё смешались в одно, разбудивши многих, из успевших уже устроиться на ночлег постояльцев. Те же из счастливцев, что продолжали покуда ещё спать, не глядя на творившиеся в общей зале безобразия, через минуту также были разбужены потому как ко всему этому бессовестному бедламу присовокупились ещё и вопли самого смотрителя, явившегося на шум и увидевшего лежащий на мокрых досках пола покалеченный, с измятыми боками самовар. Смотритель тут же, не тратя времени даром, вцепился в скачущего по зале штабс—капитана, словно клещами, и стал требовать с него пятьдесят целковых на покрытие убытку, на что Петрушкин, не желавший платить за какой бы то ни было, пускай и огромных размеров самовар подобных сумм, кричал ему в ответ, что таковому самовару красная цена всего—то пять рублей, и что смотритель – жулик. Смотритель же, в свой черёд кричал, что самовар сей казённый, а на казённое имущество цены иныя, за «жулика» же грозился привлечь к суду.
Выхлебавши к тому времени свой чай и с удобством расположившись на приготовленном ему ложе, Чичиков с интересом следил за всеми происходившими в зале событиями, когда на сцену вдруг выступило новое лицо. Правда, справедливости ради надобно сказать, что вначале прозвучал один лишь голос той, что томилась за ширмами в ожидании обещанной ей, изрядное время тому назад, пулярки. Голос сей прозвучал властным контральто дробно и грозно раскатывающим букву «р».







