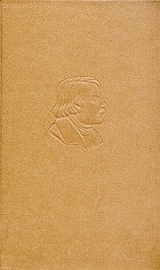
Текст книги "Мертвые души. Том 3"
Автор книги: Юрий Авакян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
ГЛАВА 11
Уж так оно заведено в Божьем свете, что всему свой черёд: и плохому и хорошему. И в том нет ничего дурного, уверяю вас, господа! Хотя, признаться, подобное положение дел, мало того, что не устраивает многих и многих, но порою ещё и страшит их до чрезвычайности. Да чего греха таить, и ваш покорный слуга не раз испытывал душевный трепет при одной лишь мысли о недоступности его пониманию будущности – столь тёмной и столь неведомой до каждого из нас. И в то же самое время одна лишь она и есть единственное, чего по настоящему жаждает человек, по той простой причине, что только будущность и является обиталищем всех его надежд и чаяний, заставляющих всякого, не глядя на понесённые уж им ущербы да уроны, стремить жизнь свою далее.
Что же тут поделать, друзья мои, коли то бренное существование, на которое обречён каждый от мала до велика, прозываемое нами жизнью, соткано всё из таковых тёмных и тесных обстоятельств, что ежели только быть честным, ничего кроме боли, неверия и стыда не могут они вызвать в бедном человеческом сердце. Так что же поделать тут, как только не уповать на будущность, втайне надеясь, что может быть где—то на потаённых её дорожках дожидают нас долгожданные счастье, свет и покой…
Отчего это я вдруг решил заговорить о сем предмете? Трудно сказать, наверное, может быть даже и от того, что подошла к концу громадная моя работа? Та, что может показаться кому—то и замечательною, а кому и вовсе пошлою и не стоящею того, чтобы посвящать ей целую жизнь.
Так для чего же создавалась сия поэма, коли здесь в юдоли земной ничего толком и понять невозможно и не существует, как принято думать, окончательных ответов на все те вопросы, что задает нам жизнь? Из одной лишь игривости ума, коей Господь наградил меня с избытком, предпринял я столь неожиданную попытку? Или же вящей славы ради, либо ещё какого искушения, не побоявшись показаться смешным, прилагал я безумные усилия свои, стремясь побороть и испепеляющий всё жар пламени, пожравшей некогда великое творение, и глухое молчание самоей Смерти, что, может статься, во первой только раз и выпустила что—то, даже пускай и горсточку этих вот строк, из своей леденящей длани?
Нет, господа, как то кому будет угодно, но я твёрдо знаю, что всё содеянное мною, содеяно по промыслу Божьему. Потому—то и ответы, коих терпеливо дожидается верный мой читатель, будут, обязательно будут даны. И тому уж недолго осталось. Уж всего—то несколько страниц надобно перечесть вам, друзья мои, и всё тогда расстановится по своим местам, сделавшись вдруг простым и понятным! И все слёзы высохнут и раны зарастут, но уж верно откроются и новые раны, уж новые слёзы потекут по иным, пускай и незнакомым до нас щекам, и новая рука, обмакнувши перо в чернила, потянется к чистому белому листу бумаги, но то уже будет другая – не наша история.
* * *
Промерзающая ночною порою земля по утру убирала потемневшие бурые травы кружевными узорами инея, выбеливая не одни лишь только поля и перелески, раскинувшиеся вокруг, но и саму дорогу, оборачивая все придорожные кочки да камни в некия подобия пушистых белых зверушек, мирно прикорнувших у обочины. Встречаемые по пути лужи уж все до одной затянуты были прозрачным, словно стёклы, ледком, звонко трещавшим и ломавшимся под копытами запряжённых в коляску коней. А зябкость, словно бы висевшая в воздухе, проникала и вовнутрь коляски, заползая даже и под меховую полость, в которую кутался Чичиков.
Долгие вёрсты, пройденные его экипажем, потерялись уж далеко позади, уж пересёк он громадные пространства, что отделяли Сибирь от России, покуда не ощутил промозглое и пробирающее чуть ли не до костей, дыхание северной нашей столицы. Дыхание, в коем слышалось сильное присутствие студёных ветров, летавших над этими близкими до холодного моря российскими просторами, уж отданными в безраздельное владение хмурой и поздней осени. Ворох сочиненных и выправленных Чичиковым с таковыми трудами бумаг, что в самое короткое время должны были обратиться в капиталы, в состояние, коего он с беспримерным постоянством и усердием добивался, подогревал его нетерпеливое стремление к Петербургу, ещё терявшемуся где—то за висевшею над землею тёмной небесной хлябью.
Дальняя дорога, равно как и связанное с нею путешествие, по мнению многих должна быть обязательно наполнена увлекательными, а может быть даже и романическими событиями. Да и я не один день, проведший в пути, склонен считать путешествие наилучшим из времяпрепровождений, выключая, конечно же, сочинительство. Хотя спроси кто нынче у Павла Ивановича его мнения, вряд ли бы тот сумел ответить что—нибудь вразумительное. Потому как он с нетерпением ожидал окончания этого равного Одиссее пути, ожидал с тем же нетерпеливым чувством, с коим узник дожидается заветного скрыпа, закрывшихся за его спиною тюремных ворот.
День, коего искал он с таковым неистощимым терпением, был уже рядом, был уж близок. Уж вот—вот как должны были распахнуться над неугомонною головою нашего героя небесные закрома, из которых полетят, посыплются на него наместо Божеской милости бумажки ассигнаций и банковских билетов. Вот почему ему вовсе было не до тех сантиментов, на которые столь горазды мы – сочинители. И тем не менее, на том долгом пути, что проделал он возвращаясь из Сибири, с ним всё же приключилась одна весьма поучительная встреча, произошедшая где—то на окраине некого городишки и оставившая в душе Павла Ивановича заметный след.
Случилось же сие приключение тем самым манером, каковым обычно и случаются подобные происшествия, начинаясь с самого сущего пустяка, глядя на который по прошествии времени видишь, однако, что то был вовсе и не пустяк, а замешалась тут толи нечистая сила, толи перст Судьбы, хотя, признаться, порою и бывает трудно сказать, чем же одно отличается от другого.
Так было и тут; велел Чичиков Селифану остановиться перед какою—то мелочною лавчонкою, ничем, признаться, не отличавшейся ото всех прочих мелочных лавчонок, что держит на Руси люд известного покрою и пошибу. К коему относятся и неумелые да нерадивые купцы, крестьяне, сумевшие разжиться какою—то деньгою, разорившиеся вконец мелкопоместные дворянчики, верно и позабывшие о своём дворянстве и, словно бы само собою, перекочевавшие в какое—то иное, непонятное никому сословие, да и просто городские обыватели.
Зашедши в лавку, в коей царил полумрак, настоянный на густом духе чеснока, огуречного рассола и мыла, что горкою лежало на полке, Чичиков проследовал к прилавку, за которым, распластавши обширные свои груди, спала, похрапывая, довольно молодая ещё баба, как надобно думать и бывшая владелицею замечательного сего заведения. Постучавши костяшками пальцев своих о конторку, Чичиков произнёс нараспев:
– Просыпайся, милая, а не то весь товар свой проспишь!
На что встрепенувшаяся лавочница, выворотивши зевотою с несколькими уж выкрошившимися зубами рот и поведя с хрустом могучими плечами, воззрившись на Чичикова, ещё не вполне отошедшим ото сна взглядом, спросила:
– Чего изволите, сударь?..
Спросила с таковою ленью и безразличием в голосе, точно хотела сказать: «А шёл бы ты отсюда подобру—поздорову, наместо того чтобы мешаться под ногами!».
Павел Иванович назвал приведшую его в сей уголок потребу, на что лавочница отвечала:
– Обождите маленько, сударь, – и потому как нужной вещицы в лавке не оказалось, она обернувшись к тёмной, ведущей куда—то во глубину помещения двери, принялась выкликать кого—то.
– Эй ты, дурень, ну—ка, поди сюды, скотина ты эдакая! Слышь, кому говорю, поди, сюды, ежели не хочешь отведать сызнова палки!
На эти ёе восклицания из—за тёмной двери послышались какие—то шорохи, поскрыпывания да позвякивания, и в растворившуюся дверь прошла некая фигура – сгорбленная и заросшая седым волосом, длинными космами свисавшего с её головы. Фигура сия облачена была в дранный испещрённый заплатами армяк, наброшенный чуть ли не на голое тело. На ногах же у ней, и сие показалось Чичикову более чем удивительным, надеты были цепи на манер арестантских, звеневшие при каждом шаге.
Что—то показалось Павлу Ивановичу весьма знакомым в облике этого, столь неожиданно появившегося в лавке, существа. И спина горбатая, обтянутая сказанным уж армяком, и взгляд жалобный и в тоже время цепкий, мелькающий из под седых клочковатых бровей, и руки сухие, точно птичьи лапы, оплетённые жилами и словно бы постоянно что—то ищущие.
«Батюшки светы! Да никак это Плюшкин?!», – подумал Павел Иванович и пристальнее вглядевшись в заросшую физиогномию сам себе и ответил:
«Да, именно, что Плюшкин! Вот, стало быть, куда его недобрыми ветрами занесло!»
Это и вправду был Плюшкин, старый наш знакомец, что по словам Манилова, будто бы раскаявшись в своей скаредности и сребролюбии, отписавши всё своё имение наследникам, пустился в путь по Руси—матушке, посещая монастыри и иные святые места, дабы подобным подвигом очистить душу от мирской скверны.
Однако, как явствовало из нынешнего, истинное его положение довольно далеко отстояло от той замечательной картины, что рисовало некогда воображение Манилова, коей потчевал он в своё время и Павла Ивановича.
– Что же это он у тебя на цепи сидит, ровно собака? – спросил Чичиков у лавочницы, не подавая, однако ,виду, что может быть знаком с несчастным, уж отправившимся в кладовую за нужною Павлу Ивановичу безделицею.
– Да как же, батюшка, без цепи—то? Ведь не ровен час, сбежит, а мне тогда ответ держать перед полицеймейстером. Ведь он, как есть, вор! Не глядите, что с виду хилый, а у купца Какушкина цельную подводу с репою свёз со двора. Впрягся наместо коня и поволок, так что только у главного тракту и споймали, – отвечала лавочница, весьма подробно и правдиво пересказавши ту историю, что приключилась с Плюшкиным.
– Вот ежели бы кто уплатил за него пятьсот целковых, его, стало быть, и отпустили бы под залог. Только толку, я вам скажу, в том никакого нету. Потому как тут же чего—нибудь сопрёт сызнова, и сызнова же и попадётся. Уж кажись и наказан, и кажный день его от меня обратно в острог забирают, ан нет, засунет себе под армяк то одно, то другое, так что иной раз и не углядишь, – посетовала лавочница.
Тут в лавке вновь раздался звон цепей и Плюшкин, с горящею свечою в дрожащей руке, появился из кладовой, сказавши, что не нашёл нужного Чичикову предмета, кажется то были сапожные щётки. Лавочница тут же накинулась на него с бранью, стукнувши довольно сильно по горбатой спине, так что разве не гул пошёл по лавке. Но Плюшкин, точно бы не слыша брани и не чуя побоев, уставился на Павла Ивановича водянистыми своими глазами.
– Батюшка, спаситель мой! – проговорил он хриплым, срывающимся на слезу голосом. – Это вы! Это вы! Я вас признал, голубчика! Ангела, посланного мне Господом! Батюшка, заберите меня отсюда, я не могу тут! Я гибну! Уж мне недолго осталось, не хочу подыхать, как собака на протухлой соломе! Хочу, чтобы кровать была настоящая и простыня, и всё прочее, как положено! – плача говорил Плюшкин, и свеча тряслась и мигала в тонкой старческой его руке.
– Так, стало быть, судырь, вы его знакомый? – спросила лавочница и, увидавши, как вспыхнуло краскою и пошло пятнами лицо у Павла Ивановича, кивнувши головою, сказала. – Ага, так и есть: знакомец!
И тут же сменивши прежний свой тон на ласково примирительный и вторя Плюшкину, которого минутою назад бранила самою чёрною бранью, принялась уговаривать Чичикова «выкупить» старичка, расхваливая того на все лады, словно тот был ещё какой товар, завалявшийся в её лавке. Однако Чичиков состроивши во чертах чела своего выражение каменное, охладил ея пыл, заявивши, что никогда не имел счастья быть знакомым с посаженным на цепь Плюшкиным, а посему никого ни спасать, ни выкупать не намерен.
– На то у вас должны иметься настоящие знакомые, а не вымышленные, да к тому же ещё и родственники! Вот к ним и обращайтесь! – сказал Чичиков, вознамерившись покинуть лавку.
На что Плюшкин, зарыдавши в голос, юркими семенящими шажками оббежал вкруг прилавка и бросившись на пол лавки обвил сапоги Павла Ивановича костлявыми своими руками, в коих обнаружилась немалая сила, вследствие чего Чичиков не сумел сдвинуться с места, чему был удивлён.
– Батюшка, это вы, батюшка! Я признал Вас, признал! – плакал Плюшкин, осыпая пыльную обувь Павла Ивановича поцелуями. – Вспомните же и вы меня, Христом Богом вас молю! Вспомните, как торговали вы у меня «мёртвых душ»! Ведь я Плюшкин, Плюшкин! Вы ещё тогда ликерчику у меня выкушали, не погнушались. Не погнушайтесь и нынче помочь старичку! Батюшка, дай мне Бог памяти!.. Батюшка, Павел Иванович, я ведь признал вас, признал! Уплатите же за меня эти несчастные пятьсот целковых, вызволите же меня отсюда, а я вам, право слово, всё своё состояние отпишу, и будете вы тогда богатым человеком!
И новые потоки слёз пролились на сапоги Павла Ивановича, оставляя на них тёмные крапины.
– Нет, положительно вы обознались, сударь! И отпустите, ради Бога, мои сапоги, потому как мне надобно следовать далее. Тем более, что я уж сказал и повторяю вновь – вам надобно снестись с кем—либо из своих родственников, коли таковы уж ваши нынешние обстоятельства…
Но Плюшкин прервал сию назидательную и полезную мысль нашего героя очередною порциею слёз и причитаний.
– Батюшка, спаситель вы мой, так разве я не снесся бы с ними, коли помнил свой адрес! Ведь у меня голова точно ватою набита и я ни губернии, ни уезда, ни даже имения своего названия вспомнить не могу! В том—то и вся беда, а вас я вспомнил, батюшка, потому как редкой доброты вы человек! Освободили меня старика от уплаты податей в казну, освободите же и нынче, соблаговолите же оказать помощь бесприютному! Век за вас Господа Бога молить буду!
– Ну вот, опять вы за своё, сударь. Извольте видеть, можно сказать, разве что не изорвали мне платья! Чёрт знает что такое!.. – осерчал Чичиков.
– Свят, свят, свят! – торопливо стала креститься лавочница. – Не поминайте окаянного, грех это, нехорошо, вашество, Павел Иванович!
– И ты туда же, милая? – сказал Чичиков, осторожно высвобождаясь из плену. – Ну какой я вам обоим Павел Иванович?! Я, как есть купец жидовского сословия, именем Мордыхай Лазаревич. И заглянул я к тебе в лавку, чтобы приобресть сущую безделицу. Вот, к примеру, дюжину сальных свечей, – сказал он, глянувши на оплывавшую на прилавке свечу, ту, что давеча дрожала у Плюшкина в руках. – Но коли у вас тут и свечей нету, то, стало быть, загляну в какую другую лавку. Может быть, там всё нужное мне сыщется.
Однако свечи были ему тут же отпущены, посему расплатившись с лавочницею и не глядя на проливавшего слёзы Плюшкина, он покинул лавку, унося с собою сальные свечи, которые вряд ли могли бы пригодиться купцу жидовского сословия, потому как топлены, были из свиного сала.
Но справедливости ради надобно заметить, что Чичиков не кинул несчастного Плюшкина в беде, как о том можно было судить по приведённому выше эпизоду. Вовсе нет, господа. Просто будучи человеком практического складу он понимал, какою забирающею время волокитою может обернуться для него дело, связанное с вызволением Плюшкина. Вот почему остановившись у первой же встреченной им на пути почтовой станции Павел Иванович отправил пару писем по хорошо известным ему адресам. Одно из них даже было написано на гербовой бумаге и пошло, как надобно думать, в некие официальные инстанции. Так что через месяц с небольшим Плюшкин, отмытый до блеска от покрывавшей его арестантской грязи, причёсанный, надушенный и укутанный в шубы, отправлен был в NN—скую губернию в сопровождении того самого зятя, коего он с таковым усердием некогда поносил. Отправлен был в своё родовое имение, где под присмотром дочери и в обществе ласковых внуков проведёт он последние месяцы несчастливой и непонятной жизни своей, таская у внуков печенье с конфектами и складывая их горочкою под кроватью. Настоящей, рубленной из орехового дерева кроватью, всегда покрытой чистыми и белыми как снег простынями.
* * *
Въехавши в Петербург, Чичиков велел Селифану не мешкая править в К—ную улицу, к дому Ивана Даниловича Куроедова, того самого по мозговым болезням доктора, чья супруга некогда, а в сущности совсем недавно, была свезена из дому непотребным Ноздрёвым. Как казалось Чичикову, бедный доктор был бы рад приютить нашего героя, в своём опустевшем доме, тем более что искренне почитал Павла Ивановича за своего друга. Да и Чичикову сие было бы не в пример удобнее и выгоднее, нежели томиться в каком—нибудь постоялом дворе, либо иных съёмных нумерах.
Потому как время было уже вечернее, Павел Иванович не сомневался в том, что хозяин наверняка уж должен был быть дома в обществе собиравшихся в его гостиной старичков, а сие означало, что ему будет оказан достойный приём. И верно, подкативши к дому увидал горевшие за окнами свечи, услыхал приглушённые голоса и смех, долетавший сюда из комнат.
Поднявшись по каменным ступеням высокой лестницы, Чичиков трижды дёрнул снурок колокольчика, отозвавшегося знакомым ему с прежних времён звоном. Через минуту раздались в прихожей мелкие шажки, щёлкнул ключ в замке и из—за приотворённой двери выглянула хорошенькая головка горничной с кружевною наколкою, пришпиленною к волосам.
«Однако же, где прежний лакей? Ай да Иван Данилович!..», – подумал Чичиков несколько опешившись.
– Как о вас доложить? – вопросительно глядя на топтавшегося у дверей Чичикова, спросила горничная.
– Ступай—ка, передай Андрею Даниловичу, что к нему с визитом Чичиков Павел Иванович; он знает…– отвечал Чичиков.
Ничего не сказавши, но, однако же, несколько странно взглянувши на него, горничная впустила Чичикова в переднюю и, пожавши плечами, отправилась с докладом в гостиную, из которой доносились всё те же весёлые голоса.
Ждать Чичикову пришлось недолго, потому что двери гостиной залы через самое короткое время растворились, но наместо Ивана Даниловича в прихожей появилась Наталья Петровна, та самая беглянка, которую Павел Иванович менее всего рассчитывал здесь сегодня повстречать, и сие, надо сказать, слегка его смутило. Однако же герой наш был далеко не тот, кто мог бы долго пребывать в смущении.
«Стало быть, вот оно как! Воротилась, стало быть!», – подумал он и, выступивши навстречу хозяйке, вместе с целованием ручки и с хитроватою улыбкою, поднимая на неё глаза, сказал:
– Рад, очень рад видеть вас в добром здравии, уважаемая Наталья Петровна, хотя, признаться, и не думал, что придётся свидеться вновь!
На что Наталья Петровна, пригласивши Чичикова в малую свою гостиную, отвечала, что и она очень рада его неожиданному визиту, и тоже не чаяла уж более с ним повстречаться.
– Да всё дела, дела, матушка. Не дают они мне покою, вот и приходится колесить по городам и весям, – отвечал Чичиков. – А как Иван Данилович? Что же не вышел? Али со здоровьем нелады? – спросил он в свою очередь.
– Ах, это таковая беда, таковая беда, что мне и говорить об этом больно, – отвечала Наталья Петровна, горестно склонивши голову. – Вы, конечно же, Павел Иванович, не можете того знать, но у Ванечки моего внезапно сделался удар! И так некстати, так неожиданно, именно в то самое время, как пришлось мне сопровождать вашего больного друга с тем, чтобы сдать его на руки родным и близким. Посудите сами, хороша была бы я, бросивши того в столь тесных обстоятельствах. Да и Ванечка мой меня на сие благословил. Сказал: «Поезжай, голубушка, потому как мне это уж не по годам, уж не в мочь, а ты прояви сострадание к ближнему из одного только простого человеколюбия!». Да вам ведь и без того известно, каковой души был Иван Данилович!.. – сказала она, понуривши голову и прикладывая к глазам белый атласный платочек.
– Вы сказали, был, сударыня?! Так что же это, он, стало быть, уж и помер?! – изумился Чичиков, всё ещё надеявшийся увидеть доктора, пускай и прикованным к постеле, но достаточно живым для того, что бы у него квартироваться, с досадою подумавши при этом:
«Вот так оказия! Надо же, довела таки несчастного бедняка бесовская баба!»
– Да тому уж три месяца как минуло! – сказала Наталья Петровна, сызнова прибегнувши к помощи платочка. – Я как только прознала о приключившейся с Ванечкою беде, тут же кинула всё. Тем более, как выяснилось о вашем друге весьма и весьма есть кому заботиться. Оказалось, что у него в поместье проживает ключница с целым выводком ребятишек, да я думаю вам, Павел Иванович, сие известно не хуже моего, – при сих словах лицо новоиспечённой вдовицы Куроедовой передернуло некою гримасою, но она тут же совладала с собою и воротившись к прежнему продолжала.
– Так вот, я кинула всё и уж днями была у постели любезнаго супруга моего, служа ему наместо сиделки во все те тягостные дни и ночи, что отведены были нам напоследок Провидением, и уж не покидала его до конца!
«Ещё бы не «кинуть всё» и не прискакать сюда ко смертному одру «любезнаго супруга», когда подобное имущество могло бы перейти Бог знает в чьи руки. Один только дом с полмиллиона будет!», – подумал Чичиков.
– Нынче же я отдалилась от света, живу одна со своими мыслями и со своею бедою, потому как не сыскать мне уж более человека, подобного незабвенному Ивану Даниловичу моему… – продолжала Куроедова, всё так же поникнувши головою.
Но тут двери в малую гостиную отворились и в комнате возникнуло две фигуры в чёрных в облипку сертуках и весьма фатоватые. В гостиной явственно сделался слышным смех и голоса, доносившиеся снизу из большой залы, к коим присоединилось ещё и треньканье рояля, а также поплывший по воздуху запах парфюма, как надобно думать, исходивший от сказанных уж нами фатоватых фигур.
– Наталья Петровна! Наташенька!.. – заговорили фигуры в один голос, что ещё более добавило им фатоватости. – Где же вы, голубушка? Уж заждались все, не желают без вас начинать!
– Ах, я сейчас ворочусь, одну лишь ещё минутку, господа! – отвечала фигурам Куроедова, а сама оборотясь к Чичикову сказала:
– Это родственники моего Ванечки. Собрались нынче у меня, по семейному, обсудить некие насущные дела, почему я и прошу меня извинить за то, что не сумею уделить вам сегодня, Павел Иванович, должного внимания. Однако вы вольны навестить меня в любое иное время. Я всегда буду рада такому гостю, – с этими словами она поднялась с софы, на которой сидела и, протянувши на прощание Чичикову руку для целования, можно сказать, выставила того вон.
Герой наш протянутую ручку, конечно же, поцеловал и даже шаркнул ножкою, но на крыльце сплюнул в сердцах на каменные ступени, отвесивши к тому же Куроедовой пару таковых эпитетов, на каковые не отважится и наше перо. Усевшись в свою коляску, велел он Селифану отвезти его к привычному уж до него Труту, а сам, запахнувши полость, вознамерился было согреться, потому как помимо промозглого ветру чувствовал ещё и неприятный холод, исходивший точно бы из самого нутра.
Нынче в нём мешалось сразу словно бы несколько чувств – и негодование, вызванное оскорбительным приёмом, и досада оттого, что не удалось устроиться с выгодою для себя в большом и удобном для проживания доме, и тоска, вызванная известием о кончине Ивана Даниловича, о котором, надобно признаться, он вовсе не сожалел. Просто тоска сия связана была с обыденным, и, казалось бы, хорошо известным каждому рассуждением, обретшим вдруг для Павла Ивановича черты бессовестной и наглой бабенки, той, что минутами ранее выставила его за дверь.
«Вот так оно и бывает, – думал Чичиков, – всю жизнь бился, бился человек, точно рыба о лёд. Стремился сделать карьер, нажить деньгу, имущество приумножить, и тут разом всё исчезнуло! Даже и не то, что пошло в распыл, доставшись гнусной и развратной бабе, а именно, что исчезнуло для него, так, точно всего этого нажитого им богатства никогда и не существовало. Казалось бы, ещё только вчера ходил по земле, знался с иными людьми, тоже не последнего пошибу и враз всё исчезнуло!.. Словно и вправду некто задул свечу и опустилась вокруг тебя кромешная тьма, в коей уж ничему нету места, даже и твоей собственной персоне!..»
Тут уж Павлу Ивановичу, едва лишь пришла ему в голову сия, пускай и не блещущая новизною мысль, сделалось совсем худо. Он вовсе не желал додумывать её до конца, точно бы предчувствуя, что продолжение этой мысли может быть ещё более огорчительным, неприятным и имеющим прямое касательство до него. Но, не обращая внимания на это его нежелание, мысль стала вползать к нему в душу скользкою и холодной змеею.
Ледяной страх, распространяемый незримою этой змеей, сделался уж вовсе нестерпимым, и герой наш, рванувши меховую полость коляски, принялся колотить пухлым своим кулаком в спины сидевших рядком на козлах Селифана и Петрушки, понося их на все лады и пеняя и на тихий ход коляски, и на необоримую их глупость и темноту, которые, по словам Чичикова, являлись источником и причиною всех, когда—либо, постигавших его бед и несчастий. Сей неожиданный наскок, возымел действие, слуги встрепенулись, Селифан защёлкал кнутом, кони побежали резвее, а Чичиков почуявши, как у него странным образом отлегло вдруг от сердца, повалился на подушки сидения и уже в весьма сносном расположении духа явился к Труту.
Утро следующего дня было ничуть не лучше предыдущего. Ветер свистал за окошком снятого Павлом Ивановичем нумера, дождь впополам со снегом летал в воздухе, мешаясь в некое подобие жидкой каши, ложившейся на крыши домов и сараев, укрывавшей мостовые и тротуары, дабы быть перемешанной сапогами снующего взад и вперёд люда в совершенно чёрную, текущую жижею, слякоть. Однако ненастная сия погода не могла заставить остаться героя нашего в нумерах, тем более что в Петербурге об эту пору дожидаться лучшей погоды можно до самой весны. Вот почему Павел Иванович надушившись по своему обыкновению сразу несколькими парфюмами и одевшись потеплее, поспешил ко знакомому уж нам по предыдущему повествованию Земельному Банку, очень рассчитывая на встречу с секретарем Кредитного комитета Коловратским, с коим у него ещё весною состоялась беседа, весьма и весьма обещавшая.
В Земельном Банке он был, как и во первой раз, препровождён швейцаром в большую, сиявшую роскошью залу, в которой множество чиновников махая перьями отдавались целиком служению родимому Отечеству нашему. Разглядевши в углу круглую и гладкую, словно биллиардный шар, голову Коловратского, Чичиков испытал кольнувшее его в сердце радостное чувство, как оно всегда бывает при встрече с долгожданным и дорогим до тебя существом.
Коловратский, заполнявший лежавший пред ним на столе серый формуляр, увидавши краем глаза приблизившуюся к нему фигуру Чичикова, замахал пером ещё усерднее, делая вид, что вовсе не замечает подошедшего к его столу просителя. Однако Павел Иванович, как хорошо уж знакомый с его уловками, не дожидаясь приглашения, уселся на стул, стоявший подле и вытянувши из кармана заготовленную заранее ассигнацию, подсунул её под лежавшие на столе бумаги. Но Коловратский и глазом не моргнул, один лишь только кончик его птичьего носа сделался розов. Помахавши ещё с полминуты обгрызенным пером, он отложил недописанный им формуляр и глянувши на Павла Ивановича сказал:
– Признаюсь, сударь, что не могу припомнить вас, но сердцем чую, что видимся мы с вами не в первый раз, и оттого, стало быть, уж знакомы.
– Истинно, что так, милостивый государь! Хотя во прошлую нашу встречу вы обещали, что не позабудете не токмо меня, но и моего дела. Вот посему—то и уповая на сие обещание и отважился я вновь обеспокоить вас своим визитом. Тем более, что все необходимые, сказанные вами бумаги мною уж выправлены и все нужные справки получены, – отвечал Чичиков.
– Но вы не должны держать сердца на мою забывчивость. Такова уж особенность нашей службы, сударь. Посудите сами, каковое число просителей проходит предо мною ежедневно. Так что ежели бы я запоминал всякого, то уж без сомнения заболел бы горячкою мозга, – сказал Коловратский.
– О нет, милостивый государь, я вовсе и не думаю обижаться, потому как прекрасно вас понимаю. Ибо и самому довелось служить в своё время и я знаю, насколько он нелёгок: и чиновничий труд, и чиновничий хлеб. Это только господа щёлкоперы горазды строить над нашим братом всяческие насмешки. А заставь ты их каждый день отправляться в Присутствие, не глядя ни на погоду, ни на здоровье, ни на расположение духа; заставь переписывать все эти бумаги, от коих зависит судьба не одного лишь какого просителя—замухрышки, а порою и всего Отечества нашего, они запели бы тогда по иному! Нет, признаться по чести, ежели была бы только моя власть, то я всех этих писак, да бумагомарак определял бы отслужить пару годков, пускай и по девятому классу, вот тогда—то, хлебнувши с наше, перестали бы они изощряться в остроумии! А то что ни водевиль, то чиновник либо вор, либо дурак, что ни комедия, то чиновник опять же – либо дурак, либо пьяница! – желая сделать Коловратскому приятное, горячился Чичиков.
– Правда ваша, сударь, – согласился Коловратский, – и меня порою посещают подобные мысли, потому как, скажу откровенно, в литературе нашей творится форменное безобразие. Такое впечатление, что Цензурный комитет либо спит, либо его нет вовсе. Но, увы, увы, вы совершенно правы, сие не в нашей власти! – и он горько вздохнул, тоже для того, чтобы сделать приятное собеседнику. – Но, однако же, давайте оборотимся к вашему делу. Будьте добры, напомните мне его, и ежели все собранные вами бумаги оформлены верно, то смею вас заверить, с нашей стороны не будет проволочек.
На что Павел Иванович, извлекши на свет кипу справок, купчих и пашпортных книжек, передал их Коловратскому, и тот, аккуратно рядами разложивши бумаги перед собою, приступил к их изучению.
С четверть часа он молча просматривал представленные Чичиковым документы, перекладывая их время от времени из стороны в сторону и, наконец—то, поднявши на Чичикова круглые стёклы своих очков, сказал:
– Ну что же, батенька, всё составлено верно, по нужной форме, так что пишите прошение о кредите, да и оформляйте души свои в залог.
Услыхавши сей одобрительный отзыв, Павел Иванович, начавший уж было волноваться и потеть, просиял лучезарнейшею и счастливейшею улыбкою, однако на словах сказал следующее то, что заботило его более всего.
– Написать прошение недолго, но вы, милостивый государь, верно запамятовали, что дело моё заключалось не только в этом.
– В чём же ещё?.. – спросил Коловратский, с удивлением блеснувши на него стеклами.
– Осмелюсь напомнить, милостивый государь, – начал Чичиков, переходя разве что не на шёпот, – толковали мы во время прошлой нашей с вами встречи о том, что будь у меня какие заслуги перед Отечеством, либо какие награды и прочее, то очень даже было бы возможным получить мне не в пример более, чем по обычному залогу…







