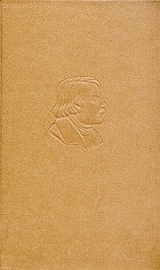
Текст книги "Мертвые души. Том 3"
Автор книги: Юрий Авакян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Вот почему чиновники, разгорячённые спором о Чичикове и вполне объяснимым любопытством в отношении Ноздрёва и его спутницы сочли необходимым послать за ним квартального. Полицеймейстер тут же сочинил к нему записочку и велевши привесть Ноздрёва немедленно, отослал квартального с Богом. Пришедши на квартиру к Ноздрёву квартальный, которому не впервой доводилось выполнять подобные поручения, узрел там необыкновенную картину, вовсе не вязавшуюся с Ноздрёвым. Потому как тот сидел у окна в столь задумчивой и печальной позе, что квартальный поначалу даже не признал было в нём Ноздрёва, но, однако же, распознавши тут же свою оплошность, передал ему записочку с приглашением явиться к полицеймейстер, сей же час, и не мешкая.
Не прошло и тёех четвертей часа, как Ноздёев, сопровождаемый квартальным, предстал пред строгия очи друзей—чиновников с удивлением принявшихся озирать похудевшую его фигуру и физиогномию с торчащими из—за бакенбардов ушами. Появление его, надобно признаться, несколько развеяло всеобщее уныние и чиновники принялись делать ему, как бы невзначай, всяческия вопросы, связанные с его Петербуржским вояжем со спутницею, привезённую им в губернию и прочим, о чём спрашивают обычно у долго отсутствовавшего путешественника.
Но на все сделанные к нему вопросы Ноздёев отвечал несколько уклончиво, обиняками и всё более косил глазами по сторонам то шаря ими в углах, то вперяя взгляд свой в потолок. Одним словом вёл себя так, как ведут себя обыкновенно люди, когда доводится им либо ускользать от ответа, либо попросту врать. Для Ноздрёва же вравшего всегда самозабвенно и разве что не взахлеб, таковое поведение было несколько необычным, что и не укрылось от чиновничьих взоров.
На вопрос о том, кем доводилась ему дама, прибывшая вместе с ним из путешествия, Ноздрёв отвечал, что сие некая родственница вынужденная некоторое время провесть с ним под одним кровом. И хотя ответ сей был самым беспардонным враньем, многие из уже успевших повидать ее чиновников приняли его на веру по причине большого сходства между Ноздрёвым и Наталией Петровной, о чём мы уж не раз имели случай упомянуть. Когда же принялись спрашивать его о Чичикове, он вдруг, неожиданно для всех объявил, что повстречал Чичикова в Петербурге, и даже более того, снимал с ним нумер в одном и том же пансионе, что присутствующие, конечно же, сочли полнейшей ложью.
Затем в комнате воцарилось недолгое молчанье, во время которого чиновники принялись о чём—то перешептываться между собою, поглядывая при этом в сторону Ноздрёва, как бы несколько исподлобья. Однако Ноздрёв, словно бы не чуя странного и небезопасного для него настроения, возникнувшего промеж чиновников, пришёл вдруг в весьма сильное возбуждение и точно бы вспомнивши нечто важное, о чём запамятовал ненароком, принялся ходить по комнате от одного из присутствующих к другому, испрашивая у всякого «мёртвых душ» и всякому же суля по пяти целковых за каждую проданную ему душу.
Тут уж все присутствующие на обеде чиновники заключили, что он как есть вовсе соскочил с ума своего, из чего им и сделалось ясным, что та старая песня его о «мёртвых душах», к коим приплетён был им зачем—то и Чичиков, есть ни что иное, как душевная болезнь его, послужившая к осуждению городским обществом ни в чем неповинного Павла Ивановича и впрямь оказавшегося наповерку миллионщиком. И только тут сделалась им окончательно понятною та роль, что сыграна, была во всей этой истории Ноздрёвым, надоевшим всем точно гадкая и привязчивая болячка. Ведь причиною и тому позору, на который обрекли они «благороднейшего из людей», как сказал о Чичикове полицеймейстер, и внезапной смерти прокурора, и всему тому переполоху с сумятицею, охватившим и город, да и всю губернию в ту пору был один лишь только вздорный и болтливый язык Ноздрёва. Ноздрёва, который словно бы ни в чём не бывало продолжал вести затеянные им было торги, хватая по своему обыкновению присутствующих то за рукава, то за лацканы сертуков. Вот почему сказать, что братья—чиновники разгневались на Ноздрёве – ровным счётом не сказать ничего. И сцена, последовавшая вослед за этим требует скорее пера баталиста, нежели поэта, потому как почтенные городские чиновники разом, точно по команде, бросились на бубнящего нечто о «мёртвых душах» Ноздрёва, нанося тому весьма ощутимые удары и по голове, и по спине, и по осунувшейся физиогномии его.
За всё заплатил в тот вечер сей бедняк: и за позор, пережитый чиновниками, и за фальшивые ассигнации, и за губернаторскую дочку, и, конечно же, за «мёртвые души», к которым, как мы знаем, господа, он был совершенно непричастен, и которых, раз уж пришлось оно к слову, не наторговал по сию пору ни на медный грош.
Но давайте—ка оставим отцов города за сим замечательным занятием, как ни совестно нам в этом признаться, приносящим им глубочайшее удовлетворение, постичь которое в силах разве лишь тот, кто долгое время мучим был нестерпимыми мозолями и вдруг, по воле счастливого случая, сумевший от них избавиться. Что же в отношении Ноздрёва, то он, в конце концов, сумел вырваться на волю, оставляя в руках победителей клочки собственных бакенбардов, как известно довольно привычных к подобным экзекуциям, несколько пуговиц и воротник серого своего сертука, в виде трофея доставшегося почтмейстеру.
Конечно же, можно сказать, что это и были последние события, произошедшие в городе NN по второму пришествию в него Павла Ивановича. Но ежели мы хотим быть до конца последовательными, следя неукоснительно за всеми происшествиями, к которым герой наш был причастен, пускай даже косвенно либо отчасти, то нам следует упомянуть ещё и о некой беседе, имевшей место между двумя дамами, тоже впрочем, хорошо известными нашему читателю. Вот она то верно и была последним упоминанием имени Чичикова всуе, жителями сего замечательного селения.
Происходила она в крашенном тёмно—серою краскою деревянном доме с облупившимися от времени белыми барельефчиками над запылёнными окошками и узеньким палисадником с чахлыми деревцами и сухими унылыми цветами, растущими вдоль фасаду. Всего через несколько дней после учинённой над Ноздрёвым «казни» подкатила ко крыльцу этого дома коляска, приволокшая за собою густыя и толстыя клубы пыли, убелившей и без того блеклую растительность, окружавшую дом. В наезднице, выпорхнувшей из коляски, читатель без труда узнал бы даму, прозванную обществом города NN – «дамою просто приятною», что не глядя на иного фасону платье, нежели то, что надето было на ней в первую нашу с нею встречу и изрядное уж время, минувшее с той поры, мало переменилась во внешности. На сей раз в прихожей, куда прошла она с улицы, встречала её радостным лаем одна лишь лохматая собачонка Адель, потому что малютка Попурри издохнул вскоре после смерти хозяина, может быть и оттого, что не вынес разлуки с усопшим прокурором. Из чего следует, что и покойного тоже кто—то, а любил, пускай даже и собачонка.
На лай Адельки вышла навстречу гостье хозяйка дома, та, что, как помним, прозывалась «дамою приятною во всех отношениях». Нынче она хотя и не носила траура по покойному супругу, но тем не менее всё же ещё подчеркивала свою утрату: платье её всё сплошь усеяно было чёрным горохом по синему полю и перевязано чёрною же лентою у пояса. Довершали сей наряд ещё некоторые траурные детали, как—то: чёрныя шёлковыя кисти, убиравшие грудь, чёрныя же фестончики и чёрныя манжеты, раздвоенныя на манер ласточкиных хвостов, выглядевшие впрочем, весьма изящно.
Дабы не обижать другой дамы и избегнуть обвинения в предвзятости, а так же нашем большем расположении к «даме приятной во всех отношениях», мы опишем и наряд «дамы просто приятной», тем более что на наш взгляд наряд сей заслуживает того, ибо «просто приятная дама» тоже была одета весьма замечательно – в платье жёлтого шелку с толстою зелёною полосою и голубенькими цветочками по фону. Грудь ея топорщилась белым атласным пластроном, собранным в крупную складку, что делало «даму просто приятную», бывшую отчасти тяжеловатою, ещё более привлекательной. Складки же шедшие от лифчика кзади делали ея фигуру ещё более умопомрачительной и достойной пера более возвышенного, нежели наше.
Хотя справедливости ради надобно заметить, что платья, надетые на обеих дамах, при всей той необыкновенной красоте, что мы в меру своего таланта описали выше, поражали взгляд искушённого в подобных вопросах наблюдателя ещё и чрезвычайной схожестью покроя, позволявшей судить о том, что шиты они были по одному и тому же фасону. Вероятно по той самой выкройке, выпрошенной «дамою просто приятною» у своей сестры, как помнится, для одного только смеху. Выкройке, благодаря которой передняя косточка лифчика вела себя совершенно неподобающим образом, вызвавшим в своё время горячее неодобрение у обеих дам, нынче же у «дамы приятной во всех отношениях» толи по неведению, толи по неумению швеи сия косточка позволила себе вытворить такое, о чём и сказать совестно.
– Ах, Софья Ивановна!
–Ах, Анна Григорьевна! – только и проговорили наши дамы, скрепивши краткое сие приветствие звонкими поцелуями.
Признаться, с «дамою приятною во всех отношениях» в то время, что мы не видывали её, произошли некоторые, пускай и незаметные с первого взгляду, перемены. Исчезнула та поэтическая лёгкость, что была присуща ей ранее. Теперь она уже почти что не расставалась с носовым платком время от времени прикладывая его пускай и к сухим глазам, но сие совершенно не отдавало жеманством, потому что всегда производимо было дамою в приличествующий случаю момент и, как и прежде, с большим вкусом. Она уж более не декламировала стихов и многие из знавших ея поэтическую натуру считали это дурным знаком. Мечтательное держание головы производимое ею подчас, то, которым она столь выгодно отличалась ото многих дам города NN, нынче всё чаще сменяемо было ею на глубоко задумчивое держание головы, которое также всегда приходилось к месту и производило большое впечатление на ея знакомых. Во время разговору она словно бы уплывала на волнах своей задумчивости, а затем, как бы спохватившись, переспрашивала собеседника:
– Ах, простите, о чём это вы толковали? Я признаться прослушала, ведь я всё о своём…
Засим следовало прикладывание платочка ко глазам либо прижимание его ко рту, верно для того, чтобы предотвратить грозящее сорваться с ея губ рыдание. И собеседник, моловший по сию пору какой—либо обыденный вздор, вдруг замолкал, устыдясь мелкости своего разговора в сравнении со столь возвышенной и молчаливой скорбью.
– Пройдёмте же в гостиную, Софья Ивановна, – проговорила «дама приятная во всех отношениях» и откинувши голову прошествовала вперёд гостьи, приглашая ея за собою.
О Боже, сколько же трагической грации заключено было в этом её запрокидывании головы, как много сказало бы оно опытному в движениях сердца взгляду! А жест, последовавший за сим, когда она указуя гостье ея место, протянула в молчании руку с зажатым в горсти платочком к дивану, на который уже успела вскарабкаться Аделька?! Нет, право, оценить таковую тонкость невозможно даже и повидавшему виды театральному критику.
– Хорошо, что вы побеспокоились заехать ко мне, милая моя Софья Ивановна, а то я вся в ипохондрии. Тоска уж просто одолела меня, – нараспев произнесла «дама приятная во всех отношениях».
– Погодите, душенька моя, Анна Григорьевна, я вам сейчас такое расскажу, что от ипохондрии вашей не останется и следа, – отвечала ей «просто приятная дама».
– Ах, увольте! Ничто уж ни в силах возродить меня к жизни, милочка, – отозвалась «дама приятная во всех отношениях».
– Это вам, Анна Григорьевна, только так кажется, покуда не услыхали вы моей новости, душечка. Однако призываю вас сохранять нервы. Употребите все силы свои на то, чтобы не лишиться чувств, – сказала Софья Ивановна, – я так просто и свалилась в беспамятстве, услыхавши сие известие. Моя Машка мне и говорит: «Голубушка, барыня, вы просто в беспамятстве, просто без чувств!». «Не до тебя, Машка, – я ей отвечаю, – когда таковые дела в свете творятся!».
– Однако, каковы должны быть те дела, что могли бы лишить вас чувств? – спросила слабым голосом «приятная во всех отношениях дама», клоня печально голову и поднося платочек свой к глазам, в которых вспыхнул уж любопытный огонечёк, уж забилось жилкою волнение на бледной шее, уж застучало сердце в расшитой чёрными кистями и фестончиками груди.
– Только дайте мне слово, что совладаете с собою, – снова потребовала «просто приятная дама».
– Ну, я не знаю, в мёем положении всякое может приключиться, – отвечала, несколько оживясь и поводя плечами «дама приятная во всех отношениях».
– Тогда велите подать заранее воды, либо нюхательной соли. Потому как мне не хочется быть причиною какого—нибудь нервического припадка, какой вполне может с вами сделаться, – скрестивши руки под грудью сказала «просто приятная дама».
– Ах, Софья Ивановна, да не томите вы меня, а я уж постараюсь как—нибудь с собою совладать… Уж ежели сумела я справиться с таковым горем!.., – ответила Анна Григорьевна, несколько даже и назидательно и вновь поднесла платочек ко рту.
– Нет, нет и нет! Велите принесть воды, а не то не скажу, – упорствовала «дама просто приятная».
– Да вы просто изводите меня, душечка, – сказала Анна Григорьевна, – ну да ладно, будь по—вашему.
И оборотясь ко двери, ведущей из гостиной в прочие покои, она крикнула:
– Еропка! Еропка! Подай воды в гостиную!
На зов ея явился вертлявый и чернявый малый, наряженный в камзол шитый золотым галуном и в шёлковые, сидевшие на нём в облипку панталоны. Манерно склонившись над барынею и без церемоний заглянувши ей в глаза, он поставил стакан с водою на столик пред нею, а затем удалился с развязанною улыбкою.
– А где же ваша Глаша? – спросила «просто приятная дама», стрельнувши глазами вослед Еропке, а затем, столь же метким выстрелом поразивши и свою собеседницу, которая, не глядя на то, как побелел кончик ея носика и слегка зардели щёки, отвечала, что Глашу она отослала на кухню по причине ея нерасторопности.
– И давно, душечка? – коротко вопрошала «дама просто приятная».
– Что – «давно»?– отозвалась «дама приятная во всех отношениях».
– Давно ли отослали Глашу?
– Да не так, чтобы и давно, где—то с месяц как будет…
–Надо же, жизнь моя, Анна Григорьевна, это значит я столько времени к вам не наведывалась. Каковой стыд! Каковой стыд! – опешилась Софья Ивановна.
– Да, меня уж многие позабыли. Да и кому я нужна – вдовица! – скорбно проговорила «дама приятная во всех отношениях».
– Нет, не скажите! Верите ли, ведь я до вас первой с сией новостью и примчалась, а ежели и не заезжала, то всё по причине хлопот по хозяйству. Машка моя ну ничего сама сделать не может. За всем нужен глаз да глаз, а не то всё будет не так. Такая, право, растяпа… Однако, душечка, Анна Григорьевна, как вы посоветуете, может быть и мне её на лакея сменить? Только не знаю, будет ли толк?
– Как вам сказать, Софья Ивановна? Я своим Ерофеем довольна. Малый он расторопный и признаться – не глуп. Играет даже и на гитаре, обучен грамоте, и вообще… Одним словом я не сожалею о замене, – ответила ей «дама приятная во всех отношениях».
– Ну, стало быть, коли так, то и я попробую, – проговорила «просто приятная дама», и ея чело покрылось задумчивостью. Она даже примолкнула на мгновенье, явно о чём—то сурьезно размышляя.
– Так что за новость вы привезли до меня, любезная Софья Ивановна, и от чего должна я упасть без чувств? – прервала её размышления Анна Григорьевна. Надо прямо сказать, что она терялась в догадках, потому как предположить могла многое, но ничто изо всего пришедшего ей на ум по её разумению не могло заставить ея лишиться чувств.
– Так вот, держитесь, Анна Григорьевна! Он здесь! – торжественно произнесла «дама просто приятная», сделавши короткий взмах руками в стороны, на манер того, как делает сие пред открытием ярмарки ярмарочный староста произнося при этом: «Ярмарка открыта, господа!».
«Дама приятная во всех отношениях» признаться сразу и не догадалась, кого имеет в виду её гостья. На какое—то мгновение ей даже почудилось, что не покойный ли ея супруг восстал из гробу и явился сюда для того, чтобы хмурить свои густые удивлённые брови на Еропкины панталоны в облипку, да мигать на всё сердитым своим прокурорским глазом. Но она скоро поняла, что такового просто не может быть, поняла сие хотя бы и по тому полному торжественной радости тону, каковым никто и никогда не объявляет о прибытии прокурора.
– Не пугайте меня, Софья Ивановна! Кто это – он, и где это – здесь?– спросила она, теряясь в догадках.
– Как это – кто?! Наш прелестник! Он воротился снова по своей какой—то надобности до капитана—исправника, – отвечала Софья Ивановна.
Тут надо сказать «дама приятная во всех отношениях» почувствовала большое замешательство. С одной стороны, конечно же, надобно было бы впасть в беспамятство, потому как поэтичность и возвышенность ея натуры давно уж всем были известны, но с другой стороны возникали и некоторые препятствия весьма деликатного свойства. Во—первых, потерею чувств она как бы признавала справедливость, пускай и давних намеков Софьи Ивановны на неких дам, лишь только играющих роль недоступных, а на деле готовых на многое, о чём лишь шепчутся в гостиных да спальнях. Второе же соображение вытекало из воспоминания о том, как пошли они когда—то бунтовать город против Чичикова, и поэтому «приятной во всех отношениях даме» казалось верхом жеманства устроить нынче припадок. Потому как она обладала натурою лишь возвышенною да поэтическою, жеманною же – никогда! Вот почему и отвечала она своей гостье сухим и холодным тоном:
– Да, пускай эта новость и из ряду вон. Но что касается до меня, Софья Ивановна, то я имела уж случай говорить вам, правда это было давно и вы, стало быть, запамятовали, но смею напомнить – я считаю его совершенно обыденным и неинтересным господином, да и нос его я тоже назвала тогда самым неприятным носом.
– Позвольте, матушка моя, Анна Григорьевна, да при чём тут нос, когда открываются таковые виды!..
Но дама «приятная во всех отношениях» не дала ей договорить и перебивши свою гостью, сказала:
– Я, конечно же, понимаю, что в городе нашем сыщется немало дам по сию пору неравнодушных к нему и это, заметьте, при живом то муже, – тут она сделала остановку в словах и выразительно посмотрела на Софью Ивановну, – но, однако это положительно не про меня. Я и сейчас, вдовея, далека от подобных мыслей и поступков, – добавила она, глядя на то, как щёки «дамы просто приятной» запылали румянцем.
– Не знаю, душенька моя, кому адресуете вы ваши намеки, но и я, смею вам донесть, тоже далека от мыслей и поступков, – отвечала та, – и ежели и приехала к вам, то лишь по той простой причине, что хотела отвлечь вас ото всех этих ваших воздыханий по покойнику, которые и вас саму сведут скоро в могилу.
При этих словах Софьи Ивановны дама «приятная во всех отношениях» глянула мельком в висящее на стене зеркало и убедившись, что довольно ещё хороша собою и ни о какой могиле речи покуда не может и быть, отвечала:
– А мне и осталось в жизни разве что грусть да печаль. Я этим только и живу, это и есть моя жизнь, мой воздух, которым я дышу и напитываю силы и с этим я и уйду!.., – сказала она и ещё раз глянувши в зеркало, оправила кисти на груди, дабы они не путались бы и выглядели пышнее.
– Ох, не хотела я вам этого говорить, но право слово, было бы из—за кого! Ведь о супруге вашем покойном доброго слова не скажешь. Ведь всякий, даже и из его друзей, как вспомнит, так плюнет. Изо всех покойник—то ваш, царство ему небесное, кровушки попил. Изо всех – без разбору. Правый ли, виноватый, друг ли, враг – ему всё одно было. Сколько раз, помню, и муж мой ему в конверте то четвертную, то сотенную отсылал.
«А как не отослать, – говорит, – голубушка? Ежели он прилепится, как крючок к какой—нибудь малости, вопьётся так, что только деньгою и откупишься».
– Попрошу вас, сударыня, не сметь говорить в таковом тоне о моём покойном супруге! Это был святой человек! Святой! Святой! Он ни у кого не взял и копейки во всю свою жизнь!.., – воскликнула «дама приятная во всех отношениях», притопнувши при этом ножкою с такою силою, что из ковра укрывавшего пол поднялось облачко пыли и поплыло, мерцая и искрясь в солнечном луче, что пробрался в гостиную сквозь окошко.
– Ну хорошо, пускай «святой», пускай «не брал копеек», и то сказать, кому они копейки—то нужны? Но я, признаться, совершенно не имела в виду вас огорчить, просто и вам надобно уж оглядеться по сторонам, чаще бывать в свете, а то вы вовсе отдалились от общества. Это нехорошо!.. – сказала «дама просто приятная».
– А может быть мне совершенно неинтересно то общество, что может принимать столь скомпроментировавшего себя человека? Человека, который, подумать только, хотел свезти из дому губернаторскую дочку. Это небесное создание, этого ангела во плоти. Да его достаточно только за одно это четвертовать! А вы говорите – «прелестник, прелестник». Преступник он, вот что я вам скажу! – поднявши подбородок и горделиво поведя плечами произнесла «приятная во всех отношениях дама», так что и тут театральные наши критики ничего не смогли бы сказать дурного.
Надо думать, что она не без умыслу помянула Чичикова, намереваясь таковым образом сызнова навесть Софью Ивановну на сей, бывший ей интересным до чрезвычайности, предмет. Однако не тут то было, потому как упоминание о губернаторской дочке сбило «просто приятную даму» с того строя мыслей, к которому подвела было её снова Анна Григорьевна.
– Позвольте, душенька моя, – вознегодовала «просто приятная дама», как это вы можете называть ангелом ту, которую сами же столько раз уличали в манерности и жеманстве? А те речи, что вы будто слыхали из ея уст, те на которые, как вы говорили, и у вас не станет духу, чтобы произнесть их? Я право в замешательстве слышать от вас такое. И потом, вспомните только, как бесстыдно флиртовала она с тем молодым поручиком на балу у предводителя, а ведь тогда она, как помнится, уж была помолвлена со своим нынешним супругом, и вы так же осуждали её за сие бесстыдство. Так что это просто, признаюсь!.., – и она в замешательстве развела руками.
Да, тут «дама приятная во всех отношениях» допустила большую оплошность, заговоривши о губернаторской дочке. Ну что же, поэтические возвышенные натуры, как мы знаем, зачастую бывают непрактичны. Но с другой стороны, каждая дама, казалось бы, должна знать, что ни в коем случае нельзя восхищаться, либо даже высказываться в положительном смысле о какой бы то нибыло иной даме, в присутствии дамы третьей, так же знакомой с дамою превозносимою и восхваляемой. Ибо ничего хорошего изо всего этого выйти не сможет, а выйдет либо обида, либо скандал, либо, простите, сплетня.
Так оно и получилось. Полились слёзы, разразились рыдания, уж вовсе непритворные и платочек, уж точно, используем был по назначению. Одним словом – жалобная картина, на которую трудно было смотреть.
– Это вы мне бросаете таковое обвинение, – приговаривала Анна Григорьевна, перемежая слова со всхлипываниями, – мне, которая за целую жизнь свою не только не сказала, но и не помыслила ни о ком дурного! И за это мне такая расплата! – рыдала она, уткнувшись в диванную подушку.
– Позвольте, душечка, неужто надобно так убиваться из—за пустого слова? Нет, верно, я предупреждала, что у вас сделается нервический припадок от моего известия. Господи, уж лучше бы я вам о нём и не говорила. Ведь как знала, Господи! – принялась причитать Софья Ивановна.
– Какого известия? Вы ведь толком так ничего и не рассказали, – оторвавшись от подушки и кривя плаксиво рот проговорила Анна Григорьевна, – сказали только, что приехал он и больше ничего…о…о!.., – не унималась она.
– Так вы же сами не захотели слушать, – принялась оправдываться «просто приятная дама».
– Это вы не стали рассказывать, а я очень даже и слушала, – пытаясь справиться со слезами, но всё ещё слегка икая, отвечала «приятная во всех отношениях дама». И промокнувши глаза платочком и усевшись поровнее она изобразила во чертах лица своего усердное внимание.
– Ну так знайте, всё, что говорилось промеж городских наших обывателей о нём, всё чистейшая ложь!
– Я так и знала, Софья Ивановна, я так и знала, что это замечательнейший, честнейший человек, – воодушевясь стала было говорить Анна Григорьевна.
– Но это ещё не всё. Он оказывается и вправду миллионщик! Говорят, богат, как Крёз! Деньгам счету не знает. Приезжал выправить какие надобно бумаги по суду. Муж мой сказывал, встречались они тут с капитаном—исправником, так тот говорит – все бумаги подлинныя, и никаких таких нету в них «мёртвых душ», а все крестьяне, как есть живые и выведены им уж за пределы губернии. Так—то вот, душенька моя Анна Григорьевна, каковы дела, – сказала «просто приятная дама» с торжественною улыбкою на устах.
– Постойте, как же это нету мёртвых, а как в отношении остального – насчёт фальшивых бумажек, и такового прочего? – изумилась Анна Григорьевна.
– Ничего этого нету, говорю вам! Всё один только вздор и путаница…
– Да, но помнится, Софья Ивановна, вы сами рассказывали мне, как наш прелест…, то есть господин Чичиков подъезжал к Коробочке, строил куры старухе, с тем только, чтобы приобресть у ней этих самых «мёртвых душ». Это—то, как? – спросила «дама приятная во всех отношениях».
– Никаких кур он Коробочке не строил. Такого я вам сказать никак не могла, а что приезжала она справляться о ценах на «мёртвые души» – это было, это помню. Но и она продала Павлу Ивановичу самых, что ни на есть отборных крестьян, а говорила глупости оттого, что глупа была, ну да царство ей небесное, – отвечала «просто приятная дама».
– Но ведь и Ноздрёв тоже сознался в том, что продал пре…, Павлу Ивановичу «мёртвых душ», – не сдавалась «приятная во всех отношениях дама».
– Так Ноздрёв всё это и выдумал! Будто вы, милочка, не знаете Ноздрёва? Он кого угодно готов оговорить, даже и самого себя. Кстати, я думаю, это он Коробочку и подучил, верно не сошёлся в чём—нибудь с нашим прелестником, вот и решил ославить. Но ведь известно же – дурак, дураком, вот и не сумел выдумать ничего половчее «мёртвых душ», – сказала Софья Ивановна тоном, отметающим всякие сомнения, – по нему давно уж смирительный дом плачет, – добавила она, презрительно кривя губы.
– Да, Ноздрёв, Ноздрёв! Теперь уж видно, что это и впрямь его рук дело. Да и с губернаторскою дочкою всё тоже вышло не так, хотя и наболтали тогда с три коробу всякого вздору. А на поверку—то всё оказалось совсем иначе. Мы—то с вами, Софья Ивановна сразу это поняли, в отличие от многих других, – совсем уж было успокоившись сказала «дама приятная во всех отношениях».
– Кстати, жизнь моя, Анна Григорьевна, слыхали ли вы новость о Ноздрёве? – разом оживясь спросила «просто приятная дама».
– Как, разве он сызнова что—нибудь натворил? Я, признаться, думала, что он нынче в Петербурге, – отвечала Анна Григорьевна.
– Как же! Теперь он уж у себя на квартире в городе. В поместье ехать покуда не собирается, и знаете какая тому причина?
– Нет, признаться теряюсь в догадках, потому как в том, что касается сего господина, пожалуй, ничего не угадаешь наверное, – несколько рассеянно отвечала «приятная во всех отношениях дама», потому, что ей мало интересен был и Ноздрёв и та причина, что могла держать его в городе.
Ей бы хотелось поболее услышать о Чичикове, разузнать, у кого из окрестных помещиков остановился он на постой, а ежели квартирует в городе, то где именно. И тогда, конечно же, послать к нему человека с запискою, пригласить Павла Ивановича в гости к чаю или же на обед. Ведь он так дружен был с ея супругом! Вместе они могли бы помянуть покойного, да и вообще у них, без сомнения, много нашлось бы тем для задушевных разговоров, потому как Павел Иванович был человек редкостной обходительности и учености.
Покуда она думала обо всём этом, Софья Ивановна уж успела рассказать ей и о незнакомке, выдаваемой Ноздрёвым за близкую родственницу, что проживала с ним вместе в его городской квартире, и том, что не едет он в имение потому, что по ея глубокому убеждению боится своей ключницы, живущей у него на правах жены и уже успевшей нарожать Нохдрёву целую кучу ребятишек и о той основательной выволочке, что была устроена ему «отцами города» упомянула она. Но ничего из поведанного ей Софьей Ивановной словно бы и не слыхала «приятная во всех отношениях дама».
Мысли ея были уж далеко, уж и не мысли то были, а скорее грёзы. Уж словно бы отступили стены голубой ея гостиной и на место их нарисовались иные картины. Все они были чудесны, полны солнцем и радостью. Она видела себя то идущей рука об руку с Павлом Ивановичем к алтарю, в прелестном, но в то же время и скромном, как и подобает вдовице, подвенечном платье, то вступающей в огромный Петербургский дом мужа миллионщика, гордою и расторопною хозяйкою, покоряющей своим деликатным обхождением и возвышенностью натуры высшее столичное общество в котором, конечно же, и она не на минуту не сомневалась в этом, вращался Чичиков.
И заграница тоже мелькнула средь этих картинок, но мелькнула как—то невнятно и серо, потому что «дама приятная во всех отношениях» никогда не покидала пределов родимой губернии и посему знакомство ея с заграничными видами случалось лишь мельком, по картинкам, виденным ею то в одном, то в другом из журналов, либо газет, что ранее выписываемы были покойным ея прокурором. Отсюда видать и проистекала некоторая серость цвета пропитавшего мечты ея о загранице, серость присущая типографским клише.
А вот поместье с тысячами нарядных крестьян, вышедших встречать свою барыню—благодетельницу нарисовалось в ея воображении очень живо, настолько, что она словно бы видела каменные морды больших мраморных львов, охранявших мраморную же лестницу, ведущую к великолепному господскому дому, цветные рубахи мужиков и расписные платки баб, сгрудившихся вдоль улицы огромного села, по которой ехала она в карете вместе с супругом своим Павлом Ивановичем… Она несколько раз даже примерила на себя в мыслях его фамилию и осталась довольной – «Анна Григорьевна Чичикова, Чичикова Анна Григорьевна, коллежская советница…», – повторяла она про себя. Но тут мечты ея прерваны были вопросом, сделанным к ней «просто приятною дамою»:
– Ну что вы на это скажете, душечка, Анна Григорьевна?
– О чём вы, Софья Ивановна? Я, простите, несколько увлеклась мыслями и к стыду своему упустила то, о чём вы говорили, – растерянно проговорила «дама приятная во всех отношениях».







