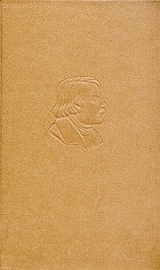
Текст книги "Мертвые души. Том 3"
Автор книги: Юрий Авакян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
– Нехорошее дело, – отозвался Манилов, – и виды на него нехороши. Не знаю даже, что вам и присоветовать, друг мой…
– Вот, Семён Семёнович пишет, что уж и жалоба подана, – Сказал Собакевич, и голос его прозвучал совсем потерянно.
– Ну, жалоба то у меня! Дядюшка её ещё не проводил, как надобно, по инстанциям. Так что если Павла Ивановича каким—либо манером уломать, то сегодня же и будете на свободе, – отвечал ему Манилов.
– Отдайте её мне, я её сожгу и дело с концом, – оживился было Собакевич.
– Сжечь недолго, да что в том толку? Дядюшке только навредите, а неприятель ваш напишет её сызнова, – нашёлся Манилов, и нельзя было не признать, что довод сей был весьма удачен.
– Да, ваша правда, – вздохнул Собакевич, – но что же прикажете делать – не убивать ведь и впрямь сего господина?!..
– Свят, Свят, Свят! Упаси вас Боже! Как это вы эдакое сумели даже произнесть, – перепугался Манилов, – эдак к одному греху хотите присовокупить ещё и другой, самый тяжкий?! Я, конечно же, приписываю сие высказывание ваше расстроенным чувствам, но по совести вам скажу, не пристало вам, как дворянину и слов подобных говорить!
– Да это так, само с языка сорвалось, да и то, извольте, как не сорваться при подобной то комиссии? – принялся оправдываться Собакевич.
– Вот что я вам скажу, любезный Михаил Семёнович. Насколько могу я о Павле Ивановиче судить, то это наиблагороднейший человек выдающихся достоинств и душевных свойств. И нет, уверяю вас, ничего в целом свете такого, чего он не сумел бы понять и простить, – сказал Манилов, проникновенно заглядывая в лицо своему собеседнику.
– Жулик ваш Павел Иванович! Самый, что ни на есть отъявленный жулик и мошенник, – буркнул Собакевич, – вот его то и надобно давно уж сажать в острог, да забривать в каторгу, так нет же, он ещё и жалобы подаёт на порядочных людей!
– Смею уверить вас, вы неправы. Вы не знаете души сего господина, как я её знаю, что и позволяет мне о нём судить с тою симпатией и расположением, коих он поистине достоин. Ну да, сейчас, признаться, и не это главное, а главное ваше дело, посему—то и постарайтесь с ним примириться. Тем более что к тому же призывает вас и Семён Семёнович, который более чем расположен к вам, – проговорил Манилов.
Услыхавши о «расположении к нему» дядюшки, Собакевич стукнул по столу кулаком так, что вздрогнувши громыхнула массивная столешница и гулко, барабанами отозвались пустые его ящики.
– Жулик! – снова произнёс он сквозь стиснутые зубы, вспомнивши о кобылке, которую дядюшка Семён Семёнович торговал будто бы за десять тысяч, но Манилов, принявши это его восклицание на счёт всё того же Чичикова, сказал:
– И всё же никуды не деться, придётся идти на мировую. И впрямь, не отправляться ведь вам из—за подобной ерунды в Сибирь.
– Правда ваша! – отвечал Собакевич и поднявшись из—за стола поплёлся грустно загребая косыми своими ногами в гостиную, увешанную отчаянными греческими молодцами, предводительствуемыми не менее же отчаянною Бобелиною и маленьким Багратионом, словно бы в смущении выглядывающим из узеньких своих рамок.
По всему было видно, что «секретное» письмо, состряпанное дядюшкою Семёном Семёновичем произвело на Собакевича необычайное впечатление, вызвавши в нём нечто весьма схожее с глубокими душевными переживаниями, ежели, конечно же, то, что по временам происходило в его словно бы гранённой из гранита голове можно было бы отнесть к столь тонкому предмету. И тем не менее, руки его дрожали, ноги подгибались, а сертук ходил на нём мелкими волнами, что распространяемы были всеми его, словно бы в ознобе трясущимися, членами.
– Плохие известия? – спросил у него Чичиков, когда он вернувшись в гостиную уселся в оставленное было им кресло и принялся глазеть в окошко, делая вид, будто углядел там нечто забравшее вдруг всё его внимание целиком.
– Даже и не знаю как отвечать вам, Павел Иванович, – отозвался Собакевич, – вам, как говорится, виднее. Только вот не могу взять в толк я вашей жалобы, что подана была давеча на меня в суд. Ведь коли крестьяне купленные вами, точно уж выведены из губернии, на что вы мне, к слову сказать, и бумаги показывали, то как же они могут быть «мёртвые»? Не пойму я этого – честное слово. Да ещё и просите возместить их полную стоимость, как за ревизскую душу, хотя и платили мне всего—то по два рубли с полтиною?
Не скажи Собакевич этих слов о «полной стоимости» требуемой Чичиковым к возмещению, что сочинены были дядюшкою для красного словца, то может быть участь его была бы и не столь тягостной. Павел Иванович, может статься, поиграл бы с ним, как играет порою кошка с пойманною мышью, дабы немного потешиться, а затем, получивши нужную подпись, отпустил бы его восвояси. Но тут, словно искрою пронзила его догадка, превратившись в ясную и простую мысль о том, что он и вправду может взять с Собакевича некия суммы, потому как тот нынче был у него в руках.
– Нет, Михаил Семёнович, эдак, как я погляжу, мы с вами не двинемся дальше, – сказал Чичиков. – Я ведь поначалу хотел сделать, как лучше. Хотел хорошего и себе и вам. Думал: «Дай—ка, освобожу сего господина от необходимости платить подушную подать в казну. Может статься, что он, как человек благородный и помянет меня добрым словом!». Так нет же, мало вам, что вы всучили мне промеж мужиков вовсе ненужную мне бабу, – сказал он, вспомнивши Елизавету Воробья, что вписана была Собакевичем в списки, – так вздумали ещё и тут обойти меня, затеявши сегодняшние торги. Так знайте же, любезный мой Михаил Семёнович, я хотя и мягко стелю, да вам жестко спать придётся. В отношении же якобы имевшего место переселения и бумаг, кои упомянуты были вами, скажу – нет в бумагах вашей росписи, и бумаг, стало быть, нету. К тому же, может вы и не расписались оттого, что побоялись, как бы не выплыло на свет ваше мошенство? Здесь, я думаю, и суд и следствие, которые над вами в самом скором времени учинят – разберутся. Разберутся и с душами, каковы они есть – живые ли, мёртвые ли? А вам, сударь мой, дорога будет одна – прямиком в Сибирь. Уж поверьте, я в этом деле не отступлюсь! – закончил Чичиков пламенную свою речь.
– Да разве я против того, чтобы расписаться? – встрепенулся Собакевич. – Извольте, я сей же час где надобно и распишусь. Скажите только, где надо руку приложить?
– Нет, Михаил Семёнович! Нынче уж поздно, нынче вы уж выказали мне истинное своё расположение и посему я намерен предать сие дело огласке. И то слово, ради чего это мне вас жалеть? Вы то меня не жалели, когда начали тут давеча со мною торговаться! – проговорил Чичиков с решительностью.
– Павел Иванович, может быть вы всё же решите ваше дело полюбовно? Я уж сейчас вижу, что Михаил Семёнович раскаивается в допущенной им оплошности. Да к тому же огласка понаделает шуму и пятном ляжет на всё губернское дворянство, – вступился было за Собакевича молчавший доселе Манилов.
– Ранее надобно было думать, ранее, прежде чем выказывать столько неуважительного апломбу в мой адрес! А посему, как я уж сказал – не отступлюсь, – состроивши во чертах лица своего решимость отвечал Чичиков.
– Но, может быть, Михаил Семёнович сумел бы каким—нибудь образом загладить свою пред вами вину? – спросил Манилов.
– Сумел бы, – отозвался Чичиков, – пусть немедля же возвратит мне деньги, переданные ему мною в счёт уплаты за ревизские души, те, что впоследствии оказались мёртвыми. Вот тогда—то, может статься, я и отзову свою жалобу назад.
– Сей же час и ворочу, – облегчённо вздохнувши, сказал Собакевич и живо пройдясь толстыми своими пальцами по карманам сертука выудил оттуда сложенную вчетверо сотенную бумажку, с улыбкою протянув её Чичикову.
– Милостивый государь! Вы что же это надо мною насмешки изволите строить, словно я нищий какой, просящий милостыню на паперти, чтобы мне мелочь всяческую швырять? Потрудитесь вернуть настоящую цену, – сказал Чичиков, делая вид, будто начинает горячиться.
– Побойтесь Бога, Павел Иванович, – взмолился Собакевич, – вы ведь приобрели у меня сорок душ, по два рубли с полтиною за душу. Вот и выходит ровнёхонько сто рублей. Я, признаться, не пойму, чему вы обиделись?!
– Я и не думал обижаться, – отвечал Чичиков, – потому как коли не желаете платить сейчас, то заплатите позднее – по суду. Но только помните – я от своего не отступлюсь и обвесть себя никому не дам!
– И сколько же вы намерены с меня получить? – упавшим голосом спросил Собакевич.
– Цену вы не ранее как час наза, означили сами. Двести рублей за каждую ревизскую душу, – отвечал Чичиков.
– Сжальтесь, Павел Иванович, ведь это ровным счётом грабеж! Ведь эдакое говорить, всё равно, что с ножом к горлу…, – начал было Собакевич.
На что Чичиков ему резонно отвечал, что требует с него не более того, что давеча спрашивал и сам Собакевич, и посему подобная цена кажется ему справедливою. Если же Собакевич на подобную с его стороны великодушную уступку не согласен, то тут имеются два пути. Либо Павел Иванович начинает набавлять цену, поднимая её до настоящих сумм, которые и впрямь можно выручить за ревизскую душу, либо он те же суммы получит с Собакевича по суду, а Собакевичу в придачу к позору и огласке достанутся ещё и Сибирь с каторгою, так что ему, Павлу Ивановичу, всё равно, нынче ли произойдёт расплата или же позднее.
Убедившись в его несговорчивости и поверивши в решимость Чичикова довесть дело сие до суда, Собакевич, тем не менее, всё же ещё пытался несколько времени увещеваниями да уговорами заставить Павла Ивановича согласиться с предложенною им ранее ценою, а именно с тою сложенною вчетверо сотенною бумажкою, что зажата была в его могучем шишковатом кулаке. Однако, встретивши непреклонный отпор своим поползновениям, он махнул на всё рукою, ибо, скажем прямо, господа, кому охота отправляться по этапу в Сибирь? Посему—то, отлучившись ненадолго в какие—то заветные свои закрома, где, надо думать, хранилось у него немало ценного и полезного, Собакевич воротился, неся с собою туго перевязанные, пухлые пачки ассигнаций от которых в гостиной запахло вдруг сыростью, чесноком и картошкою, с которыми, видать, пребывали они по соседству в тёмном, потаённом закуте.
– Вот, здесь восемь тысяч, – сказал Собакевич и, разве что не плача, добавил, – зарезали, можно сказать, меня без ножа!
На что Чичиков ему отвечал, что про сие он уже слыхивал, что винить во всём Собакевичу надобно лишь себя одного.
– А сейчас, любезный мой Михаил Семёнович, извольте—ка написать мне расписку, – сказал он Собакевичу, – в том, что сумма сия возмещена вами Чичикову Павлу Ивановичу за проданные оному ранее ревизские души, на поверку оказавшиеся мёртвыми. А иначе, знаю я вас, вздумаете ещё сказать, будто деньги эти я у вас украл!
Поначалу Собакевич никак не желал писать подобной расписки говоря, что таковым образом он сам себя словно бы изобличает в преднамеренном мошенстве, но потом, когда решили добавить слова о том, что души сии были ошибочно проданы точно живые – расписку написал.
– Ну, а теперь извольте расписаться в бумагах, – сказал Чичиков, подвигая к нему протоколы и выписки из судебного реестра, те самые, что составлены были им самим не далее как нынешним утром.
– Позвольте, Павел Иванович, – опешился Собакевич, – деньги то мною вам возвращены более нежели сполна, так что, стало быть, и купчую меж нами надобно считать расторгнутою?!...
– Э, нет, не скажите! Ведь ежели я забираю жалобу свою назад, то тем самым точно бы признаю, что крестьяне купленные мною у вас живые, а, следовательно, и переселение их состоялось, как бы на самом деле. А коли переселение имело уж место, то, следовательно, нечего тут более и говорить. Ставьте роспись, где положено и дело с концом, – сказал Чичиков, – деньги же мною с вас получены за понесение ничем не заслуженных обид! Так что вы, уважаемый, не путайте одного с другим. Расписку эту я, конечно же, приберегу, на всякий случай. Ведь никто не знает, каковая фантазия может сызнова к вам в голову забресть! – на этом они и распрощались, и надобно думать – навек.
На протяжении всего пути из имения Собакевича, Павел Иванович был более молчалив, нежели весел. По всему было видно, что обдумывается им нынче некая весьма важная до него мысль. Так что даже на сделанный к нему Маниловым вопрос, каковым образом намерен он употребить полученные с Собакевича суммы, он поначалу не ответил ничего, точно бы не расслышавши обращённые к нему слова, и лишь затем, оторвавшись от этих, забравших его целиком размышлений, махнувши ладошкою, отвечал:
– В казну пойдут, батенька, разумеется, в казну! – верно почитая казною карманы собственного сертука.
Мысль же, что обдумывалась им нынче столь тщательно была ежели и не продолжением, то уж родною сестрою той самой мысли, сверкнувшей догадкою в его гораздой на всяческие выдумки и каверзы голове, во время его с Собакевичем разговора. Нынче же она, утвердившись в уме его, сулила Чичикову немалые новые выгоды с той стороны, о которой он и не помышлял доселе и на которые навели нашего героя написанные невзначай слова письма адресованного дядюшкою капитаном—исправником злополучному Собакевичу.
«Право—слово, ходишь по деньгам ровно по грязи, и сам того не замечаешь!», – думал Чичиков удивляясь той внутренней слепоте, что порою охватывает всякого, становясь очевидною лишь когда словно бы случайно упадает пелена с глаз и видишь вдруг, что рядом с тобою лежит такая прямая и ёегкая до тебя выгода, что становится совершенно непонятным, как это возможно было ходить вкруг нея годами, не замечая того, что выгода сия не то чтобы просилась сама к тебе в руки, а просто—напросто всё это время разве что не лежала за пазухою.
«Ах, я и впрямь Аким—простота, да и только! Ведь как же славно может всё для меня повернуться, обратись я до капитана—исправника с подобными жалобами на тех помещиков, с коими успел уж заключить купчие на «мёртвые души». Эдак с каждого можно будет получить по кругленькой сумме отступного, а не с одного лишь Собакевича!», – думал Чичиков, чувствуя, как «мёртвые души» начинают поворачиваться для него неожиданною и свежею перспективою.
Уж новый план принялся было зреть в беспокойной его голове, уж принялся было он подсчитывать те немалые доходы, что возможно было бы выручить в дополнение к основной его затее, как вдруг мысль сия, казавшаяся доселе ему столь многообещающею и лучезарной, потухнула, свернулась точно в клубок, и он с досадою подумал, что нынче уж не выйдет у него тут никакого дела. Хотя бы и по той незамысловатой причине, что дядюшка Семён Семёнович не попустит ему домогаться до племянника своего, так что Манилова уж точно нечего было принимать в расчёт. Что же в отношении прочих помещиков, то и тут дела обстояли не лучше. Плюшкина неизвестно в каких краях Руси—матушки носили вольныя ветры, что же касается Коробочки, то та и вовсе уж была мертва.
Правда, оставались ещё и наследники, но и тут вставали на пути его сложности. Потому как над Плюшкиным, как он знал, принята была опёка со стороны родственников, и того, конечно же, признали бы по суду слабоумным. Имение же Коробочки, скорее всего, отошло уж какому—нибудь монастырю, либо приписано было к казне, поэтому навряд ли удалось бы Павлу Ивановичу урвать тут какой кусок, так что по зрелому размышлению решил он повременить с продолжением сих новых затей до лучших времен.
Манилов же, сидевший с ним в коляске, о чём—то воодушевлённо лепетал во всё время их путешествия чего Чичиков, погруженный в новые переполнявшие ум его размышления, даже и не слышал. По счастью легкомысленный и легковерный спутник его так и не почувствовал того, какая злая и угрюмая туча сгрудилась уж было над ним, но благодарение Господу и дядюшке капитану—исправнику пролетела мимо и не пролившись грозою на беззаботную и глупую голову его, истаяла без следа.
ГЛАВА 6
Когда в час сумрачных и тяжких размышлений, один их тех, что знаком всякой русской душе, всегда гораздой на то, чтобы погрузиться в тоску и меланхолию, доводилось мне среди прочего задумываться, ненароком, и о таящейся за гранью жизни и смерти тайне, то признаться, господа, тайна жизни озадачивала меня, порою, куда более, нежели то небытие, что, как принято думать, ожидает всех нас смертных за тёмным и глухим краем могилы. Невозможно сказать наверное, почему и для чего смертен бывает человек, но ещё труднее сыскать ответ на простой, казалось бы, вопрос – как и для чего бывает он жив? Каковым образом и откуда появляется он на свет сей из небытия, на что, впрочем, у него никто и никогда не спрашивает согласия, так, будто это вовсе и не его дело, жить в том сиром мире, в коем суждено провесть каждому из человеков долгие и по большему счёту нелёгкие и полные забот дни и годы.
Так что, глядя на тысячи и тысячи текущих рядом с тобою жизней, непонятных, серых и суетных, тех какими живут все эти мелкие человечишки, заполнившие сверх всякой меры просвещённое наше столетие, не захочешь, а поверишь поневоле, что жизнь человеческая в большинстве своём всего лишь пустой и весьма обидный урок, который всякий из нас, не ведая и не желая того, выполняет со старательною неукоснительностью для того лишь только, чтобы обернуться крохотным и безликим звеном в цепи многих и многих поколений, чьи начало и конец теряются в неподвластной нашей мысли и далёкой, зовущейся временем темноте..., и всего—то, господа?!
Вот таковая, мало на что могущая подвигнуть мысль, приходит мне порою в голову, друзья мои. И, не скрою, она страшит меня до чрезвычайности! Страшит уже и потому, что чудится мне, будто в ней и на самом деле заключена тоскливая и беспощадная для нас всех нас правда. Именно в такие вот минуты овладевает мною уныние и начинает казаться мне, что бесполезны и не нужны никому те устремления дела и надежды, из коих и старается выстроить всякий судьбу свою. А кто—то злой и безжалостный, прячущийся в густых потёмках на самом дне моей души начинает шептать, что жизнь человеческая ценна на самом деле не поступками и свершениями, её наполняющими, а лишь пошлым и безликим своим существованием, потребным лишь на то, чтобы приумножать и приумножать число человеков в сей юдоли земной, а прочее лишь фантазия, игра воображения, призванная отвлечь нас от пугающих и холодных истин, от которых стынет душа и замирает перепуганное сердце моё. Хочется мне тогда спрятавши голову под одеяло уж не видеть и не слышать ничего из творящегося кругом, а забыться глухим и беспробудным сном, лишённым сновидений, в котором уж ничто и никогда не сможет нарушить покоя моего.
И вот, когда бывает уж готова разверзнуться в душе моей ёерная, полная безысходности пропасть, в которую, кажется, вот—вот канут навеки мои вера с надеждою, то словно бы по Божьему соизволению, будто бы ангел слетает с небес и чувствую я в ту минуту как плещут в груди у меня нежные его крылья, заставляя сердце биться с новою силою, заполняя его тёплым, похожим на тихое счастье, чувством. Смолкает тогда во мне злой, беспощадный шёпот и начинает звучать в душе моей иной прекрасный голос, говорящий о том, что понапрасну мучаю я себя подобными тёмными мыслями, что сие есть пустое и неблагодарное занятие – пытаться понять непостижимое, что дано мне Богом другое, счастливое поприще, на котором вот уж который год дожидает меня мой герой, чья жизнь и судьба зависят от меня лишь одного и тогда его жизнь, более чем на две трети уж написанная мною вновь начинает стучаться в сердце моё, как стучит в скорлупу птенец, стремящийся выбраться на свободу к солнцу, к синему небу, ко ждущей его вовне настоящей, а не придуманной кем—то жизни.
Тогда—то и приходит ко мне, в который уж раз, пусть робкая, но проливающая покой в сердце моё догадка о том, что нынешняя жизнь моя и судьба даны мне для того, чтобы всё же сумел я довесть повесть о герое моём до конца, до той самой точки, где сойдутся все нити избранного мною сюжета в одно. Когда будущее наконец—то станет настоящим, обещание – исполнением, а жизнь… Чем станет жизнь его, да и моя, в ту минуту не скажу я наверное и приближение к ней, признаюсь, пугает меня так же, как пугает каждого приближение к черте, отмеренной ему неумолимым роком, черте у которой, может статься, проставлена будет точка и в сюжете нескладной моей земной судьбы; судьбы, которую я, несмотря ни на что, сумел обратить в призвание.
* * *
Уж неделя миновала с той поры, как объявился Павел Иванович в гостеприимной Маниловке. Дела его все, казалось бы, уж были обделаны, нужные бумаги выправлены и ничто не должно было смешать его планов к предстоящему отъезду, но он всё откладывал его к радости хозяев, стремившихся предугадать и предупредить разве что ни каждое его желание.
Весна уж окончательно вступила в свои права и уж всё вокруг полно было её лёгким и ясным светом, что радостными бликами мерцал и по ярким, словно бы лаковым листочкам, укрывшим плотною завесою кроны дерев, ослепительными пятнами сверкал на поверхности пруда, в котором уже успели вывестись головастики, золотым сиянием убирал кресты каменной деревенской церкви, что хорошо видна была отсюда, с возвышения, на котором расположилась господская усадьба. Тёплый воздух полон был гудением пчёл и шмелей, перепархивавших с цветка на цветок, и больших синих мух, прилетавших сюда вероятно со скотного двора. Мухи сии, непонятно почему, но вызывали в детских сердцах прилив неких недоступных пониманию Павла Ивановича чувств, и Фемистоклюс, который в своих географических познания, так и не ушёл далее Москвы и Парижу, и Алкид, в знаниях своих вряд ли превосходивший старшего братца, часами могли носиться по двору за сиими несчастными насекомыми с тем, чтобы оборвавши им крылышки следить за тем, насколько далеко сумеют они улететь после подобных, проведённых над ними изысканий. Сия любознательность и рвение, выказываемое отпрысками, вызывали в сердце наблюдавшего за ними с веранды Манилова неподдельную гордость и возвышенные надежды в отношении ждущей его сыновей впереди блестящей будущности, мыслями о которой он и делился с Чичиковым, что проводил с ним на веранде тихие послеобеденные часы.
И Чичиков, кивая согласно ему в ответ головою, чувствовал, как опускается на него блаженная безмятежность, точно бы расслаблявшая все его члены. Ему казалось, что наконец—то ослабнула та жесткая нить, на которой словно бы на створке держала его во все последние и нелёгкие для нашего героя годы, судьба. Временами некое новое и доселе незнакомое чувство легонько, точно бы нежным пальчиком касалось до его сердца, и Павел Иванович понимал, что вероятно это и есть то самое счастье, о котором ему, впрочем, как и многим, только лишь доводилось слышать.
Тот новый для себя урок, что вынес он после посещения Собакевича, урок, показавшийся ему столь заманчивым, посулившим изрядный прибыток в дополнении к тому, что надеялся получить он по завершении своей проделки с «мёртвыми душами», по более зрелому размышлению уж перестал казаться столь привлекательным по той причине, что был он не прост в исполнении, потому как всякий раз, вздумай Павел Иванович прибегнуть к нему, ему пришлось бы привлекать к участию в сем деле и капитанов—исправников, а сие могло привесть и к непредсказуемым расходам и к неожиданным неприятностям. Потому—то он и решил отложить сию новую каверзу, столь удачно проделанную им в имении Собакевича, до лучших времен.
Порою в расслабленной его душе возникало искушение – наведаться в NN с тем, чтобы сызнова пройтись по присутственным местам пугая братьев—чиновников внезапным своим появлением, но искушение сие бывало мимолётным и верно порождаемо было некой игривостью его умонастроения, возникнувшей в нём в эти последние, проникнутые покоем дни. Может быть сей безмятежный покой, столь непривычный Павлу Ивановичу и был той причиною, что заставляла откладывать его отъезд свой со дня на день, потому как он словно бы чувствовал подспудно, каковые нелёгкие хлопоты и заботы ожидают его на предстоящем ему пути.
Но всё имеет, господа, свойство приходить к своему завершению – и дело, и безделье. Пришёл час и Павлу Ивановичу, стряхнувши с себя сонное и столь приятное оцепенение, отправляться далее. И стоило ему только заикнуться о своём намерении, как чета Маниловых тут же сделалась безутешною. Потоками слёз орошаемы были последние, проведённые им в Маниловке дни. Более того, и сам Манилов принялся было собираться в дорогу, дабы плечом к плечу с Чичиковым отправлять «возложенную на них государем—императором высокую миссию», чему Чичиков, разумеется, тут же воспротивился, сказавши, что впереди его дожидают особой секретности дела, до которых он никого не вправе допустить, даже и Манилова. И пообещавши тому скорую звезду на сертук, собрался вдруг, без затей, в одночасье и сохраняя своё инкогнито укатил с тем, чтобы более уж не возвращаться сюда никогда.
Однако появление его в губернии не осталось незамеченным, как бы того и не хотелось нашему герою. Ведь как ни хорони, как не укрывай правду, а она всё равно найдёт самую что ни на есть крохотную щёлочку да и пролезет наружу. Кто знает, может быть даже и оттого, что у российских наших стен, по моему глубочайшему убеждению, помимо ушей имеются ещё и языки, причём, надо думать, преизряднейшей длины. И что тому причиною – искусство ли каменщиков стены сии кладущих, особенности замечательного нашего климата, деликатность ли народонаселения, либо другая какая напасть, сказать не берусь.
Но так или иначе, а по городу поползли слухи, причём надобно сказать слухи весьма лестные для нашего героя. Уж каковым образом пробрались они в город – не знаем, но только прошёл меж чиновников, знавшихся некогда с Павлом Ивановичем, толк о внезапном его появлении в губернии и о том, что выправлены были им некия бумаги, по которым выходило, что он и вправду миллионщик, а вовсе не делатель фальшивых бумажек, как то о нём промеж чиновников решено было ранее.
Сызнова собрались они с тем, дабы обсудить в своём кругу сие из ряду вон выходящее известие и решить, каковым же манером им вести себя далее. Ведь, как ни крути, а на поверку выходило, что они по глупости, да с перепугу позахлопывали двери своих домов перед носом, может быть, наидостойнейшего изо всех путешественников, что когда—либо посещали пределы славной их губернии. А сие, ох, как нехорошо могло при случае обернуться! Посему зван был на их собрание и Семён Семёнович Чумоедов, к слову сказать, приехавший с охотою, потому как собрание сие имело место не у почтмейстера, а совсем наоборот, у давнего приятеля Семёна Семёновича – полицеймейстера, чьи обеды славились, как мы уж имели случай убедиться, на всю губернию, особенно в отношении рыбных деликатесов и разносолов.
Семён Семёнович подтвердил, что дошедшие до чиновников слухи отнюдь не слухи, а истинная правда. Потому как покупки произведены были Чичиковым Павлом Ивановичем по закону, а крестьяне по закону же и были переселены, что явствует изо всех протоколов и справок, многия из которых он имел удовольствие скрепить собственною рукою.
Участие во всей этой истории Семёна Семёновича, конечно же, должно было смутить многих из тех, кто был с ним хорошо знаком, но городские чиновники почему—то пропустили сию важную деталь, как говорится, «мимо ушей», может быть даже и оттого, что раздосадованы были на себя до чрезвычайности. Вот почему за столом воцарилось долгое и унылое молчание, нарушаемое лишь стуком ножей, да царапаньем вилок о тарелки.
Растерянность их была того же рода, что случается у глупых и непослушных детей непонятно зачем и как изломавших прекрасную игрушку, равной которой не видать им уже вовек. Скоро у них и вовсе испортился аппетит и они сидели не глядя на стоявшие по столу блюда, воздыхая и озабоченно шепча про себя что—то, может быть и слова некой, призванной защитить их молитвы, выключая одного лишь почтмейстера, всё ещё возившего куском семги по своей тарелке.
– Послушай, Шпрехен зи дейч, Иван Андреич! Неужто тебе просто необходимо манкировать общество своею вознею? – не удержавшись сказал полицеймейстер. – Мало тебе того, что ты его в делатели фальшивых ассигнаций определил, так ещё и всем своим отношением хочешь показать, как тебе безразлична общая наша забота, – уже без обиняков напустился он на почтмейстера.
На что почтмейстер, едва не подавившись сёмгою, но ловко сумевший переложить её языком за щёку так, чтобы сподручнее было отвечать, принялся было оправдываться. По его словам выходило, что виною всему был вовсе не он, а, царство ему небесное, покойный прокурор со своею противною и всем хорошо известною привычкою обвинять всякого в невесть каких грехах – так, для всякого случая. Да не тут—то было! Потому что хотя покойный и не мог уж за себя постоять, за него вступились верные его друзья возразивши, что прокурор в тот памятный вечер и вовсе молчал, видимо оттого, что уж чувствовал себя худо. И отбивши прокурора, чиновники вновь принялись возводить обвинения на почтмейстера, успевшего тем временем проглотить спрятанный за щекою заветный кусок.
Обвинения сии отчасти возводимы были ими и потому, что не раз уж и не два отравленные почтмейстерскими обедами, желудки их побуждали обладателей своих к отмщению, но почтмейстер, не испугавшись общего натиску, отбивался как мог, говоря, что он всегда почитал Чичикова за благороднейшего из людей и оказывал тому достойные его особы почёт и уважение. Когда же напомнили ему, каково было то уважение, и как рядил он Павла Ивановича в разбойники, присочинивши к тому ж историю о капитане Копейкине, то и тут «мухомор» Шпрехен зи дойч не отступил, сказавши, что никогда не ровнял Чичикова с капитаном Копейкиным, что видно хотя бы и из того, что у капитана Копейкина недоставало конечностей, тогда как у Чичикова все члены находились на месте, а история та рассказана была им неспроста, а нарочно, дабы несуразностью своею подчеркнуть и несуразность их подозрений в отношении Павла Ивановича и отвесть их от нехороших мыслей на его счёт.
Назвавши его напоследок «канальею», чиновники махнули на него рукою переместивши гнев свой на Ноздрёва, который на свою беду не далее как вчера воротился назад в губернию из Петербурга и по свидетельству уж видавших его очевидцев заметно переменился – сделавшись худым и менее говорливым, нежели прежде. Но главною новостью, успевшей привлечь внимание многих из городских обитателей была та, что объявился он в городе с молодою дамою, которую вполне можно было бы счесть и благородною, ежели бы не появление её вместе с Ноздрёвым, да ещё и на его городской квартире.







