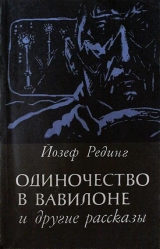
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Визит подстрекателя
– А что брать?.. Я хочу сказать… для жены, когда сын… Я хочу сказать, для матери, с прибавлением семейства…
Цветочный магазин находится как раз напротив больницы с родильным отделением. И продавщица должна быть в курсе.
– Если вы отец, тогда розы, – говорит она.
– Да, я отец, – отвечает Реппер. – Какие?
– Красные, – говорит продавщица. – Вот у нас есть совсем свежие. Нежно-красные. И стебли у них красивые, длинные.
– А сколько надо брать? Обычно сколько берут? Чтоб не чересчур шикарно, но и жаться я не намерен.
– Это уж как когда, – говорит продавщица. – Есть ли у вас число, которое что-то означает для вас и вашей жены? К примеру, сколько лет вы вместе?
– Всего семь месяцев, – отвечает Реппер.
«И кто меня тянул за язык», – думает он, хотя, с другой стороны, и не упрекает себя за слишком поспешный ответ.
– Знаете что, дайте мне девять, – решает Реппер. – Мальчик добирался к нам ровно девять месяцев.
– Да ну? – Продавщица изображает удивление.
– Я понимаю, что веду себя как приготовишка, – говорит Реппер. – Но ведь я первый раз в жизни… к родильнице… в родильный дом… в палату… ой, чего это я несу… сами понимаете… в общем, первый раз иду туда.
– Хорошо, пусть будет девять, – говорит продавщица.
– А сколько стоит одна? – спрашивает Реппер.
– Две пятьдесят.
– Ничего себе! – восклицает Реппер.
– На дворе зима, – говорит продавщица. – Дешевле вам не найти. Среди зимы-то.
– То-то и оно, что среди зимы у меня с монетами туго.
Я плотник, на стройке. Сами понимаете, каково оно теперь на стройке. На пятнадцать меньше до самой весны. Да уж ладно, давайте.
Продавщица осторожно высвобождает стебли из соседних шипов, дает стечь воде, обматывает их зелено-белой ленточкой и помещает все это в целлофановый пакет.
– Я вам прибавила еще немножко зелени, – говорит продавщица. – И ничего за нее не посчитала. Двадцать две пятьдесят.
Реппер платит. В отделении для мелочи он видит записку.
«А, это тоже надо сделать, – думает он, – укрепляющий напиток, чистую тряпку, зеленую с блестками ночную рубашку, во втором ящике для белья слева. Или сначала розы? Принесу-ка я сначала розы! Не то завянут».
Реппер разглядывает старые дома перед больницей. Кирпичные фасады обветрились и раскрошились. Этот закопченный дом на две квартиры только и держится благодаря масляной грунтовке: реклама пива! Два монаха перед бродильным чаном; один сыплет из мешка хмель и ячмень, другой мешает длинным шестом. Монахи толстые и веселые.
– Могу ли я пройти к жене? В четвертую палату. Она родила сегодня утром. Фамилия Реппер.
– Это не вы звонили сегодня с шести до семи четыре раза? – спрашивает монахиня в стеклянной будке с круглым окошечком.
– Я, – отвечает Реппер.
– Ну и задали же вы работу ночной сестре, – говорит монахиня. Но совсем не сердито. – А к жене вам сейчас нельзя. Пусть выспится, после наркоза. Да и остальным женщинам как раз принесли детей для кормления.
– A-а, – тянет Реппер.
– Вот на малыша можете посмотреть, если хотите.
– Хочу, – говорит Реппер, – да еще как хочу. Поглядеть на сынишку.
– У вас сын?
– Да, – говорит Реппер, – когда я позвонил в четвертый раз, Ежик уже прибыл.
– От всей души поздравляю.
– Спасибо, сестричка.
– А если вы можете подождать еще час, как раз наступит время посещений. Сможете тогда повидать свою жену. До тех пор она наверняка проснется. А сперва поглядите на мальчугана.
– А моя жена уже видела Ежика? – спрашивает Реппер.
– Ежика?
– Так мы его назвали, еще раньше, чем он родился, – объясняет Реппер.
– Нет, ваша жена еще не видела… Ежика. Может, она даже и не знает, что это Ежик, что это он. Поднимитесь наверх. Четвертый этаж, налево.
Реппер подготовлен. Новорожденные похожи на обезьянок. Не пугайтесь. Это – не сговариваясь – внушили ему, во-первых, старший продавец универсального магазина и, во-вторых, коммивояжер фирмы посудомоечных автоматов. Коммивояжер, правда, добавил: но это не навсегда, потом ваш ребенок будет очень мило выглядеть, у такого-то папаши.
«Подлизывался, – думает Реппер, следуя указаниям желтой стрелы. – Коммивояжеры, они все такие».
Сестра из отделения для новорожденных ясно улыбается за стеклом. У нее такая опрятная улыбка, что Репперу невольно вспоминается ядровое мыло.
Из свертка на ее обнаженных руках выглядывает головка. «Никакая не обезьянка, – думает Реппер, завидев личико, – скорей на меня смахивает, когда я поутру бреюсь, а накануне слишком засиделся в пивной и рожа вся мятая».
Сын открывает глаза. «Большие-то какие, – радуется Реппер. – Большие глаза. Умный вырастет. А какой серьезный! Словно уже сейчас о чем-то думает. А думает он небось о всякой всячине. Например, почему сейчас так, а несколько часов назад было совсем по-другому. Но ему идет, когда он серьезный».
Реппер решает, принимая во внимание достоинство, с каким держится сын, не портить первую, такую ответственную встречу восклицаниями типа «актоэтоунастакоймаленькийтютю». Не говоря уже о том, что Ежик и сам делает величественный жест, который, без сомнения, можно истолковать как «аудиенция окончена» и поступить соответственно.
Сестра кивает Репперу. С неиссякающей улыбкой. Реппер думает: «Она небось и во сне улыбается». Сознавая, что сын в надежных руках, он отвечает ей кивком.
В коридоре есть стулья. Реппер садится. У него возникла новая проблема. «А как я вручу розы Ханнелоре? В жизни не покупал ей роз. Цветы, правда, цветы дарил, но и те не приносил в постель».
Вот если его куда пригласят, то, возникнув в дверях, решительным движением сорвать с букета обертку и протянуть пестрые стебли хозяйке – это Реппер умеет. В этом деле он мастер. Произвел в свое время большое впечатление на Ханнелорину мать, когда сказал: «Добрый вечер, фрау Виттек. Разрешите возложить этот скромный букет на алтарь вашего расположения».
«И вовсе незачем знать, что я вычитал эту фразу в каком-то романе, – думает Реппер. – Да, но куда же все-таки положить розы, когда я войду к Ханнелоре? На кровать? На тумбочку? Просто сунуть ей в руку? А в руку-то, может, и вовсе нельзя, на цветах могут быть бациллы, и наш Ежик подхватит какую-нибудь цветочную чуму, нет, лучше подожду. Раз часы посещений, значит, придут и другие мужья. Посмотрим, как они».
Мимо Реппера провозят женщину. Под тонкой простыней, словно гора, высится живот. Кожа на лице напоминает захватанный желтый сафьян.
Сестра бросает на Реппера беглый взгляд. В этом взгляде Репперу чудится вопрос, чудится укор. «Ну и гляди, – вызывающе думает Реппер. – Я, что ли, виноват, что у этой женщины такой скверный вид?»
«Интересно, очнулась ли Ханнелора? – размышляет он дальше. – После наркоза. То есть как это после наркоза? Может, не все прошло гладко? И у нее теперь такой же вид, как у той женщины на каталке?»
Сухой жар начинает давить Реппера. Реппер обмахивается цветами, словно веером, но тотчас прекращает это занятие, когда мимо проходит молодой врач.
«Уйду-ка я, – думает Реппер. – Еще целых сорок пять минут ждать, а если ждать здесь, совсем раскиснешь».
Реппер выходит. Услышав крик женщины, он старается шагать как можно быстрее и бесшумнее.
Пивная возле больницы называется «Брёгенкамп». Реппер заказывает светлое пиво. Когда пиво подано, он смотрит на подставку, не изображены ли и тут два дородных монаха, стоящих перед чаном. Но на кружке нет рисунка. Только изречение: «Кто на Руре живет, пиво Штаудера пьет».
– Сюда собрались? – И старикан в очках тычет большим пальцем в сторону больницы.
– Да, – говорит Реппер.
– Прибавление семейства? – спрашивает старикан.
– Сын, – говорит Реппер.
– Надо бы спрыснуть. Хоть стопочку. Сын как-никак.
Реппер знает эту породу. В любой пивнушке как минимум торчит один такой. Профессиональный враль, старый алкаш, который готов, словно в арабских сказках, целый вечер рассказывать тебе разные байки, выдумки вперемешку с правдой, лишь бы заработать на этом две-три рюмки.
«Ну и ладно, – думает Реппер. – Не будем сегодня считать рюмки. За здоровье мальчика».
– Две можжевеловых! – кричит Реппер в сторону стойки.
Приходит хозяин.
– Жорж, Жорж, ты уже и без того тепленький, – говорит он старику.
– Какое там, за весь день на язык ни капли не попало, – заверяет старик.
Но хозяин хорошо знает эти отговорки.
– Да, Жорж, ты так лихо опрокидываешь свою порцию в глотку, что на язык и впрямь ничего не попадает.
– За мальчика вот этого господина! – торжественно провозглашает старичок.
– Будем здоровы, – сурово говорит Реппер. На самом деле он рад. «За мальчика вот этого господина!» Как хорошо сказал старик. Звучит, словно в Библии. Мальчик господина… господний…
Можжевеловка сразу уничтожает скверный вкус во рту. Приторную сухость. Потом Реппер споласкивает горло пивом.
– А-ах, – говорит старичок и утирает рот, словно там налипла пена.
Реппер невольно смеется.
– Тонкий намек на толстые обстоятельства, – говорит он. – Ладно, господин хозяин, принесите кружечку и для Жоржа.
– У жены все в порядке? – спрашивает очкастый старичок.
– Не знаю, – отвечает Реппер. – Меня еще не пускали. Вот будет час посещений… Может, жена даже еще не очнулась от наркоза.
– От наркоза? Значит, сложные были роды? – говорит старичок.
Реппер быстро отставляет кружку.
– Почему? – спрашивает он. – Почему это сложные?
– В родильном отделении главврачом доктор Гольденпот. Он дает наркоз, только когда иначе нельзя. Вообще же он не любитель наркоза. Роды, говорит, – это естественное дело. Женщины должны помогать детям явиться на свет. А не то чтобы сразу отключиться, и пусть за них работают врачи. Роды – великое дело, говорит доктор Гольденпот. А если кто не почувствовал этого великого, для того оно больше и не великое.
– Странные взгляды, – говорит Реппер.
– Нет, Гольденпот, он свое дело знает, – говорит старик. – Он достает на свет божий всех детишек, все равно, как они лежали в теле матери – хоть криво, хоть поперек, хоть на карачках ползали. У вашего мальчика все в порядке?
– Все, – отвечает Реппер. – Правда, я видел только голову и руки. С ними все в порядке.
– Значит, и с остальным все в порядке. Но как оно все ни пойдет, гладко или не очень, все равно женщинам здорово достается в этом деле. Надо бы, по правде говоря, выпить и за женщин. Прежде всего за вашу жену, но и за остальных тоже, и за вашу мать. Вот небось радуется.
– Радовалась бы. Нет ее. Бомбежка в сорок четвертом. Вместе с отцом. А я тогда был у тетки в Зауэрланде.
– Простите… я не хотел… откуда мне знать, вы пой…
– Ничего, – говорит Реппер, – да и мне уже пора. Сейчас начнут пускать. Господин хозяин, принесите Жоржу еще рюмочку можжевеловой и получите с меня.
– За всех женщин! – кричит вдогонку старичок, когда Реппер покидает пивную. Ему еще предстоит отодвинуть в сторону тяжелую портьеру. При входе он даже и не заметил эту коричневую войлочную попону с каймой из кожзаменителя. Теперь она доставляет ему немало хлопот.
«Пил на пустой желудок, вот в голове и зашумело, – думает он. – Интересно, пахнет от меня или нет? Я ж сейчас войду к Ханнелоре и поцелую ее. Может, лучше вернуться и выпить чашечку кофе? Или продышаться как следует?»
Реппер с присвистом втягивает колючий зимний воздух, затем энергично выталкивает воздушную волну и снова до отказа наполняет легкие воздухом. Все равно как тяжелоатлет перед взятием веса. Реппер чувствует, как во рту у него все очищается.
Радуясь своему успеху, Реппер возвращается в больницу. Радость становится еще больше, когда он видит, что явился точно, минута в минуту. Ровно три. Время посещений.
Осторожно постучав, он бережным движением открывает дверь. Первой от двери лежит очень молодая женщина, почти девочка. Она хлюпает в платочек. В комнате лежат четыре женщины. Все они смотрят на Реппера. Но Реппер глядит только на Ханнелору. Она лежит дальше всех. У окна.
– Добрый день, – говорит Реппер, пробираясь по комнате.
Ханнелора вовсе не бледная. Лицо у нее скорей покраснело, как в прошлом году, когда они катались на карусели. Растолстела она, что ли? Нет, просто лицо так отекло. Особенно под глазами.
Реппер целует Ханнелору в припухшее лицо. Раз, потом другой и третий.
– Ты уже слышал? – устало спрашивает Ханнелора.
– Не только слышал, но и видел. Ежик. Ну просто самый настоящий Ежик.
– А какой он?
– Красивый, – говорит Реппер.
– Нет, волосы какого цвета?
– Черно-бело-рыжие, – говорит Реппер.
– А глаза?
– Большие, – говорит Реппер. – Тяжело пришлось?
Ханнелора кивает и хмурит лоб.
– Словно меня разорвали на части.
– Теперь все позади, – говорит Реппер и гладит загрубелыми пальцами лицо Ханнелоры.
Стучат. Дверь медленно открывается, и Реппер видит молодого человека в куртке. Тот бочком, бочком проскальзывает в комнату, как это сделал до него Реппер. Реппер ухмыляется. Но парню в куртке не надо далеко ходить. Он останавливается возле той девушки, что лежит первой. Девушка перестает плакать.
– А какой у него нос? – спрашивает Ханнелора. – Твой или мой?
– Наш, – отвечает Реппер, гордясь своим удачным ответом. «Наш! Надо будет чаще это повторять», – думает он.
И снова дверь отворяется, но на сей раз Реппер не поднимает взгляда. Теперь в комнате слышится несколько приглушенных голосов. Реппер тоже начинает говорить громче. До этого он почти шептал.
– У Ежика очень умный вид, – говорит он.
– А как мы его назовем?
– Ежиком.
– Ежик Реппер? Такого и имени-то нет.
– А у нас будет.
– Вечно тебе надо дурачиться, – говорит Ханнелора. – А теперь серьезно: может, дать ему твое имя?
– Нет, только не мое! Фриц?! Кого в наши дни называют Фрицем? Вдобавок хозяйку шашлычной зовут Помфриц.
– Сейчас в моде все норвежское, – говорит Ханнелора. – Ларс, или Кнут, или Олаф. Русские имена тоже неплохо звучат: Петр или Сергей?
Девушка у дверей опять плачет. Возле ее постели, кроме парня в куртке, сидят теперь две серьезные женщины.
– Чего она все плачет? – тихо спрашивает Реппер.
– Ей всего семнадцать… – отвечает Ханнелора.
– Это еще не причина плакать.
– И она не замужем.
– Вот почему, – говорит Реппер.
– Прошу вас, – говорит человек в сером пальто с узким меховым воротником и сует Репперу в руки несколько открыток. При этом он скромно добавляет: – Стихи. Моего сочинения. Вы их спокойно прочитайте, а я скоро вернусь.
Тут только Реппер замечает, что и другие посетители держат в руках открытки.
Реппер читает:
Тебе, о мать, сыновняя хвала!
Ты мне сегодня гордо жизнь дала!
Потом ее я передам своим достойным сыновьям.
На троне и у верстака
Моя задача высока:
Добро нести и честь блюсти…
На оборотной стороне открытки Реппер обнаруживает еще одно стихотворение: «Орошенная слезами земля родины (Страничка из венка стихов скорбящего изгнанника)».
Там, где чужая чья-то кровь
Родную ниву захватила,
Узнают люди скоро вновь,
В чем кулаков немецких сила…
– Что это за стихи? – спрашивает Ханнелора.
– Да ерунда всякая, – отвечает Реппер и кладет открытки на тумбочку.
– Дай мне соку, – просит Ханнелора, – я так бы все пила и пила.
Реппер наливает в стакан яблочного соку и помогает Ханнелоре напиться.
– А какой вес у Ежика? – спрашивает Ханнелора.
– Сестра его еле тащила. Не удивлюсь, если в нем больше семи килограммов.
– Выдумщик, – смеется Ханнелора. – От силы четыре.
– Это много? – спрашивает Реппер.
– Очень даже.
С постели девушки, что лежит у дверей, доносится смех.
«Ну, наконец-то», – думает Реппер и спрашивает:
– А этот, в куртке, он что, брат семнадцатилетней?
– Жених, – говорит Ханнелора.
– Ну, тогда порядок.
Ханнелора опять пьет сок. Теперь уже без помощи.
«Как же так, – вдруг думает Реппер и протягивает руку за открыткой. – О чьих кулаках здесь вообще идет речь? О моих? Дудки. О Ежиковых, что ли? Да он спятил, этот дяденька?!»
– Ты чем-то озабочен? – спрашивает Ханнелора. – Из-за Ежика?
– Нет, – отвечает Реппер. Потом вдруг: – Да.
– Ну и зря, – говорит Ханнелора. – Для него все приготовлено. Ванночка и кроватка. Кроватку мы выбрали правильно, с тремя уровнями, он в ней до десяти лет спать сможет.
«И вообще ерунда. Чужая кровь что-то захватила. Я, правда, по литературе никогда не отличался, но такую чепуху я бы в жизни не написал. Не то наш учитель Онтвих настрочил бы на полях: крайне неудачное выражение».
– А пеленки-распашонки у него есть на год вперед.
Реппер думает свое и злится.
«Немецкий кулачник хочет взяться за нашего Ежика. Пройдет двадцать лет, и нашего Ежика заставят ради этого гада убивать других людей, чтобы и самому погибнуть».
– Тетя Герта тоже обещалась прислать большой пакет с приданым, только для этого надо ей сообщить, кто у нас, мальчик или девочка. Чтобы знать, какой цвет.
«Пусть он только покажется, этот сочинитель… Уж я ему скажу…»
И вот он показывается. Человек с меховым воротником снова заходит в палату и с улыбкой кланяется у первой постели, а люди, что там сидят, прячут открытки и с улыбкой дают ему деньги, у второй постели происходит то же самое, и вот он уже подошел к Репперу.
– Вы можете приобрести эти открытки, – говорит он. – Плата – по вашему усмотрению.
– Вы такую дрянь понаписали, – говорит Реппер и хочет повысить голос, но тут Ханнелора дергает его за рукав, и Реппер думает: она права, здесь нельзя кричать. Мало ли что может из-за этого случиться. А вдруг у матерей пропадет из-за этого молоко, или они так испугаются, что у них разойдутся какие-нибудь швы, или еще чего-нибудь… Но подстрекатель пусть убирается вон.
– Возьмите свои открытки, – говорит Реппер.
– Как вам угодно, – отвечает этот тип. – Вы явно не любитель поэзии.
Он берет у Реппера открытки и закладывает их в пачку, которую держит в руке.
– До свиданья, – громко говорит он, и все, кроме Реппера, отвечают:
– До свиданья.
– Лучше бы ты взял у него парочку открыток, – говорит Ханнелора.
– Лучше бы нет, – отвечает Реппер.
– Как раз сегодня, – говорит Ханнелора.
– Как раз сегодня нет, – отвечает Реппер. И лишь тут ему приходит в голову, что человек этот не так уж прост, что он выбрал удачный момент – когда можно навещать родильниц. Если у людей хорошее настроение, им трудно кому-нибудь отказать. И они готовы купить все, что ни предложат. И покупают такую вот подборку стихов, где говорится про немецкий кулак. Все – ради малышей. Все – против малышей. А через двадцать лет сегодняшнего малыша засыплет где-нибудь в подвале, как…
– Подлый пес, – говорит Реппер.
– Фриц, – молит Ханнелора. – Неужели ты так не любишь стихи?
– Такие не люблю.
– А может, ты знаешь этого человека?
– Знаю, он занимается растлением малолетних, даже грудных детей.
– Вот он какой! Вот какой! А куда смотрит полиция? Тогда ты сам должен был что-нибудь сделать.
– Должен был.
– И ведь по виду никак не скажешь, – говорит Ханнелора и снова пьет яблочный сок. – Надо нам хорошенько следить за Ежиком, – говорит Ханнелора.
Реппер кивает.
Выйдя из больницы, Реппер спохватывается, что начисто забыл про розы. «Куда я их положил? В ногах кровати? Или на пол? Или на тумбочку рядом с бутылкой сока? Ничего, Ханнелора их все равно увидит».
Живоглот на подходе
Прошло много лун, прежде чем крестьяне Рустенфлека приняли его в свое сердце.
Поначалу они косо на него поглядывали, когда он впервые поставил свою плоскую чужеземную машину на деревенском выгоне и начал слоняться по Рустенфлеку.
От его взгляда мало что ускользало. Если лошадь останавливалась по нужде, он останавливался рядом, внимательно наблюдал за процессом дефекации и жадно втягивал ноздрями запах дымящихся, нашпигованных овсом конских яблок. Когда зобатый кузнец потащил крестить в Венделинскую церковь своего третьего сыночка от второй жены, бледнолицый пришелец последовал за ним. И с той же жадностью втягивал ноздрями застоявшийся под церковными сводами воздух – смесь ладана, горящих свечей и мочи, поскольку кузнецов сын ухитрился напустить в крестильную сорочку.
И наконец, он поднялся по распаханному склону Зульцского холма, где в стельку пьяный Хиасль ходил за бычьей упряжкой и, налегая на плуг, проводил в скудной земле кривые борозды.
После этого чужеземец привалился к иве, достал из кармана записную книжку и начал что-то торопливо чиркать. Когда же он снова поспешил к своей платформе, крестьяне из Рустенфлека могли убедиться, что к гладкой шерсти его костюма не пристало ни одной соломинки, а к замше башмаков – ни одной коровьей лепешки.
Три дня спустя рустенфлекские крестьяне прочли в «Ахиохском сельском вестнике» описание лошади, рассыпавшей по дороге конские яблоки, Венделинской церкви и кривых борозд Хиасля. Все было описано мало того что точно, но вдобавок и красиво. И тут рустенфлекцы догадались, кто у них побывал: писатель.
Еще глубже они осознали это, когда заезжий писака снова вернулся в Рустенфлек и откупил у Хиасля сарай-развалюху. Надо думать, он не постоял за ценой, потому что Хиасль долго еще пьянствовал на эти деньги.
Писатель велел подновить сарайчик и привезти несколько возов книг. Когда плотники и каменщики ушли, сделав свое дело, писатель водрузил на воротах кусок картона с надписью «Studio hic», а другой – с надписью «Studio nunc» – он пристроил на маленький домик, дверца которого имела вырез в форме сердечка.
Крестьяне не могли понять, с какой стати писатель величает свое жилье «студией», хотя оно больше смахивает на закрытую беседку, но молодежь Рустенфлека скоро освоилась с высокопарными именами, переиначив их на свой лад: «Студия бзик» и «Студия пук».
К сожалению, времени на то, чтобы выбрать между двумя названиями – «беседка-студия» и «студия-беседка», – у крестьян не осталось. Как и времени на подыскание еще более хлестких прозвищ. Ибо события продолжали развертываться.
Писатель привез в свой приют на Зульцском холме жену и ребенка. Он так усердно и так упорно воспевал запах земли и веселый сбор яблок, описывая, какое это блаженство, когда между изнеженными ладонями горожанина струятся зерна ржи, что вскоре множество парадно разодетых господ стали съезжаться в студию-беседку. Эти высокопоставленные гонцы доставляли певцу деревни пестрые ордена, пергаменты с хвалебными словами, почетные докторские мантии и щедрые счета. И тем громче звучала хвалебная песнь поднятой целине Рустенфлека.
Но тут из города пришла весть, что там объявился великан-политик по имени Живоглот. И к этому Живоглоту стекается все больше людей всяких сословий, в том числе и земледельческого. Родом этот Живоглот из династии Живодеров. Два его основных свойства – мозоли на локтях, натертые на узком и крутом пути к правительственным скамьям, и столь же характерное: страстная любовь к светлым сортам колбасы. Поговаривали, что страсть эта на тайных сборищах переходит порой в каннибализм. Другими словами: честолюбивый и хитрый великан не прочь полакомиться человечиной и при этом причмокивает от удовольствия. Чем яростней Живоглот опровергал эти слухи, тем упорнее они становились, что подтверждалось также зловещим ростом числа объявлений о загадочном исчезновении тех или иных лиц.
Некоторые жители Рустенфлека – те, кто тоже питал страсть к светлой колбасе, – во всеуслышание заявляли в пивной после воскресного богослужения о своей любви к Живоглоту. Другие, напротив, считали столичного великана-политика опасным для людских животишек и для жизни вообще. Вот эти, другие, и направились к сладкоголосому певцу деревни на Зульцский холм и сказали ему:
– О ты, кто может так здорово описывать, предостереги человечество от всеядного Живоглота!
Но писатель, восседавший в своей студии, ответствовал:
– Лично я тоже недолюбливаю Живоглота, ибо он лишен малейших признаков культуры. Но у меня есть более важные дела. Мне предстоит целый месяц работать над балладой об узловатых ивах над заболоченным прудом. И кроме того, у меня есть жена и ребенок.
И крестьяне с грустью покинули студию.
Вскоре еще более горестные вести о наглых выходках Живоглота проникли в мирное захолустье. Число сторонников великана-политика так возросло, что Живоглот не только перестал возражать, когда его упрекали в склонности к людоедству, но даже, напротив, скалился во весь рот. И наконец, на представительном съезде партии Живоглота сей последний впервые публично сожрал мальчика, причмокивая от удовольствия. Мальчика он выписал для этой цели из исправительной колонии и поэтому мог впоследствии утверждать, что у людей есть все основания приветствовать этот поступок, ибо таким путем он, Живоглот, избавляет общество от ненужных едоков.
Когда ужасное известие достигло Рустенфлека, делегация напуганных крестьян вторично явилась в студию-беседку.
– Ради бога, мешкать нельзя! Напиши листовку против Живоглота. Мы разнесем ее по всей земле, во все дворы. Твоя листовка, о писатель, поднимет народ на борьбу с Живоглотом. Твои слова имеют вес.
Писатель же отвечал:
– На сей месяц я прикован к водяной мельнице. В цикле стихов я воспеваю колесо, жернова и ступицы. А кроме того, у меня есть жена и ребенок.
Снова крестьяне с грустью покинули студию. Писатель же отправился к водяной мельнице, чтобы воспеть в красивых словах журчание ручья, осклизлое зеленое колесо и сальные тяжелые жернова. Исписав убористым почерком целую тетрадь, он в отменном расположении духа поднялся на Зульцский холм, дабы в тишине своей студии окончательно отшлифовать красивые слова. Но студия встретила его не тишиной, а ужасным шумом. И у ворот толпились возбужденные рустенфлекцы.
Тогда сельский поэт обозлился.
– Сколько раз вам повторять: я должен воспевать природу, а кроме того, у меня есть жена и ребенок.
Тут нерешительно выступил вперед старейший из крестьян и, вертя в руках обтрепанную шляпу, тихо промолвил:
– Нет, господин писатель, нет у вас больше ни жены, ни ребенка. Сюда приходил Живоглот и съел их обоих, причмокивая от удовольствия.








