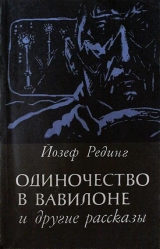
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Рикошет
Приземистый силуэт чужой машины промчался мимо, только красные габаритные фонари еще светились некоторое время сквозь тьму.
Рихард провожал глазами узкие полосы света, пока они маленькими искорками не растаяли в воздухе над шоссе.
«Это не его машина, – подумал Рихард. – Я еще издали понял по мотору. У меня есть пятнадцать минут. Старик точен. Никогда не явится ни раньше времени, ни позже. И не уйдет ни раньше времени, ни позже. Ни с работы, ни из кегельбана. В четверть одиннадцатого я подложу гвозди. Тогда мастер не попадет домой вовремя. Может, первый раз в жизни. И может, тогда он научится понимать учеников, которые опаздывают на работу, потому что подвернули ногу, прыгая со ступеньки. И тогда он не станет бить этих учеников по лицу».
Рихард почувствовал жжение, как раз под глазом, и холодной рукой, лежавшей в мокрой траве откоса, дотронулся до больного места. Рука не охлаждала. «Не беда, – подумал Рихард. – Скоро я сотру его пощечину с лица, когда старикова машина с лопнувшей покрышкой остановится возле меня, а старик будет чертыхаться на чем свет стоит, потому что готов удавиться из-за каждой минуты, которую истратил зазря. Меня старик не увидит. Зато я его увижу. И я знаю, какое у него вскорости будет лицо: разочарованное, злое, красное от пива, выпитого в кегельбане, и от неожиданной осечки здесь, по дороге домой. Таким я хочу увидеть его лицо, и еще я хочу услышать, как он орет и бранит себя самого. После этого я смогу уйти, и мерзкой пощечины уже не останется на моем лице».
Мальчик оглянулся. За его спиной мысок редкой рощицы выбегал к дороге. Кивали разлапистые папоротники под соснами. Налетел ветер, принес с собой дождь. Рихард поднял воротник своей куртки, достал из прорезных карманов на животе гвозди и картонные кружки с ладонь величиной, которые заготовил еще днем в мастерской, среди опилок и стружек.
Мальчик хихикнул. Он подумал: шину-то старику проколют его собственные гвозди. Хорошо, что он не сможет их опознать. Гвоздь – он и есть гвоздь, а пощечина – она и есть пощечина.
Рихард пропустил три гвоздя через картон, чтобы прижать к нему шляпки. Потом аккуратно выложил приготовленный кружок на склон кювета, так, что острия гвоздей алчно уставились вверх. Он готовил кружок за кружком. Загоняя гвозди в податливую поверхность, он прикусывал нижнюю губу. Один раз он чиркнул гвоздем по большому пальцу и равнодушно слизнул нерешительно выступившие капельки крови.
Смастерив девятое по счету орудие мести, он затих, отложил картон и гвозди и послушал, о чем шепчут ветер и дождь.
Приближалась машина старика, знакомое монотонное бурчание мотора. Рихард перемахнул через край кювета, собрал кружки и на повернутых кверху ладонях осторожно понес их вдоль по дороге, шагов на пятьдесят навстречу рокоту мотора, который становился все громче. Рихард разложил свои колючие игрушки на мокрых, небрежно залатанных плитах шоссе, сгруппировав их так, чтобы промежутки между ними были не шире колеса. Кружков не хватило до противоположной обочины, но, так как мастер должен был ехать по встречной полосе, Рихарда это не тревожило. Он спокойно вернулся в свое укрытие, и ни в его шагах, ни в ходе мыслей не было торопливости.
Когда Рихард улегся на свое место, трава уже успела затянуться влажной сырой пленкой, а у сосен за его спиной выросли тени. И эти тени двигались перед глазами мальчика на тускло поблескивающем асфальте. У них вдруг появились резкие очертания, вот они легли на дорожное покрытие косыми перекладинами. Потом вдруг переметнулись и окончательно исчезли. Свет фар стал хозяином положения. Рихард вдавился в мокрую траву откоса. Он закрыл глаза, он собрал воедино всю свою силу, всю волю и выдержку, какая у него была, и собранную энергию обратил в слух. Слушал всем своим телом.
И вот он прозвучал, словно злобное фырканье, – сигнал, который известил ученика о том, что мастеру воздано по заслугам. Затем поднялся беспорядочный грохот, возвестивший и дороге, и придорожной канаве, и соснам, что лицо Рихарда очищено от боли и скверны.
Рихард поднял голову. Он знал, что собственными руками упорядочил нечто пришедшее в беспорядок. Он знал, что справедливость вновь заняла свое законное место среди людей, среди могущественных и ничтожных, сильных и слабых.
Рихард горько усмехнулся. Так оно все и есть. Нельзя ждать, пока тебе поднесут справедливость на блюдечке, надо брать ее с бою. Хороший урок на будущее.
Он удивился только, что грохот не уменьшается, что он растет, сменяется скрежетом; удивление так захватило его, что он даже не успел пригнуть голову за откос шоссе, когда огромный шар из стали и света обрушился на него. «Опять этот старик», – устало подумал Рихард. И снова почувствовал на лице жгучую, до беспредельности усиленную боль.
Ранний снег в Валепавро
Я вдруг почувствовал, что на ногах у меня сандалеты. Ноги замерзли. Первый раз за несколько месяцев. Хотя солнце светило, как обычно.
– Зима в Чили, – сказал Франц-Педро. – Глянь-ка. – И указал на Кордильеры. Горная цепь не вырисовывалась, как обычно, черным изломом на фоне неба. Она оделась в белизну, которая под лучами солнца казалась пожелтевшей бумагой.
– Снег, – сказал Франц-Педро. – Завтра наденешь лыжные ботинки. Поедем в Валепавро. Там такие накатанные лыжни, как у нас… как у вас в Хохшварцвальде в январе.
Я хмыкнул. Франц-Педро, хоть и родился в Сантьяго, так высоко ценил свое немецкое происхождение, что в разговорах с чилийцами называл своей всю Европу. Лишь в разговорах с европейцами он не твердо знал, на какой континент ему следует претендовать, и колебался между обоими. Как, впрочем, и в выборе имени. Родители Франца-Педро, выходцы из Вюртемберга, наделили сына двойным именем, как двойным якорем, предоставив самому Францу-Педро решать, на каком из двух в один прекрасный день следует поставить ударение.
На другое утро Франц-Педро заявился ко мне раньше обычного. С позвякиванием подъехал он к нашему отелю. Предохранительные цепи. Когда он притопал к нам в ресторан, вид у него был донельзя бравый: дымчато-голубой норвежский свитер, лыжные брюки и черные блестящие ботинки с красными шнурками.
– Сегодня работать не будем, – сказал он мне и оператору. – Лыжи для вас в машине, а вот обещанные ботинки. – И он с таким решительным видом выставил перед нами смазанные жиром башмаки, что мы после короткого совещания решили и впрямь поехать в горы.
– Освещение сегодня все равно слабовато, – сказал оператор, к моему великому облегчению. – Видишь, на солнце какая завеса.
Для каждого прогула можно найти уважительную причину.
Через полчаса езды мы застегнули свои куртки, а еще через полчаса беспокойное звяканье цепей захлебнулось: граница снега. Мотор недовольно стонал, но тем не менее послушно тянул машину Франца-Педро по крутому серпантину, ни разу не отказав всерьез.
– Снег выпал на три недели раньше обычного, – сказал Франц-Педро, когда нам пришлось вылезти.
Дорога кончилась. Словно баррикада, ее перегородил домишко, стены которого были сложены из обломков скалы, ничем между собою не скрепленных.
– Каменоломня, – сказал я.
– Ты что?! – возразил Франц-Педро. – Разве ты не видишь доску над дверью?
– «Эль тесоро д’инка»? Вижу.
– Вот именно. Сокровище инков. Хозяин – метис. Ladino [33]33
Здесь:человек, хорошо говорящий по-испански.
[Закрыть]по-испански. Летом собирает травы в расселинах, зимой поджидает лыжников. Да вот и он сам.
Ladino сдвинул мохнатую занавеску из шерсти ламы, закрывавшую вход, и зазывно повел рукой в сторону своей каменной хижины.
– Me gusto mucho [34]34
Очень рад (исп.).
[Закрыть], – сказал он. – Добро пожаловать. Отличный снег, будь он благословен, привел ко мне сеньоров. Что прикажут подать кабальерос?
– Писко, чтоб разогреться, – сказал Франц-Педро.
Ladino выдвинул нижний ящик своего комода, где на подстилке из сена хранил стройные бутылки с чилийским национальным напитком. Кроме комода да еще трех табуреток, другой мебели в комнате не было. А кроме этой комнаты, других комнат в хижине не было.
Хозяин подал нам соль, мы насыпали ее между большим и указательным пальцами и слизнули. Затем надкусили дольку лимона и процедили по стаканчику писко сквозь накопившуюся во рту кислоту.
Ladino получил свои два крузейро. Мы надели лыжи.
– А уж машину вашу, сеньоры, я буду беречь пуще, чем зеницу ока! – крикнул ladino нам вслед.
Мы пошли наискось к склону. Писко еще некоторое время перекатывалось огненными шариками в желудке. Затем шарики раскололись, образовав благодатное тепло.
Когда все хоть по разу да упали, стало ясно, что затея была рискованная. Снежный покров лег неравномерно. Местами он достигал в расселинах метровой глубины, местами же стелился по камню тонко, как иней. Несмотря на пронизывающий ветер, который неистовствовал, будто хотел аккуратно, словно хирург, вылущить из нас скуловые кости, все мы вспотели от напряжения.
Тут Франц-Педро при торможении упором поддел лыжей какой-то сверток, сверток ударил меня в плечо и откатился. При падении с него свалилась серая тряпка, и мы увидели в снегу мертвого ребенка. Изможденное существо было одето в расшитое черным и красным платьице, какие носят дети индейцев. Коричнево поблескивали остекленелые глаза.
Мы оглянулись, ища людей, следы, и не нашли ничего.
– Надо доставить ребенка вниз, хотя бы до «Тесоро», и потом известить власти.
Мы завернули маленькое тельце в вытертое, как рогожка, одеяло и привязали на спину Францу-Педро. После этого мы покатили вниз; это был нелепый бег на длинную дистанцию: каждый считал, что мертвому ребенку будет лучше, если двигаться как можно осторожней и пружинить на неровностях почвы.
Завидев издали каменную хижину ladino, наша погребальная процессия остановилась. Мимо «Тесоро» вниз по склону тянулась темная цепь. Сотни индейцев.
– Они спускаются из горных резерваций. Это потомки инков. Голод гонит их вниз, в долины. Может, это их ребенок. – И Франц-Педро со своей легкой ношей на спине размеренным шагом продолжал путь к дому ladino. Индейцы, замыкавшие скорбное шествие, не обращали на нас никакого внимания. Опустив головы, они брели мимо, лица у них были до самых глаз обмотаны лохмотьями, которые серебрились от замерзающего на лету дыхания. Многие шли по снегу босиком, и ледяной наст в кровь ранил их ноги.
Когда мы отодвинули в сторону занавеску из ламы и просунулись в хижину, мы увидели, что ladino сидит у огня. Что бутылка, в которой у него была водка, пуста и что на комоде лежат два таких же серых свертка, как на спине у Франца-Педро.
Ladino поднял лицо.
– Какая благодать, сеньоры, что в Валепавро раньше обычного выпал снег, – сказал он. – Поистине благодать. – Последние слова он почти прорычал.
Мы испугались и так осторожно подложили мертвое дитя к двум остальным, словно все это была наша вина: и Валепавро, и снег, и голод, и смерть.
Подсев к низкому очагу рядом с хозяином, мы тщетно ждали от него оправдательного приговора. Хозяин молчал.
Охотники возвращаются
Сперва мальчики играли на лугу в хоккей. Вместо шайбы у них была сплющенная банка из-под молока. Худые руки мальчиков размахивали кривыми дубинками, словно то были первоклассные клюшки.
Но сырая земля мешала им разыграться как следует, затрудняла бег, уменьшала силу ударов. Под башмаками чавкал пропитанный водой дерн. В предпоследний день осени на земле уже лежал слой снега в палец толщиной. Потом между осенью и зимой вклинилась неделя оттепели, она обнажила серо-желтую луговину, которая уже прильнула к земле, чтобы отдохнуть до весны.
Поскольку решительно начатая встреча маленькой мальчишечьей команды на сырой податливой земле стала постепенно медленной и вялой, рыжеволосый капитан решил ее прекратить. Из восьми мальчишек, игравших на лугу, он был самый маленький, но его голубовато-серые глаза, спокойные и пытливые глаза над густой россыпью веснушек на щеках, сделали его предводителем. Когда рыжий поднял руку и провозгласил:
– Нет смысла! Земля как кисель! Давайте лучше играть в войну, – ответом ему был взрыв одобрения.
Только один, в меховой шапке, возразил недовольно:
– От этого кисель никуда не денется.
Казак только что забросил шайбу в ворота, и успех придал ему дерзости.
Рыжий уверенным движением руки отмел возражение.
– А для войны кисель как раз годится. Унесите-ка лучше клюшки в сарай и принесите оттуда винтовки.
Он перекинул казаку свою клюшку.
– Прихвати и мою. Я останусь здесь. И немедленно возвращайтесь.
– А твою винтовку принести из сарая? – спросил казак, мальчик в высокой меховой шапке.
– Не нужно, – ответил рыжий. – Мое оружие при мне. – Он вытащил деревянный пистолет, засунутый за пояс. – Офицерам не нужны винтовки, – добавил он. – У них пистолеты.
– Я так спросил, – сказал мальчик в меховой шапке извиняющимся шепотом. Он взвалил на плечо обе клюшки и захлюпал за остальными к невысокому сарайчику на краю луга.
В свое время хозяин наскоро сколотил его, чтобы хранить в нем грабли, вилы, мотки колючей проволоки. Для мальчиков же покосившийся закуток на краю города был штаб-квартирой, цейхгаузом, вигвамом, космическим кораблем в зависимости от намерений рыжеволосого, которого соответственно величали генералом, шефом, вождем или командиром.
Рыжеволосый глядел поверх мусорных отвалов, зубчатые очертания которых виднелись перед линией городских домов. Он увидел, как серый цвет неба на востоке становится свинцовым, и угадал, что надвигающийся вечер несет с собой холод и силится вытеснить тепловатый воздух над вымершим лугом.
Мальчик перешел к букам, что росли у водопоя. Он сунул пистолет в карман брюк и начал собирать сухие сучья, которые осенний ветер с легкостью вычесал из древесных крон. Сучья были сырые, но за водопойным корытом рыжеволосый обнаружил совсем сухую ветку, которую разломал на кусочки в палец длиной.
Потом мальчик достал из-под пуловера, из нагрудного кармана спортивной рубашки, пеструю, с ладонь величиной книжку с картинками, задумчиво вырвал из скрепок листок за листком, скомкал, положил бумажные шарики на землю и накрыл сверху сухими ветками. Потом он выгреб из кармана штанов раздавленный спичечный коробок и поджег свое маленькое сооружение, предварительно послюнив палец, чтобы узнать направление ветра, и заслонив телом огонек спички. Когда костерок как следует разгорелся, мальчик домиком сложил над ним ветки потолще и смотрел, как жар выгоняет шипящую пену на изломах трухлявых сучьев.
Сквозь расползающиеся полосы дыма он увидел своих друзей, которые возвращались из сарая. Он выпрямился, стоя у костра, медленно поднял деревянный пистолет на уровень глаз, направил его в мальчика в меховой шапке и крикнул:
– Война начинается. Все против всех.
Мальчик в меховой шапке сорвал винтовку с плеча.
– Бах! Бах! – произнес рыжий и еще: – Падай! Ты убит!
Мальчик в меховой шапке выронил винтовку, упал на жухлую, сырую траву и замер неподвижно, даже когда с его наклоненной головы свалилась шапка.
Рыжий одобрительно кивнул, сдул невидимый пороховой дым над воображаемым дулом пистолета и загляделся на схватку своих ползущих и прыгающих воинов, которые, выставив деревянные винтовки, подкрадывались друг к другу и с глухими проклятьями вынуждали облюбованного врага покинуть укрытие. Рыжий стрелял без промаха. В голову, в сердце, в шею. И его «бах-бах!» валило с ног одного за другим.
Но тут рыжий увидел чужих. Они явились в грубошерстных накидках свободного покроя, болотно-зеленые, мышино-серые. На согнутой руке у каждого, подрагивая от шагов, лежали, глядя в землю, двойные вороненые стволы охотничьих ружей.
Теперь оба они подошли к костру и уставились на рыжего, а тот направил в чужаков ствол своего деревянного пистолета. Группки мальчиков распались, они молча обступили своего вожака.
Издали, с той стороны, где лежали кучи мусора, донеслось тявканье собак. Охотники переглянулись. У того, что похудей, лицо отливало желтизной. Другой, толстый, в серых обмотках, достал из-под накидки плоскую бутылку в светло-коричневом кожаном футляре и, отвинтив крышку, протянул желтолицему, который тотчас прижал ее к губам. При каждом глотке дергался кадык на тощей шее. Потом к бутылке приложился толстый. Он пил без спешки и, оторвав бутылку от губ, довольно крякнул.
Хриплое тявканье собак стало громче. Охотники глянули в сторону холмов. Рыжеволосый опустил наконец свой пистолет и поглядел туда же. Теперь он разглядел три темные точки, которые бессмысленно петляли по зеленой равнине. Несмотря на зигзаги и неожиданные петли, все три пятна медленно приближались к мальчикам, к охотникам, к огню. Тогда желтолицый открыл рот и заговорил, да так неожиданно, что мальчики вздрогнули. Вот что он сказал толстому:
– Твой выстрел!
Толстый снял ружье с локтевого сгиба и прижал обитый металлом приклад к плечу. Потом он еще раз опустил тяжелое охотничье ружье, нацепил крохотный кусочек фольги на мушку в конце ствола и снова вдавил приклад в плечо.
– Освещение не то, – пробормотал толстяк, прижимаясь розовой щекой к дереву приклада.
– А ты попробуй, – сказал желтолицый.
Тут мальчики увидели, что три пятна превратились в двух собак и одного зайца, заяц – впереди, собаки – на некотором расстоянии сзади и чуть сбоку. Заячьи петли становились все короче, все равномернее. Теперь уже можно было довольно точно предсказать, когда заяц метнется влево, а когда вправо.
Тем временем темнота сгустилась настолько, что внезапный густо-красный луч, ударивший из обоих стволов, прорезал ее, как ножом. А звук выстрела широко раскатился по равнине до мусорных отвалов.
Толстяк опустил приклад, и тот повис у его серых обмоток. Сам он глядел туда, где схлестнулись голоса обеих собак. Лицо толстяка прояснилось, когда одна из собак притащила маленький бурый комок и, преданно повизгивая, опустила возле его башмаков на толстой подметке. Это был заяц. При свете угасавшего костра рыжий мальчик мог отчетливо разглядеть голову мертвого зверька. Мальчик сглотнул комок. Дробь выбила зайчонку глаз.
Теперь охотники задвигались проворнее. Они щупали изрешеченную шкурку, перекидывали ее с руки на руку, сажали на поводок и успокоительно похлопывали ласкающихся собак и говорили им добрые слова. А потом они размеренным шагом зашагали прочь по податливой дернине.
Рыжий подскочил к огню первым. Возле дотлевающих углей, которые время от времени вспыхивали на легком ветру, он увидел темную полоску крови. «Охотники вернутся, – подумал он. – Они вернутся завтра либо послезавтра, их выстрелы выбьют глаза зверям и оставят пятна крови возле наших костров».
Рыжий швырнул свой пистолет в дотлевающие угли. Искры взметнулись вверх. А потом родилось новое пламя. Рыжий почувствовал, что рядом стоит его дружок в меховой шапке. «Этот тоже бросит оружие в огонь», – подумалось ему.
Он терпеливо ждал.
Черная мокрая лодка
Человек в клетчатом костюме бросал плоские камушки так, чтобы они чиркали о серую гладь реки. Вода сердито булькала возле толстых подметок его спортивных башмаков, булькала непрерывно, чуть постанывая, словно несла непосильный груз. Человек бросал и бросал, пока не перебросал всю гальку, лежавшую у его ног. Лицо его, брюзгливо замкнутое, не разгладилось от этого занятия. Он был недоволен результатом. Ни один камушек не подпрыгнул над поверхностью больше трех раз. «А бывало, они прыгали у меня до девяти раз», – думалось ему.
«Надо вернуться в ресторан, – размышлял он дальше. – Глупость какая, выйти к воде без пальто. И это в конце ноября».
Но у него больше не было сил присутствовать на семейном торжестве в «Зеленом салоне» ресторана. Бесила эта улыбчатая гордость, с которой демонстрируют детей, когда тем удалось более или менее успешно окончить начальную школу, не застряв на второй год. Это настырное смущение, с которым между десертом и кофе приподнимают завесу над суммой месячного дохода. Эти покровительственные расспросы, с которыми липнут к нему тетки и кузены: «А ты, Юрген, как, все еще рисуешь?» – «А сколько тебе платят за одну картину маслом?» – «А какие существуют возможности продвижения в вашей отрасли? Ну, к примеру, можешь ты стать старшим художником или, там, возглавить отдел? Да, еще ставки! Какие у вас, у художников, ставки, собственно говоря?»
Вот какие были вопросы. Те, кто их задавал, не знали, что такое рисунок гуашью или гравюра на дереве, зато они знали, сколько у них под началом человек. «У меня тридцать человек под началом», – сказал несколько минут назад Тео, младший его зять, чьей профессии он не знал, да, пожалуй, и знать не желал, Тео в черном шерстяном костюме высшего качества. Тео с серебряным галстуком и с платочком в нагрудном кармане. Вот тогда-то ему и захотелось глотнуть свежего воздуха.
Человек в клетчатом костюме увидел скопление плоских желтых льдин, проплывающих мимо. Лед, слишком рано образовавшийся в излучинах из-за преждевременных заморозков, а теперь подтаявший и вспученный под лучами солнца. «Водянистый серый цвет, пятнистая, выщелоченная желтизна, – думалось ему. – И еще движение. Хорошо бы все это удержать на полотне. Но движение, медленный и тяжелый ток воды, не схватишь. На палитре его нет. Потому что дело тут не в краске. Я сам должен наметить его между желтыми кусками льда».
Тут человек увидел лодку. Она застряла в голых ветках двух кривых и жалких березок, чьи корни почти не находили здесь пищи.
В несколько шагов человек перемахнул каменистую россыпь и оказался возле лодки. Она до половины лежала на берегу. Дерево ее пропиталось водой и почернело. Лишь весла блистали новизной и свежей краской, причем одно было зеленое, другое – красное. Не теряя времени на долгие раздумья, человек шагнул в лодку и внимательно оглядел зеленое весло. Странная какая-то зелень. Лишь теперь он догадался, как она получилась: должно быть, в ведре были остатки фиолетовой краски и это отняло у зеленой обычную остроту.
Человеку вдруг захотелось пошлепать веслами. Он вышел из лодки, изо всей силы столкнул ее в воду и прыгнул сам в темную деревянную посудину. Прыгая, чуть не упал. Доски были осклизлые. Но потом несколькими ударами весел ему удалось смирить пляшущую лодку.
Он хотел подойти к кромке ледяного поля, но, пока он вышел на середину реки, ноздреватые льдины ушли далеко вперед по течению. И все же он не жалел, что прыгнул в лодку. Если смотреть по-над водой, льдины выглядели красивее, чем с берега.
Вдруг что-то захрипело на дне лодки, и человек увидел, что в одном месте на носу по черному дереву быстро растекается блестящее пятно.
Человек нагнулся к луже, но что-то звучно всплеснуло по обеим сторонам лодки. Это весла упали в воду. Человек лишь коротко мотнул головой. Он нашел трещину – узенькую, в нее с трудом проходил ноготь. Лодка неуклюже завертелась. Колени у человека намокли. Он так и стоял, согнувшись над трещиной и ощущая кончиками пальцев жизнь воды.
Ничего другого он не делал. «Не умею плавать, – думал он. – Ни здесь, в воде, ни там, в ресторане. Они обойдутся и без меня, деятельные кузены и кузины. На семейных сборищах обычно подводят итоги. Ну что ж, подводи свой, – сказал он себе, мимоходом заметив, как край его рукава начинает впитывать воду. – Ты проработал двенадцать лет, но так и не научился рисовать текущую воду. Ты не смог продать ни одной картины, а на выставках твоей группы о тебе всегда поминали в разделе «и др.» и вешали в самых темных углах. Утонул в ноябре. Сборище в ресторане скинется на объявление: “Нелепый трагический случай оборвал… подающий надежды художник…”»
– Эй, Юрген!
Человек поднял глаза. На берегу стоял Тео. Один. И размахивал руками.
– Юрген! – кричал он. – Юрген! Что случилось?
– Течь в лодке! – крикнул человек.
– Заткнуть!
– Чем?
– Платком! – И, выдернув из нагрудного кармана свой игрушечный платочек, Тео отчаянно замахал им.
Человек почувствовал, как вода набирается в башмаки. Не хотелось ему затыкать щель.
– Давай же! – неистовствовал Тео. – Затыкай!
Он шел по берегу, чтобы держаться вровень с неуправляемой лодкой, скользил порой на мокрых круглых камнях, но не останавливался.
– Мне велено привести тебя! – кричал Тео, и с каждым словом облако пара вырывалось у него изо рта. – Чтоб ты нас нарисовал!
«Чтоб я их нарисовал», – повторил про себя человек. И усмехнулся, а потом даже засмеялся, да так громко, что Тео услышал.
– Ну, справишься? – крикнул Тео. – Или помочь?
Все еще смеясь, человек достал свой голубой носовой платок, помахал им – для Тео – и потом тщательно затолкал его ногтями в трещину.
– Вычерпывай воду! – крикнул Тео. В руках у него вдруг оказалась доска. – А потом я брошу тебе эту штуковину. Вместо весел! Ну, валяй!
Тео поскользнулся, выпрямился и запрыгал дальше по камням.
«Я их нарисую, – думал человек, ладонью выплескивая воду за борт. – Я их нарисую».
Когда берег медленно подошел ближе и лицо Тео, довольное, красное над серебряными полосками галстука, стало видно вполне отчетливо, человек подумал: «А сегодня ночью я попробую нарисовать движение воды между льдинами».








