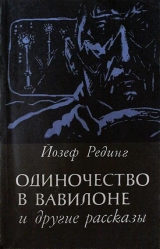
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Изгнание
Мальчик вдавливал руку в песок. Все глубже и глубже, в прохладную, податливую мягкую белизну. Песок был приятный, как вода дома в ванне. Но конечно, копаться в песке куда лучше, чем мыться по субботам. В ванну тебя загоняют, иногда даже шлепком по одному месту. Хотя потом можно пускать кораблики, а навстречу кораблику поднять высокую волну, если самую малость поерзать. Вода в ванне, поначалу прозрачно-зеленая, превращается наконец в мутносерую.
Зато мягкий, податливый песок не менял цвета. Он не сменил его даже тогда, когда мальчик по локоть зарыл в него обе руки.
– А теперь засыпь мне ноги, – сказал он девочке.
Та оторвалась от кукол и начала старательно сыпать песок на ноги мальчика. Белая струя песчинок щекотала кожу. Мальчик взвизгивал.
– А ну марш отсюда!
Дети испугались. Мальчик выдернул руки из песка, вскочил. Пыль поднялась, солнце слепило глаза. Все же дети разглядели человека, который их гнал.
– А ну давай отсюда!
При этом он смеялся. Дети стояли в нерешительности. Мальчик не спеша отряхивал песок, который островками прилип к ногам.
– Вы и так измазались, словно поросята. А ну домой!
– Почему? – спросил мальчик.
– Потому, – ответил человек.
– Мы здесь всегда играли. Нам здесь можно, – сказал мальчик, и в голосе его смешались удивление и упрямство.
– Было можно, стало нельзя, – сказал человек и помахал кому-то рукой.
По дороге, все увеличиваясь, приближалась фигура старика, который тащил столб в белую и красную полоску.
– А ну давай его сюда, Паульсен, – закричал тот, что разговаривал с детьми.
И равнодушно, словно до конца дня ему предстояло сделать еще много тысяч таких же бесполезных шагов, старик затрюхал в их сторону.
– Почему нам сегодня нельзя больше играть? – упорствовал мальчик. Девочку мало-помалу охватывал страх.
– Идем отсюда, – попросила она, но мальчик только отмахнулся.
Человек посмотрел на мальчишку, который стоял перед ним, широко расставив ушедшие в песок ноги и вопросительно глядя на него.
– Не только сегодня больше нельзя, – отвечал он. – Никогда больше нельзя.
– Мы здесь всегда играли, – повторил мальчик, и казалось, будто словом «всегда» он хочет уничтожить слово «никогда». Потом, уже тише, спросил: – Дяденьки, вы ведь скоро уйдете, верно?
– Уйдем, – пробурчал человек, – мы-то уйдем. – И обращаясь к старику: – Воткни ее здесь. А Кубиак уже пришел с теодолитом?
– Во-он его машина подъехала.
– Порядочек, – сказал человек.
Мальчик по-прежнему стоял перед ним. Девочка успела уже отбежать довольно далеко.
– Н-да, мы-то сегодня к обеду опять уйдем, – сказал мужчина, – но после нас придут другие. С лопатами. Они здесь все пригладят и выровняют, планировать это называется, если по-научному.
– А потом?..
– Потом придут каменщики и наведут бетонные стены. А самыми последними явятся ребятки в серой форме и с картонными мишенями.
Мальчик все равно не понимал. Человек похлопал его по узкому плечику. Плечо чуть дернулось, и рука с него соскользнула. Теперь голос взрослого звучал зло:
– Потом придут солдаты, понимаешь, ты, чумазый? Тебе тоже не миновать солдатчины. И вокруг поставят ограду из колючей проволоки. И начнут стрелять, так что степь задрожит. Они будут стрелять и стрелять, каждый божий день. Стрельбище здесь устроят, полигон. А вам здесь больше делать нечего. И катись отсюда!
Мальчик сглотнул. Человек ждал. Похоже было, что его хотят спросить еще о чем-то, но тут мальчик медленно повернулся, достал из песка свои ботинки и перекинул их через плечо. Следы босых ног выстраивались в ровную линию, которая медленно подползала к девочке, дожидавшейся на краю площадки.
Камерун Реглан
Таксисту пассажир не понравился. Иммигрант-итальянец, облезлый какой-то, изглоданный тяжелой работой. С большими удивленными глазами. А в голове, порядком облысевшей, наверняка роятся при виде Нью-Йорка сотни идей и планов. Ко всему – толстая жена и трое детишек, у одного вздернутый сопливый носишко.
Но теперь была его очередь, очередь Камеруна Реглана, шофера фирмы «Йеллоу кэб». Не мог он спихнуть всю пятерку на кого-нибудь из коллег. Каждая поездка – своего рода лотерея. То попадется пузан из первого класса, который торопится в клуб и небрежно отмахивается, когда захочешь дать ему сдачу с десятки, то такой вот мозгляк, который не сводит глаз со счетчика и при каждом щелчке сует руку в карман – хватит ли для уплаты тех центов, что прислал ему какой-нибудь родственник.
– Вам куда?
– Si, si, очень карашо, prima, wonderful!
Приезжий был так возбужден, что вообразил, будто его все будут расспрашивать, как ему показался Нью-Йорк с первого взгляда. Но грузная синьора толкнула мужа локтем и что-то ему сказала.
– Ах да, вот! – Из картонной коробки, которая, по всей вероятности, заменяла ему бумажник, итальянец достал истертый конверт. – Вот здесь: «Пеола Эдди», 17 ист, 89-я стрит.
«Значит, в самых что ни на есть трущобах», – подумал Камерун Реглан, но виду не подал.
– О’кей, – только и сказал он, распахивая дверцу своего желтого «доджа». – Садитесь.
– А багаж? – спросила женщина.
Камерун Реглан взглянул на изодранный плетеный чемодан, который она и имела в виду, говоря о багаже. Не иначе макаронники с этим чемоданом годков сто назад ездили в свадебное путешествие.
– И все? – спросил Камерун Реглан.
– Si, – ответил пассажир.
– Сейчас я эту… этот чемодан поставлю в багажник. Одну минуточку.
Спрятав плетенку, шофер торопливо протиснулся на свое место. Он изо всей силы выжал сцепление, и машина так рванула вперед, что господа итальянцы за его спиной попадали друг на друга. Но им это даже понравилось: все засмеялись, замахали весело руками.
Камерун Реглан вырвался из потока машин, забивших подступы к нью-йоркскому порту, и смог прибавить скорость. «В два счета домчу макаронников в ихнюю «Пеолу Эдди», – думал он. – Надо же и мне отдохнуть, хотя бы под рождество».
И проговорил в микрофон:
– Следую с пассажирами, иммигранты. От мола до восемьдесят девятой.
– Так и запишем, – донеслось в ответ.
Итальянцы удивились, что Камерун Реглан отметил не без удовлетворения, после чего еще небрежнее положил руки на баранку. Черт побери, чем, в конце концов, виноваты бедные макаронники, что у них нет денег? Да он сам всего двадцать лет назад перебрался из Пуэрто-Рико в этот город, который так много обещает и так редко держит слово. «Не могу я надуть ни этих стариков, ни их малышей, а уж сегодня вечером – и подавно не могу. Вот у того чванного британца в пальто верблюжьей шерсти я, прямо скажу, выманил монеты, я сразу понял, что он отродясь не бывал в Нью-Йорке. Он хотел в театр «Сэлли-Бокс». От порта три квартала, а я этого пижона провез через весь Манхэттен и Хобокен. Через полчаса мы были у театра. А могли бы добраться за три минуты. Настучало – будь здоров. А чаевых он мне, между прочим, не дал ни цента. Так что меня потом и совесть не мучила».
Камерун совершил чрезвычайно искусный маневр, который едва ли восхитил бы нью-йоркскую полицию в той же мере, в какой нравился самому Камеруну. В зеркале заднего вида он наблюдал лица своих пассажиров. Удивление медленно угасало. Теперь они ехали по Третьей авеню. Тут все было совсем уж неприглядно.
«Верно, напоминает их сицилийское захолустье или откуда они там приехали. – Камерун Реглан сдвинул на затылок форменную фуражку своей «Йеллоу кэб». – А жалко, что в них умирает детская радость. У Нью-Йорка, в сущности, две стороны. Макаронники небось посмотрели какой-нибудь фильм, который разыгрывается в роскошных отелях да во дворце у кинозвезды. Ава Гарднер в ванне, вся окутанная пеной, – и все задаром. Да, старикан, на билете, который прислал тебе сын, об этих подробностях ничего не говорилось».
А вот и зеленая неоновая надпись, две буквы в ней не горят. От нее осталось только «…ола Эдди».
– Приехали, синьор, – сказал Камерун и плавно притормозил, как делал только перед лучшими отелями, у которых навесы над подъездом простираются до края тротуара. Но ради макаронников в сочельник он решил проявить великодушие. И когда последний бамбино, тот, что в соплях, выкарабкался с заднего сиденья и, оживленный быстрой ездой, оглянулся на шофера, Камерун Реглан улыбнулся ответно. Сухо так и наскоро – но все-таки улыбнулся.
– С вас один доллар сорок, – сказал он потом. И верно: тощему синьору пришлось долго шарить в карманах, пока он наскреб всю сумму. «Небось всю дорогу учился, переводил лиры в центы», – подумал шофер.
– Вам чего?
В дверях «Пеолы Эдди» появился хозяин, маленький, морщинистый, с ядовито-желтым галстуком.
– Я Карло Франтинетти, – заявил тощий. – Нас вызвал сюда мой старший сын Джованни. Для нас заказана комната и уплачено за месяц, и он должен был сам нас здесь ожидать.
Хозяин расхохотался.
– Ожидать – это вы здорово! Ха-ха-ха! Ожидать – это классно! Комнату он, верно, оплатил за целый месяц. Да только самого Джованни и след простыл. Он позже вернется. Где-нибудь после рождества, он так сказал! Дела у него в Айдахо, он так сказал.
«Небось сидит в тамошней тюрьме», – подумал Камерун Реглан.
– Но в комнате, – продолжал хозяин, – в комнате хоть шаром покати, может, Джованни думал, вы привезете свою мебель.
– Свою? – У старика даже дух захватило. – У нас… у нас только и было что два… два шкафа от бабушки… и… и козлы для постелей, только они с жучком были. И Джованни это знал… Да за перевоз багажа с нас бы взяли больше… Ну да, больше, чем сам багаж того стоил.
Он говорил все тише и тише. Он стыдился. Хозяин хлопнул его по плечу.
– Не беда, поспите и на полу, пока не вернется Джованни. Он сейчас на отдыхе, – тут хозяин подмигнул шоферу.
«Так я и знал», – подумал Камерун Реглан.
– А разве он не по делам уехал? – спросил старик удивленно.
– Ну, может, он все зараз успевает, в Айдахо-то, – успокоил его хозяин. – У меня найдется парочка старых матрасов, они, конечное дело, не очень мягкие, но…
– Эй, шеф, вы свободны?
Камерун отвел глаза от картины вселения. Молодая девушка, нет, теперь он разглядел, не молодая, а среднего возраста. Но умело подкрашена. Наверно, совладелица какого-нибудь бара здесь поблизости.
– Да, свободен.
– Пожалуйста, на Центральный вокзал. Мне надо на поезд Балтимор – Огайо. К завтрашнему утру я должна поспеть в Литл-Мемфис. Чтобы по традиции пойти в церковь с моими стариками.
Не переставая трещать, приувядшая дама уселась в «додж».
– Поскорей, пожалуйста, – попросила она. – Поезд отходит в 11.23, а мне надо еще в привокзальных магазинах купить подарки, духи какие-нибудь и несколько шоколадных наборов с бантиками для мамы, а для малышки Валентина чего-нибудь сладенького. Итак, мчитесь, будто реактивный истребитель! Хи-хи-хи!
Смеялась она по-дурацки. Камерун Реглан поехал. «Вот корова, – думал он. – На ходу покупать рождественские подарки. Впрочем, ее дело».
– Ой! Красный свет! Как назло, когда спешишь, непременно… – Пуховка, которой она обрабатывала свой нос, заглушила поток слов.
Камерун Реглан ждал. Мысли его неуклонно возвращались к итальянцам. «Лично я бобыль, – думал он, – но могу себе представить, каково сегодня на душе у этого старика: первый раз уехал из дому, на что прокормить своих бамбино – неизвестно, пустая комната, Джованни не встретил… Верно, торчит, бедняга, в тюрьме, такой же одинокий… И ко всему сегодня сочельник. Бр-р, мрачновато получается».
Камерун Реглан передернулся. На светофоре вспыхнул зеленый. Путь свободен.
– Быстрей, быстрей, – заладила свое сидящая позади дама.
Она начала действовать Камеруну Реглану на нервы, и он обрадовался, завидев по правую руку Центральный вокзал.
– Вот здесь. Вы и впрямь летели, как истребитель. Такое усердие не должно остаться без награды. Вот, держите!
«Десять долларов! Господи Иисусе!»
Камерун Реглан поспешно распахнул дверцу и помог щедрой даме вылупиться из машины вместе со шляпной картонкой.
– Этого добра у меня хватает! – хихикнула перезрелая девица на прощанье. – Недурно зарабатывала в последнее время. – С этими словами она исчезла в здании вокзала.
Захлопывая дверцу, Камерун Реглан вздрогнул: в багажнике остался драный чемодан итальянцев. «А я и не вспомнил про него, покуда разыгрывалась вся сцена на 89-й. Да еще эта мамзель приперлась, мчитесь, мол, на вокзал. Если они в пустой комнатенке останутся еще и без последних шмоток, они ж с ума сойдут от горя. Надо ехать назад, немедленно».
Немедленно. А почему, собственно, немедленно?
«Даже эта полушелковая мамзель собиралась чего-то покупать, чтобы ее старики почувствовали, что на дворе рождество». Камерун Реглан ухмыльнулся. Как тогда сопливому бамбино. Но потом ухмылка переросла в настоящую улыбку. Шофер прямо взлетел на свое место, круто вырулил из вереницы машин, стоящих перед вокзалом, и помчался на Третью авеню. Теперь, в праздничный вечер, движение на улицах Нью-Йорка поредело, и Камерун Реглан ухитрился за три минуты добраться до магазина итальянских деликатесов. Продавщица даже испугалась, когда Камерун Реглан ворвался в магазин.
– Что едят итальянцы на рождество? – возбужденно спросил он.
Продавщица растерянно указала на какие-то лакомства, завернутые в целлофан.
– Вот это…
– Не надо объяснений! – перебил ее шофер. – Заверните. На пять персон!
– Это обойдется вам почти в двадцать долларов, – сказала продавщица.
– Заверните, – повторил шофер.
Доставая из багажника плетеный чемодан, он бормотал про себя:
– Типичные макаронники! Даже не заперли.
Он открыл чемодан. Немного латаного белья, истоптанные сандалии, истертые плащи. Камерун Реглан вложил туда свои дары, поставил чемодан рядом с собой на сиденье и поехал на 89-ю стрит, к «Пеоле Эдди».
В баре хрипела пластинка. Лишь с трудом Камерун Реглан узнал в этом хрипе «Белое рождество» Бинга Кросби. Несколько подвыпивших оборванцев подпевали. Снова явился хозяин, на сей раз, в знак торжественности момента, опустив рукава.
– Где итальянцы?
– Карло Франтинетти?
– Да.
– Они в церкви. Не хотели сидеть совсем одни.
– Эти макаронники оставили у меня свой чемодан. Когда они вернутся, немедленно им передайте. Только не забудьте. До свидания. И счастливого вам рождества.
– Вам также, – ответил хозяин.
Похороны государственного значения
Рука была белая, пухлая. Большой перстень с искусственной патиной напрасно пытался скрепить тестяную расплывчатость коротких пальцев.
Потом рука вздрогнула, небрежно отодвинула в сторону пачку почтовой бумаги с вычурной виньеткой и разгладила листок, по всей вероятности вырванный из школьной тетради и исписанный размашистым почерком со множеством клякс.
Лишке-Берман поднес листок поближе к глазам и с трудом прочел:
«Дорогой сын! Умер Карл Зилинский. Хоронят его в пятницу. Ты сможешь приехать? А мы про тебя опять читали в газете. До свиданья. Мама».
Так, так. Значит, Карл Зилинский умер. Лишке-Берман провел рукой по лбу, потом его рука спустилась на глаза, стиснула переносицу и бессильно скользнула вниз по подбородку – жест, который стал для него привычным в последнее время. Карл Зилинский! Сын поденщика! Как и он, Лишке-Берман. Они вместе ходили в народную школу в Фербахе. Учились примерно одинаково. Только Зилинский был равнодушнее, не гнался за отметками, а больше любил мечтать или читать книжки. Когда Лишке-Берман лез из кожи, чтобы считаться первым учеником или за право быть первым в какой-нибудь игре, Зилинский только улыбался и всецело предоставлял ему эти «утомительные игрушки», как он их называл. Игрушки, думал тучный мужчина, игрушки. Так Зилинский говорил и когда их выпустили из школы и Лишке-Берман, поступив в ученики к сапожнику Фельтену, напялил на себя форму одного глубоко народного союза. Зилинский же сделался столяром; в свободное время он залезал на крышу мастерской, если было солнце, или под крышу, в стружки, когда барабанил дождь. Всякий раз с книгой. Но когда однажды встреченные Лишке-Берманом по дороге домой представители еще более народного союза сперва пробили ему голову кастетом, а потом пинали в низ живота коваными сапогами, Зилинский был единственным, кто ринулся в кучу грязно-коричневых рубах, пытаясь вызволить товарища. Ему дорого обошлось это вмешательство, вспоминал у окна Лишке-Берман. Драка стоила Зилинскому одного уха, а потом – за два лагерных года – одной почки, съеденной туберкулезом.
«В этом году ему бы исполнилось пятьдесят, – подумал Лишке-Берман. – Как мне. Может, именно больная почка виновата, что он уже…»
«Ты сможешь приехать?» Однозначный, прямой вопрос снова заплясал в растерянных глазах Лишке-Бермана.
Он нажал мизинцем бакелитовую клавишу.
– Пожалуйста, доктора Эверса ко мне, – сказал Лишке-Берман. Письмо матери он положил на кучу остальной почты.
– Слушаю, господин статс-секретарь.
– Эверс, что у нас записано на пятницу?
– На ближайшую, господин статс-секретарь? В девять утра совещание в петиционной подгруппе союза фармацевтов под руководством профессора Ледевона.
– Перенести можно?
– Будут очень недовольны. Впрочем, я сейчас дам телеграмму. А в одиннадцать похороны депутата Зелленшайдта.
– Отпадает.
– Никак нельзя, господин статс-секретарь. Вы должны сказать надгробное слово от имени фракции.
– Я?.. Да я его почти не знал. За последние годы я не обменялся с ним и десятком слов. Может, другой коллега?
– Не думаю, чтобы кто-нибудь согласился заменить вас на панихиде, тем более что есть решение фракции. И потом, ваш отказ будет не очень-то хорошо выглядеть. Зелленшайдт был на другой стороне, именно поэтому…
– Да, да, конечно, но в нашей деревне тоже умер человек. И очень мне близкий.
– Надеюсь, не из вашей семьи, господин статс-секретарь?
– Нет, Эверс. Но очень хороший знакомый, друг, если я имею право так его назвать. В свое время очень мне помог этот человек, Зилинский его звали. – Статс-секретарь забарабанил пальцами по столу. – Помог в тяжелые годы. А я для него ничего не сделал, потом, когда он вернулся в столярную мастерскую. Было бы справедливо, если бы я, по крайней мере теперь, в последний путь… Как по-вашему, Эверс?
– Похороны этого… этого Зилинского нельзя перенести?
Толстяк за письменным столом улыбнулся.
– Да легче изменить весь ритм работы нашей государственной машины, чем ритм жизни нашей деревни. В десять – панихида, в одиннадцать – погребение. В такой день там никто не работает. И все идут на похороны. Все. – Статс-секретарь встал из-за стола. – Эверс, я обязан поехать в Фербах.
– А Зелленшайдт? А решение фракции?
Лишке-Берман не шелохнулся, но казалось, будто он вдруг постарел и уменьшился в размерах.
– Решение фракции?
«Пусть фракция решает, сколько ей вздумается, – размышлял Лишке-Берман. – Я никому не позволю соваться в мою личную жизнь. Зилинский мне куда ближе, чем этот Зелленшайдт, который, вполне возможно, был достойным человеком, но едва ли желал, чтобы я непременно был на его похоронах. Зато у Зилинского, в Фербахе… Мне надо ехать в Фербах, – непреклонно думал Лишке-Берман, – и я поеду туда».
– Подумайте о прессе, – вдруг сказал Эверс так, словно он прочел мысли Лишке-Бермана. – Зелленшайдт пользовался известной популярностью в народе. Следовательно, откликов будет много. Вашу речь опубликуют полностью. Придут корреспонденты от «Еженедельного обозрения». Вы ведь знаете, как воздействует на общественное мнение задушевное надгробное слово. Все сильные мира сего придут проводить Зелленшайдта. Это своего рода акт государственного значения.
– Похороны государственного значения? – ехидно спросил Лишке-Берман.
– Если угодно, да, – спокойно ответил Эверс.
– Государственные похороны со всей возможной помпой. И почти все приходят, потому что должны, – сказал Лишке-Берман. – А к Зилинскому все приходят, потому что хотят. Вот в чем разница.
– На снимках в иллюстрированных журналах и в «Еженедельном обозрении» углядеть эту разницу будет невозможно. – Эверс утратил обычную сдержанность. Он начал проявлять заинтересованность. Внезапно.
– Вы правы, – сказал Лишке-Берман. – На снимках наши лица будут выражать достоинство и глубокую скорбь. А вот рентгеновский снимок, тот показал бы… – Лишке-Берман приложил руку к груди, – весьма печальную картину. Может, даже такие мысли: хорошо, что он умер. Не будет больше путаться под ногами.
– Господин статс-секретарь!
– Да нет, Эверс, это просто так, раздумья…
Эверс хотел было ответить, но тут зазвонил телефон.
– Снимите трубку, – с отвращением сказал Лишке-Берман.
Эверс слушал, отвечал, потом сказал:
– Господин статс-секретарь, представитель зарубежного информационного агентства просит принять его. Он просит уделить ему время для короткого разговора об умершем депутате. Это будет своего рода обкатка вашего надгробного слова. Он хотел бы сегодня же передать интервью с вами. Что прикажете ответить?
Лишке-Берман проглотил комок.
– Скажите ему, чтобы он… – И смолк.
– Что прикажете ответить корреспонденту? – еще раз спросил Эверс.
Тут Лишке-Берман прижал к оконному стеклу влажные ладони, словно хотел впитать в себя оконную прохладу, и сказал:
– Я готов дать интервью. Немедленно набросайте проект надгробного слова…
– На похоронах Зелленшайдта? – спросил Эверс.
– Разумеется! – сказал Лишке-Берман. Он хотел сказать это небрежно, а получилось вообще беззвучно. Тогда статс-секретарь заговорил чуть громче: – А для Зилинского в Фербахе немедленно закажите венок с лентой. Большой венок и большую ленту с надписью «Статс-секретарь Лишке-Берман своему незабвенному другу Карлу Зилинскому». Осуществимо это?
– Через час все будет сделано, – заверил Эверс.








