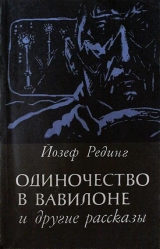
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
Передышка для мишени
Нескладные. Бурые, как земля. Ни лица, ни шеи.
Так они стоят, мишени на краю полигона. Повторяя очертания человеческой фигуры. Отчетливей всего даны нагрудные карманы.
– Прицел на пуговицу правого кармана! – говорит унтер-офицер Зебальд.
Унтер-офицер здорово загорел. Много бывает на воздухе: ориентирование на местности, упражнения по маршировке, переходы, стрельбище. Вот как сегодня утром, когда солнце еще с большим трудом одолевает утреннюю росу.
На лежаке возле небрежно выпрямившегося унтер-офицера – солдат Дворский. Дуло его винтовки пляшет в воздухе и никак не успокоится.
С лежаков по левую и по правую руку от Дворского через равные промежутки времени доносятся выстрелы. Дворский не стреляет.
– Затвор заело? – спрашивает унтер-офицер.
– Нет, – отвечает Дворский.
– Другая беда? – спрашивает унтер-офицер.
– Нет, – отвечает Дворский.
– Тогда стреляйте, – говорит унтер-офицер, добавляя выразительное «пожалуйста». Вот так: – Стреляйте, пожалуйста. По-жа-луй-ста! И помните, куда наводить: пуговица правого нагрудного кармана.
На лбу у Дворского у корней волос выступают капли пота. Погода холодная. Мундир тонкий. Дворский зябнет. Но на лбу у него пот.
– Вы что, позируете для статуи «Браконьер в засаде»? Или вы все-таки солдат Дворский на полигоне? Да пуляйте же наконец.
– Слушаюсь, – отвечает Дворский и нажимает курок. Он упрямо расстреливает весь магазин, не целясь заново. Потом откладывает винтовку, а унтер-офицер Зебальд нажимает кнопку. Картонная фигура землистого цвета по натянутой проволоке подкатывается к лежаку и застывает на расстоянии вытянутой руки от Дворского, чуть покачиваясь из-за резкой остановки.
Унтер-офицер Зебальд не верит своим глазам. Он проводит ладонью по картонной поверхности.
– Даже не задели ни разу. Будь это на войне, противник уложил бы вас за здорово живешь. Уму непостижимо. Хоть бы в коленку попал. А ну, Дворский, давайте еще раз!
На сей раз Дворский стреляет сразу, едва картонная фигура занимает прежнюю позицию. Несколько секунд спустя мишень снова подъезжает к нему.
– Этого просто не может быть, – говорит Зебальд. – В такую-то мишень – и ни одного попадания? Нет, что-то здесь неладно. Вы просили освободить вас от строевой службы?
– Нет, господин унтер-офицер.
– Если судить по результатам стрельбы, вы только о том и мечтаете. Показать вам, что ли, все с самого начала?
– Как прикажете, господин унтер-офицер.
– Не похоже, чтоб в этом была нужда. Лежите вы – дай бог каждому, приклад уперли по всей форме, хоть делай снимок для обложки «Строевых учений». А как стрелять – так вас и нету. Ну-ка еще раз, Дворский, и сделайте из этой картонки швейцарский сыр…
Дворский стреляет снова. Над песчаным склоном позади мишеней взлетают фонтанчики песка. Дворский рукавом утирает пот со лба и из уголков глаз.
– Опять промазал, – говорит унтер-офицер, почти не разжимая губ. Ему хочется как следует рявкнуть, но по зрелом раздумье он избирает свистящий шепот, для чего подходит вплотную к лежаку.
– Знаете, как это называется? Это называется неподчинение приказу. Среди моих ребят попадались всякие, но, чтоб человек с умыслом стрелял мимо мишени, такое мне еще не встречалось. Да если я подхвачу на улице первую попавшуюся бабусю, завяжу ей глаза, положу ее с винтовкой на ваш лежак лицом к мишени и заставлю нажать спуск, она и то не сможет все время палить мимо. Такое под силу только вам. Напомните, кто вы по профессии.
– Цирковой артист, – отвечает Дворский.
– А выступали вы с чем?
– Жонглировал, ну и еще… прицельная стрельба.
Унтер-офицер кивает. Сперва медленно, потом все активнее. При этом он молча осуждающе тычет пальцем в Дворского и наконец говорит ефрейтору:
– Попросите сюда лейтенанта Роллинка.
Приходит Роллинк. Унтер-офицер Зебальд докладывает, причем ему приходится подбирать слова:
– Солдат Дворский сделал круглым счетом тридцать выстрелов и ни разу не поразил цели… несмотря на все мои приказы и увещевания… и хотя я со всем возможным терпением… а теперь я узнаю, что он по профессии цирковой стрелок…
– Ладно, мне ясно, – говорит лейтенант Роллинк. У лейтенанта выработана твердая схема подхода к различным людям. Главное в ней – язык. «Язык – это окружающая среда, – думает лейтенант, – язык – это детство, язык – это родина человека». «Умело подобранное обращение – это ключ к душе солдата» – так был озаглавлен один из докладов Роллинка, который был включен в курс риторики для соискателей офицерского чина и произвел на слушателей неизгладимое впечатление. Лейтенанту Роллинку видится карьера в отделе культуры, и он не желает, чтобы всякие там жалобы снизу замарали его послужной список.
– Вы, случаем, не из соленых, не из поморов то есть? – спрашивает лейтенант.
– Простите, не понял, – отвечает Дворский.
– Или, может быть, вы с-под Кёльна?
– Ах, вот вы о чем, – говорит Дворский. – Нет, наша зимняя квартира в Вюрцбурге. А если не считать этого, я дома повсюду и нигде. Сами понимаете, такое наше дело цирковое.
– Именно, – говорит лейтенант. – Вы цирковой стрелок. И значит, все, что вы здесь вытворяете, – это цирковой номер, не так ли, Дворский?
– Нет, господин лейтенант.
– Не могу поверить при всем желании, – говорит лейтенант. – Профессиональный стрелок, который на таком расстоянии и при таких размерах мишени ни разу не попадает в цель… Это так же смешно, как если бы шеф-повару «Хилтон-отеля» не удалось, несмотря на неоднократные попытки, приготовить обыкновенный омлет.
– Может быть, господин лейтенант.
– Вот видите. Вы уже согласны со мной. А я, так и быть, забуду, что было. Немного отвлечься, подпустить юмору в деловые будни – это все хорошо, и прекрасно, и даже желательно. Но теперь шутка слишком затянулась и больше не смешна. Если позволите, господин Дворский, давайте теперь введем в нашу программу серьезный номер. Чередование, понимаете? Ведь и на ярмарке, к примеру, после клоуна приходит акробат и делает свое сальто-мортале, а потом снова клоун. А клоун за клоуном подряд – это уже перебор. Итак, Дворский, стреляйте, и притом в цель.
Всем видно, как старается Дворский. На лбу у него теперь не отдельные капли, теперь блестит весь лоб, залитый потом. Мышцы от подбородка до ушей в непрерывном движении. Палец изгибается на спусковом крючке, и вдруг, со стуком отставив винтовку, Дворский стонет:
– Я не могу, я сойду с ума.
Лейтенант глядит на трясущиеся руки Дворского, на мишени, на серые песчаные воронки в траве перед лежаками и говорит голосом, который сам же принимает за отеческий:
– Солдат Дворский, смирно.
Дворский вскакивает со скрипучего лежака и застывает по стойке «смирно».
– Вольно, – командует лейтенант. – А теперь давайте начистоту: что с вами происходит? Я не желаю, чтобы из-за вас снижались показатели у целой роты. Стрелять вы умеете. Значит, вы просто не хотите.
– Нет, я не могу.
– Ах, Дворский, это вы себе вбили в голову.
– Я не могу стрелять, как здесь требуется.
– Какая разница, где вы стреляете, здесь или в своем бала… или там, у себя? – спрашивает лейтенант.
– Огромная.
– Не понимаю.
– Меня с детских лет учили попадать не в мишень, а около. Я должен попадать рядом. Это моя работа. За это мне платят. За это мне хлопают.
– А в кого вы стреляете, я хочу сказать, на работе?
– Вы хотите сказать, около кого?
– Будь по-вашему. Итак?
– Когда около младшего брата, когда около матери. Понимаете, у нас вся семья в деле. Мать в трико до сих пор смотрится как молоденькая девушка. Это от партерной акробатики, от ежедневных упражнений…
– Не отвлекайтесь, – говорит лейтенант.
– Разве я отвлекаюсь? Так вот, мое попадание всегда должно на два пальца отстоять от контуров мишени. Теперь, когда вам известно, кто служит мне мишенью, вы меня поймете, господин лейтенант.
– Разумеется, я понимаю, что вы не можете стрелять в свою мать, или в брата, или еще в кого-нибудь, но здесь об этом и речи нет. Здесь перед вами кусок разрисованного картона, только и всего.
– Не могу, господин лейтенант. Мой отец меня специально тренировал, если подсчитать все вместе, получится восемь лет ученья. Никто нигде не ходит в учениках так долго, хоть бы он учился на программиста или на летчика…
– Дворский, перестаньте наконец отвлекаться!
– Слушаюсь. Вначале отец ставил передо мной картонные фигуры, такие вот, как эти. Фигуры были взяты в рамку из пластмассовых лампочек, в которые мне надлежало стрелять. А когда я вместо лампочки попадал в фигуру, отец говорил: придется прибавить к твоему ученью еще полгода, прежде чем ты сможешь выступать. Каждый раз, когда я попадал в фигуру, он прибавлял мне полгода. А когда я два года подряд ни разу не задел мишень, отец поставил передо мной большой плакат с изображением моей матери. Это изображение я даже ни разу не поцарапал. А когда я достаточно поупражнялся, на место плаката встала моя мать. И ни разу ничего плохого с ней не случилось. И с братом нет. И ни с одним живым существом тоже нет.
– При чем тут живые существа! Откройте глаза и посмотрите вот сюда!
Это, не вытерпев, вмешался в разговор унтер-офицер Зебальд. Он злобно бьет мишень кулаком, в то место, где нарисована пряжка от ремня и что-то написано кириллицей. Кулак с силой ударяет о прессованный картон. Мишень раскланивается.
– Это, по-вашему, живое существо? – спрашивает унтер-офицер Зебальд.
– Это изображение живого существа, – отвечает Дворский. – А завтра вместо изображения встанет оно само.
– Вы фантазер, – говорит унтер-офицер.
– Может быть, – отвечает Дворский. – Но если я приучусь здесь попадать в изображение, я непременно хоть раз да забудусь и попаду на представлении в живую мишень. И тогда будет конец. Конец человеку, которого я изуродую или убью. Конец мне. Конец нашему семейному номеру. Неужто вы не понимаете, что именно из-за этого я и не могу стрелять в вашу мишень? Я не могу навести ствол на мишень. Прицельная линия все время остается снаружи, как я ни стараюсь. А стараться я старался, раз мне так было приказано.
– Симулянт чертов, – говорит унтер-офицер Зебальд.
Дворский отчаянно взмахивает руками, потому что никто не хочет его понять. Винтовку он при этом поднимает на уровень бедра. Теперь ствол ее смотрит на унтер-офицера.
– Дворский… вы спятили… не смейте… ой, господин лейтенант…
– Дворский! – гаркает лейтенант Роллинк.
– Вы напрасно боитесь, – говорит Дворский с вымученной улыбкой на бледном, мокром от пота лице. – После всего, что я вам здесь рассказал… я не могу… не могу попасть в живое существо.
Дворский выпрямляется, приставив ружье к ноге.
– Итак, солдат Дворский, вы не желаете выполнить приказ? – спрашивает лейтенант.
– Я не могу выполнить приказ, господин лейтенант.
– Тогда я вам ничем не могу помочь. Тогда пусть вами займутся другие инстанции. Более высокие. Полковой священник. Армейский психолог. Или военный суд. Или все сразу. С меня, во всяком случае, довольно вашего кривлянья, ваших комплексов, вашей внутренней заторможенности. Я сыт по горло. Ваше дело будет передано наверх. Поняли, Дворский?
– Так точно, понял, господин лейтенант, – отвечает Дворский.
Испытание мужества в роду Маллингротов
Ребенок закричал, когда Норберт рывком сдернул его с зеленой пластмассовой жирафы. Потом раздались другие звуки, еще пронзительнее: колеса машины заскрежетали по тротуару, и стальной лист с отвратительным взвизгом чиркнул о стену дома.
Потом наступила полная тишина. От страха крик ребенка перешел в писк, а потом и вовсе заглох. Пятнистая игрушка, расплющенная как блин, осталась на пыльном асфальте. Машину занесло, и она стояла поперек тротуара, передними колесами в водосточном желобе. От багажника отскочила большая лепешка винно-красного лака. Крылья из-за многочисленных вмятин утратили всякую элегантность. Теперь автомобиль не выглядел таким же мощным и быстрым, как его собратья, мчавшиеся по шоссе. Он выглядел неуклюже, словно большая рыба, вышвырнутая прибоем на скалистый берег. Снова, хотя и несмело, вернулись уличные шумы. Какой-то человек спросил:
– Все в порядке, мальчик?
Норберт кивнул и бережно поставил на землю ребенка, дрожащую девчушку лет примерно трех с небольшим. Он поднял расплющенную жирафу и хотел отдать ей, но девочка отняла кулачки от лица, замотала головой и пустилась бежать.
Со скрежетом открылась заклинившаяся дверца. Из машины вылез молодой человек. Лицо у него было красное, блестевшее каплями пота. Следом вылез пожилой мужчина.
– Ну, такой замедленной реакции мне не приходилось видеть за все тридцать лет инструкторской работы, – сказал мужчина, и губы его вытянулись в узкую, жесткую полоску.
– Ага, так это автошкола, – сказал полицейский. – Тогда вам еще раз повезло, господа. Документы, пожалуйста.
– Повезло? Ну уж нет, господин вахмистр. Не подвернись этот мальчик, лежать бы девочке… – Женщина с хозяйственной сумкой, наполненной до краев и сверх того, скомкала конец фразы и указала на маленькую расплющенную жирафу в руках Норберта.
– Итак, давайте по порядку, – призвал полицейский. – Сначала мальчик. Тебя как зовут?
– Норберт Маллингрот.
– Ага! Не твой ли отец – хозяин гладильного пресса в двух кварталах отсюда?
– Мой.
– Ага! – сказал полицейский. Он явно предпочитал слово «ага» всем остальным. – Ну, а теперь изложи мне ход происшествия.
Полицейский раскрыл блокнот и нацелил шариковую ручку в левый верхний угол чистого листа.
– Движения на этой улице большого нет, – начал Норберт. – Вот я и заметил сразу машину с красной дощечкой «Автошкола». Она стояла посреди улицы. И вдруг поехала, но задним ходом. К тротуару. А там сидела эта девочка, играла. Я видел, как водитель крутил баранку во все стороны и как другой господин, который постарше, перехватил у него баранку. Тут машина поехала еще быстрей и перевалила через край тротуара.
– Этот, этот… непонятливый господин отрабатывал задний ход и припарковку, – сердито перебил инструктор. – Когда он начал вытворять черт те чего и мне пришлось перехватить баранку, он вдруг со страху нажал на газ. Тут я…
– Постойте, ваше слово впереди, – сказал полицейский. – Продолжай, мальчик.
– А я вроде все рассказал, – ответил Норберт.
– Мальчик подхватил девочку прямо с быстротой молнии! – воскликнула женщина с хозяйственной сумкой. – В ту самую секунду, как машина влетела на тротуар. Я своими глазами видела. Я готова быть свидетельницей! Запишите мой адрес…
– Мой сын вам больше не нужен, господин вахмистр?
Человек в светлом форменном пиджаке протиснулся сквозь кольцо столпившихся зевак. Он заботливо обнял мальчика за плечи.
– Ага! Господин Маллингрот! – воскликнул полицейский. – Нет, сейчас не нужен. Может, позднее мы вызовем его еще разок, когда будет разбираться дело.
– Тогда пошли, – сказал отец Норберту.
На сей раз толпа с готовностью расступилась, пропуская обоих Маллингротов.
Лишь теперь Норберт ощутил, что его бьет такая же неуемная дрожь, какая немногим раньше била девочку. Ему было стыдно перед отцом, который крепко держал его руку и, разумеется, не мог не чувствовать этой дрожи.
– Мне надо вернуться за нашим фургоном, – сказал отец. – Я его у Герберов поставил. А потом ты получишь земляничный коктейль. Чтоб успокоиться. Хочешь коктейля, сынок?
– Ты это… ты эту историю видел? – спросил Норберт.
– Видеть не видел, но услышал сразу. Госпожа Гербер мыла окна, когда случилась эта… ну, эта история. Я как раз собирался отвезти их белье, а она меня окликнула. Я и побежал к тебе.
Норберт пытался держать руку неподвижно, но от его усилий дрожь стала еще заметнее.
– Это нехорошо? – спросил он.
– Что?
– Что я так дрожу?
– Дрожать приходится всем. От натуги. От возбуждения. От страха. Всем мальчикам. А иногда и взрослым мужчинам.
– Даже нам, Маллингротам?
– Конечно, даже нам. Я в твоем возрасте был прямо рекордсменом по дрожанию.
– А дедушка тоже дрожал?
– Да еще как! Один раз мне было очень стыдно, что я никак не мог сладить со своими нервами после одной… одной истории. И тогда дедушка рассказал мне про страшный случай из своего детства.
– Какой случай?
– Потрясающий. Твой дедушка был еще не дедушка, а просто маленький Йорг Маллингрот. Если в сенокос собиралась гроза, в поле полагалось выходить всем, кто уже – или еще – мог держать грабли в руках. И Йоргу тоже. И вот как-то днем над деревней нависла туча, сернисто-желтое нутро ее грозило страшным ливнем, а то и градом. На поле широкими рядами лежало высохшее до пыли сено. Его хотели убрать под крышу этим вечером. Но гроза могла погубить все труды. Маллингроты работали как одержимые, чтобы спасти сено. Воз за возом исчезал под крышей риги. Молнии уже вспарывали небо, когда последний воз, скрепленный притороченной слегой, колыхаясь, поплыл через луг.
– Чем скрепленный?
– Ну, жердиной такой, в поперечнике – с твою ногу. Ее кладут поверх сена, а на концах у нее делают зарубки. Через эти зарубки перебрасывают толстые веревки, натягивают их что есть силы, а внизу под телегой завязывают узлом. Сено упаковывают, как покупку, чтобы его не разворошил даже самый сильный ветер.
– И дедушка сидел на возу?
– Нет, на воз забирались только женщины, им подавали сено на вилах, они его подцепляли, раскладывали ровненько и утрамбовывали. Мужчинам приходилось тяжелей – подавать охапку за охапкой. А Йорг с другими детьми собирал граблями остатки. Слегу закрепили, последний воз двинулся к овину, и Йорг побежал следом. Воз уже сворачивал с поля на проселок, когда мальчик заметил, что одна из веревок почти перетерлась и в любую минуту может лопнуть.
– Прочь со слеги! Сейчас веревка лопнет! – закричал Йорг и, несмотря на отчаянный страх, перехватил руками опасное место. А тут уж перетерлись последние волоконца, освобожденная слега взлетела кверху, как распрямившаяся пружина, и обрушилась на лошадей. Йорга отбросило вместе с веревкой, и он с размаху ударился лбом об изгородь. На всю жизнь у него остался огненно-красный шрам от переносицы через весь лоб. Ты и сам его видел, когда мы бывали у дедушки. Женщины, сидевшие на возу, услышали крик Йорга и быстренько соскочили со слеги. Не то их сбросило бы на землю – а воз был с дом высотой. В соседней деревне, когда случилось такое, женщина сломала себе шею. А здесь все отделались только дедушкиной раной на лбу, а голова у него была крепкая, зажило все как на собаке. Вот только с дрожью он ничего не мог поделать. Она не унималась несколько недель подряд. «Хотя все жители нашей деревни с благодарностью трепали меня по плечу, мне из-за этой дрожи казалось, что я тряпка и баба», – сказал мне дед, когда я пришел к нему жаловаться на свою дрожь.
– А когда это случилось с тобой?
– В конце войны. Я был на несколько лет старше, чем ты сейчас, но все равно недостаточно взрослый, чтобы идти в армию, как ушел дедушка и почти все мужчины из нашей деревни. Я старался выполнять дедушкину работу не хуже, чем он, хоть и не гожусь для деревенской работы, недаром я переехал в город. Помнится, возвращался я с пахоты и услышал, как плачет твоя бабушка. Я так и застыл, я сразу подумал, что дедушку убили. Но когда я вошел в комнату, она указала мне в окно. И я увидел, как по улице тянется колонна измученных, высохших от голода людей в серых полосатых лохмотьях.
– Наши побежденные враги, да?
– Нет, – тихо ответил отец, – наши побежденные собратья. Тогдашние правители согнали их в отдаленные места, окружили их сторожевыми вышками и колючей проволокой, через которую был пропущен электрический ток. За этой проволокой пытали и убивали беззащитных людей, мужчин, женщин и детей, новорожденных и глубоких стариков.
– Почему?
– Бесчеловечным властителям были ненавистны все, кто рассуждал не так, как они. Они называли себя расой господ, но в глубине души сознавали, что те, другие, превосходят их своей верой, своим духом, своими знаниями, своим происхождением. Вот почему они из кожи вон лезли, чтобы уничтожить в этих своих лагерях всех инакомыслящих. Они забили до смерти и расстреляли, повесили и сожгли миллионы людей. И вот когда их рейх начал неудержимо разваливаться, хотя – если верить похвальбе этих насильников – должен был просуществовать по меньшей мере тысячу лет, лагерные палачи погнали, как стадо, последних уцелевших. Ружейными прикладами и выстрелами гнали они несчастных в глубь страны, чтобы там уничтожить их или использовать как заложников. Я выглянул из дверей. «Пить», – шептали несчастные. Вместе с матерью – твоей бабушкой – мы подтащили целый котел воды к краю колонны. Заключенные тотчас принялись окунать в котел ржавые консервные банки. Они глотали воду, как величайшее лакомство, которого долго были лишены. Худой старик увлажнил сперва свой изжелта-бледный лоб. Его трясла лихорадка. Когда он хотел напиться, жестянка вылетела у него из рук. От слабости он опустился на колени. Я поднял этого человека и понес его к скамейке перед нашим домом. Сделал я это без труда – иссохший старик весил не больше, чем новорожденный теленок. Бабушка побежала на кухню и принесла миску молока, в которую накрошила хлеба. «Вы что, врагов нации кормите? – заревел вооруженный до зубов охранник в черном. – Да мы таких изменников родины прикончим в два счета с этой дохлятиной заодно». И он приставил дуло пистолета к моему виску. Еще никогда в жизни мне не было так страшно, меня прямо тошнило от страха. Тут я увидел, что бабушка спокойно начала кормить старика, как кормят малых детей. «Ты спятила?» – закричал охранник в черном. И тогда она ответила: «Вот уже шесть долгих лет мой муж на фронте, а мы из сил выбиваемся, чтобы управиться с хозяйством. Если вам угодно называть это изменой, дело ваше. Но я хочу спросить: что вы вообще здесь делаете, вы, здоровый, крепкий мужчина, когда наши мужья гибнут на фронте?» Охранник нерешительно опустил пистолет и принялся теребить пряжку на ремне. Когда я увидел, как спокойно держится твоя бабушка, я тоже начал раздавать хлеб, молоко, воду. Охранник снова хотел поднять оружие, но к нему подошли другие охранники и принялись что-то втолковывать, сбивчиво и сердито. Наконец последние, самые усталые из растянувшейся колонны, проковыляли мимо нас. Охранник с пистолетом презрительно хмыкнул в нашу сторону и поспешил прочь. Бабушка помогла старику подняться со скамьи и бережно отвела в дом. Я поглядел вслед колонне страдальцев, уходящих в темноту ночи. И тут на меня опять накатил страх. Да такой безудержный, что я скорчился на крыльце, обхватив руками прижатые к подбородку колени. Не хотел я в этаком виде показываться на глаза твоей бабушке. Но долго скрывать свою дрожь я не мог. Она возвращалась. Иногда днем, часто среди ночи. Она исчезла, лишь когда твой дедушка вернулся из плена и я смог поведать ему о своем страхе. Он слушал, кивал. Потом он рассказал про свои страхи, про страхи, которые овладевают человеком, когда происходят события, поражающие его в сердце, про страхи минувшие и страхи предстоящие. Так, к слову, рассказал дедушка и про историю со слегой.
Оба Маллингрота остановились. Светофор вспыхнул темно-красным светом. На той стороне улицы стоял их фургон.
Норберт почувствовал, как унимается дрожь в его теле. Теперь он знал, что ему предстоит еще немало испытаний мужества, посерьезней сегодняшнего. И страх, тоже посерьезней сегодняшнего.
Но стыдиться своего страха он больше не станет.








