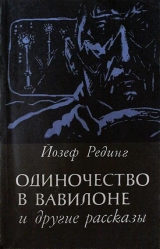
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Аптека «Vita nova» [25]25
Новая жизнь (лат.).
[Закрыть]
Муннихер протянул однорукому аптекарю истертый листок бумаги. Этот листок, вырванный из записной книжки, Муннихер уже несколько недель таскал в кармане пиджака и много раз доставал оттуда – листок, на котором были выписаны названия ядов для защиты зеленых насаждений от вредителей; обычно такие яды продаются взрослым даже без рецепта. Но Муннихер не собирался защищать зеленые насаждения, он хотел купить яд для самого себя, для сломанного и ненужного растения по имени Муннихер. И он нарочно зашел в эту невзрачную аптеку на окраине, потому что не решился бы заговорить при виде холодной роскоши дворцов фармакологии, сверкающих пластмассой, никелем и неоном.
– Мне любой, – сказал он.
Аптекарь оглядел Муннихера – от залысин на лбу до неряшливо повязанного галстука.
«Догадался, наверно, что я из тюрьмы, – подумал Муннихер. – По цвету лица догадался, кожа совсем серая, недаром каждая ее клеточка три года тосковала по солнцу. Ничего, сегодня ночью взойдет солнце, – подумал он еще. – Великий свет изнутри».
– Видите ли, одни из них сильнее, другие слабее, – сказал аптекарь.
– Самый сильный, – потребовал Муннихер.
Аптекарь кивнул и полез на стремянку. Перед каждой ступенькой он выбрасывал вперед правую руку. «А смешно, когда однорукий взбирается на лестницу», – подумал Муннихер. Аптекарь начал рыться в пакетах. Муннихер почувствовал на себе чей-то взгляд. Но нет, старик смотрел только на свои банки и склянки. И тут Муннихер увидел девушку, сидевшую в соседней комнате за весами. Увидел через раскрытую дверь. Девушка наполняла ярко-красным порошком синие пакетики и взвешивала их. Пока стрелка весов колебалась, девушка – ей лет восемнадцать, подумал Муннихер, – ничего не делала и не сводила глаз с Муннихера. «Даже отсюда видно, что глаза у нее карие, хотя как же это может быть видно отсюда?» – удивился он.
Муннихер поднял руку и помахал девушке. «Я, наверно, похож на пингвина», – подумал он. Но тут девушка подняла синий пакетик и помахала Муннихеру. Все так же загребая рукой, аптекарь спустился с лестницы.
– Вот, – сказал он. – Развести в четырех литрах воды.
– Будет сделано, – ответил Муннихер.
– Ну и отлично, – сказал старик. – С вас пять шестьдесят.
Муннихер уплатил. Ему хотелось еще раз взглянуть на девушку, но однорукий заслонил дверь. Муннихера так и подмывало попросить еще какое-нибудь лекарство, леденцов от кашля, к примеру, чтобы выманить старика из дверного проема. Потом он подумал: «Глупости. Раньше я бы так, пожалуй, и сделал. Гораздо, гораздо раньше. Три года тому назад». И ушел.
– До свиданья, – сказал ему вслед однорукий.
Муннихер лег в постель и залпом выпил коричневую жидкость.
«Терпкая, – подумалось ему. – Я всегда считал, что такие штуки должны быть едкими и хватать за горло. А эта терпкая. В горле терпко, а в желудке нет. Что ты чувствуешь? – спросил он себя, укладываясь на бок. – Ты чувствуешь, как жидкость разъедает твой желудок? Эх, надо было сперва побриться! А то завтра мое лицо будет обрабатывать какой-нибудь служащий из похоронного бюро. Фу ты черт! Нет, конечно, надо было побриться», – подумал он опять и так думал до самого утра.
От утреннего света аптека не стала много светлее. По-прежнему небритый Муннихер спросил у аптекаря:
– Какую бурду вы мне вчера дали?
– Воды, – ответил старик. – Воды со щепоткой порошка для полоскания горла. Помогает при воспалении миндалин.
– А зачем? – спросил Муннихер.
– Вот именно зачем? – повторил однорукий, не сводя с него взгляда.
И Муннихер опустил голову.
– Я не торгую ядами, – сказал старик. – Но из каждых ста покупателей только четырнадцать бывают недовольны. А ведь это небольшой процент, не правда ли? Сто человек уносят домой обыкновенную воду вместо яда и только четырнадцать приходят жаловаться. Этих я посылаю в другие аптеки, если им еще хочется. Но обычно им уже не хочется. Деньги я, разумеется, возвращаю. И вам верну.
Старик заковылял к лестнице. Муннихер глянул в открытую дверь. Девушки там не было. В зеркале справа налево он прочел название аптеки: «Vita nova».
– Больше вам ничего не надо? – спросил старик.
– Надо, – сказал Муннихер. – Дайте мне леденцов от кашля.
Перестройка производства
Уккерс решительным движением собрал бумаги, разбросанные по зеленому сукну.
– Нет, – сказал он. – Нет и нет! Ничего такого я у себя на заводе не допущу. Хватит! Мы уже не раз были на волосок от краха, и я два года проторчал в тюрьмах союзников за изготовление 88-миллиметровых орудий.
– Но, господин директор, именно союзники, наши теперешние союзники, прямо-таки навязывают нам лицензию на производство ракетного хвостового оперения. Нам ни с какой стороны ничего не грозит, – заметил главный инженер.
– Ни с какой? – переспросил Уккерс. – Существуют четыре стороны света, и с одной из них дует ветер похлеще жандармского дерьма, если только вам знакомо это выражение.
Главный инженер хмыкнул чуть слышно: раз Уккерс пополняет свой словарь уличным жаргоном, значит, он в нерешительности и пытается уговорить самого себя. Да и кто поверит, что эта старая лиса откажется от такого выгодного дела? Ведь за оперением наверняка последуют корпуса, затем целые установки, а через два-три годика боеголовки, и притом с надлежащей начинкой. Ни один уважающий себя делец не станет упускать такой случай, не упустит его и Уккерс.
– Нам ведь не на что жаловаться, господа, – сказал директор с ноткой отеческой укоризны. – Изготовление протезов из легких сплавов – это гуманное производство. Я и по сей час благодарен вам, доктор Реммесберг, за то, что вы во время моего… моего вынужденного отсутствия переключили наше производство именно на такую продукцию. – Уккерс удостоил доктора небрежным кивком. – С тех пор кривая нашего баланса непрерывно идет вверх.
– Но не так уж круто, господин директор, – вставил главный инженер.
– Идет вверх, – повторил Уккерс, с трудом подавляя досаду.
– Покамест, – сказал главный инженер.
– В этом году наша прибыль увеличилась на восемь процентов. Можно ли считать это катастрофой? – кисло улыбнулся Уккерс. – В тридцать втором году мы запрыгали бы от радости, если бы могли заприходовать хотя бы треть этой суммы.
– С тридцать второго года прошло ровно тысяча лет плюс еще двадцать восемь, – сказал главный инженер. – Всему свое время.
– Это верно, – согласился Уккерс. – Конъюнктура меняется. Нам всем еще предстоит приспосабливаться к ней.
– То-то и оно, – ухмыльнулся главный инженер, и Уккерс понял, что попался на собственную удочку.
Он хотел было встать, но тут заговорил его сын.
– К сожалению, это правда, отец. Мы останемся за бортом, если упустим такой случай. Во всем городе конкуренты только и мечтают об этих лицензиях. Того и гляди их перехватит Рамье, этот невесть откуда взявшийся француз. И сколько бы мы ни прилагали усилий, упущенного нам не наверстать.
Присутствующие – солидные пожилые люди – с явным удовлетворением глядели на Уккерса-младшего. Директор слегка втянул голову в плечи и посмотрел на сына.
– И это говоришь ты, хотя у тебя в черепе серебряная заплата на память о Севастополе?
– Какое это в данном случае имеет значение? – ответил сын вопросом на вопрос.
Старики одобрительно кивнули.
Почувствовав поддержку, Уккерс-младший продолжал уже смелее:
– К тому же речь идет пока лишь о постепенной – и весьма незначительной – перестройке производства. Наладить выпуск хвостового оперения вместо протезов можно в несколько недель.
– А через десять лет благодаря твоей «незначительной перестройке» мы опять сможем переключиться на массовое изготовление протезов из легких сплавов, – сухо возразил Уккерс.
– Я нахожу твой цинизм неуместным, – отпарировал сын.
– Да и то, если нам вообще позволят что-либо производить. Пойми ты, дурень, ведь мы сами в петлю лезем! Как ты думаешь, очень мне хочется, чтобы меня опять судили как военного преступника?
Сын поудобнее уселся в кресле. Устремив на отца сияющий детским простодушием взор, он проговорил:
– Не тебя, папочка. Теперь моя очередь.
Репетиция
– Воды, – попросил Нотшнайдер и, постучав цанговым карандашом по пустому графину, продолжал без всякого перехода: – Остус, почему ты переигрываешь? Такие вопли не годятся для радио. Во всяком случае, для этой пьесы. – Нотшнайдер с озабоченной улыбкой посмотрел на молодого актера, которому едва сравнялось двадцать лет.
Остус не любил, когда к нему обращались на «ты». А Нотшнайдер никогда не говорил актерам «вы». Остус бросил серые рыхлые листки рукописи на низкий изогнутый столик, за которым сидел Нотшнайдер. Тот добавил:
– Вас это тоже касается. – Женщина и двое мужчин подняли глаза от своих ролей. – Вы, наверно, думаете, что эсэсовцы всегда орали. Отнюдь. Иногда они говорили тихо. Очень тихо. Чем выше был чин эсэсовца из дивизии «Мертвая голова», тем приглушеннее был голос и изысканнее манеры.
Режиссер выпил воду, которую ему принесли. Он много пил во время репетиций. Чистую воду, без примесей, стакан за стаканом. Но поскольку он почти не двигался, поскольку он не стоял, как актеры, а сидел в кресле, положив негнущуюся ногу на маленький столик, он совсем не потел. Его тучное тело с несоразмерно маленькой головой впитывало воду, как губка. «Я гидроман, – любил он повторять, когда после войны вернулся к режиссерской деятельности. – Мне подпортили внутренний водомер». Это звучало как извинение.
Остус деловито спросил:
– Как же я должен говорить?
– Пиано, – ответил Нотшнайдер. – Даже не пиано, а пианиссимо, если можно. Резкость лежит не на поверхности, она в интонации. Ты – адъютант штандартенфюрера. Адъютанты обязаны быть умнее и тоньше своих начальников. Штандартенфюрер, роль которого исполняет Нимборг, может рявкать, сколько ему вздумается. Он старый служака и дорвался наконец до власти. Но ты, Остус, ты берешь не криком. Штандартенфюрер – это все равно что командир полка в вермахте. А известно тебе, Остус, сколько солдат в полку?
– Нет, – ответил Остус.
– Ах да, верно. Ты тогда еще даже пимпфом не был. Тебе только в этом году призываться. Откуда тебе знать?
– А меня это и не особенно интересует, – сказал Остус.
Нотшнайдер отставил стакан, который уже поднес к губам, и с видимым усилием перевел взгляд на исчерканные листы режиссерского экземпляра. Не поднимая глаз от печатных строчек и красных карандашных пометок, он произнес с нарочитым спокойствием:
– Во время войны полк насчитывал около двух тысяч человек. Командиром полка назначался, как правило, полковник. Полковник – важная птица. А штандартенфюрер – еще более важная, потому что у него была непосредственная связь с Главным управлением безопасности. В подборе адъютантов они все были очень осмотрительны. Предпочтение отдавалось хорошо воспитанным молоденьким офицерам, окончившим гимназию, и по возможности дворянских кровей. Эти адъютанты могли многое сделать: могли выручить, могли напакостить, могли интриговать, могли подсидеть, могли спасти, могли убить. Все могли, прикрываясь именем своего начальника.
Нотшнайдер быстро встал («Как это он ухитряется с его-то ногой?» – удивился Остус) и заковылял взад-вперед по темно-красным резиновым дорожкам студии. Когда его заостренную лысую голову озаряли лампы дневного света, казалось, будто она покрыта известкой.
– Я надеялся, что ты уже подумал над своей ролью, почитал, поспрашивал. Мне хочется, чтобы именно эта пьеса получилась у нас как можно лучше. Дешевка под маской злободневности может принести больше вреда, чем пользы, понимаешь, Остус?
Нотшнайдер сердился. Невольно он повысил голос.
– Я бы не сказал, что это бог весть какой шедевр, – заметил Остус и снова взялся за рукопись.
– Нет, – ответил Нотшнайдер. – Не-е-ет, – протянул он и энергично замотал головой. – Это не изящная словесность, не гениальное произведение. Здесь нет фраз, которые бы таяли на языке. Одни лишь сухие, тысячу раз повторенные, затертые слова. Боюсь, что это не особенно тебя привлекает, не так ли? И вас, вероятно, тоже? – бросил он через плечо.
Артисты вяло пытались возражать. Нотшнайдер остановил их движением руки.
– Это откровенный, неприкрашенный документ, – продолжал режиссер Нотшнайдер. – Тревожный и отталкивающий, не правда ли?
Хромая, он подошел к столику, взял рукопись, свернул ее в трубку. Остус подумал, что Нотшнайдер напоминает старого римского мима с неизбежным свитком в руке.
– Но если мы не сумеем воспроизвести кусок вчерашней действительности со всеми ее ужасами, завтра другим придется эти ужасы пережить. Разве этого не достаточно, чтобы тщательно подготовить и серьезно сыграть… – звучит парадоксально, не правда ли? – серьезно сыграть нашу пьесу?
Нотшнайдер, кряхтя, опустился на стул.
– Простите, – досадливо сказал он. – Простите. Я вовсе не собираюсь поучать вас. Пошли дальше! Итак, Остус, ты, пожалуйста, говори тише, но язвительнее. Напоминаю содержание эпизода. Раввин из гетто послан к твоему штандартенфюреру, чтобы предложить ему сделку: драгоценности в обмен на продукты, драгоценности в обмен на выездную визу. Штандартенфюрер проявляет интерес к картинам, и разговор касается изобразительного искусства. Участие во многих конфискациях и собственный нюх позволили штандартенфюреру поднабраться кой-каких сведений из этой области. А раввин происходит из семьи известного торговца картинами. Штандартенфюреру разговор доставляет удовольствие, заодно он получает у раввина консультацию по поводу своего «новоприобретения», относящегося к XVII веку. И вдруг спохватывается: как это он, важный эсэсовец, на глазах у подчиненных запросто разговорился с евреем, будто с полноценным собеседником. Он тотчас обрывает беседу грязным ругательством и, уходя, велит тебе, своему адъютанту, выпроводить раввина. Теперь ты должен одной репликой показать, какая огромная пропасть отделяет представителя расы господ от презренной твари. Прочти эту фразу по рукописи. Злобно, но тихо. Давай, Остус.
Остус почувствовал, что его захлестывает волна слепой, безудержной ярости. Рука, державшая тетрадь, опустилась.
– Пошел вон! – прошипел он, не заглядывая в текст. – Вон отсюда, еврейская морда!
– Верно, – сказал Моисей Нотшнайдер, подперев голову рукой, и кивнул, не отнимая ладони ото лба. – Вот это правильная интонация. Именно так оно и было. Можно записывать.
Завтрак у фрау Палушке
Старушка приоткрыла пергаментную коробочку. Влажно блеснуло что-то черное и зернистое – икра. Впервые за всю свою жизнь фрау Палушке купила икры. И шампанского. Бутылочку шампанского.
Конечно, ей бы и в голову не пришло устраивать праздничное угощение. Но позавчера она как раз получила добавку к пенсии. И фрау Фаренбуш, ее соседка по дому для престарелых, сказала:
– Это надо отметить. Добавку полагается отмечать.
Деньги фрау Палушке немедля переправила дальше. Только тридцать четыре пфеннига осели у нее в кошельке. Глупо же, когда почтальон выплачивает по переводу какие-то медяки. Герда стала очень щепетильной с тех пор, как вышла за своего каменщика. «Мне каждая марка дорога, потому что мы с Куно хотим завести свое дело. Но все же марка, а не пфенниг». Так Герда сказала фрау Палушке, когда последний раз приезжала к ней восемь месяцев тому назад.
«Ты дай нам только встать на ноги, и мы сразу заберем тебя отсюда», – сказала тогда Герда.
Благодарная старушка обещала отдать дочке всю добавку, чтобы хоть немного ускорить ход событий. Вот почему добавка была вчера целиком отправлена Герде.
– Но чтоб у нас был праздник как праздник, – сказала фрау Фаренбуш. – С икрой и вином. – При этом она подмигнула левым глазом, как всегда в минуты волнения или радости.
И вот фрау Палушке отправилась в гастрономический магазин и узнала, сколько стоит бутылочка шампанского, самая маленькая, и коробочка икры – тоже самая маленькая. Заплатив за эти деликатесы, она подумала: «Надо же и нам с фрау Фаренбуш узнать, чем питаются богачи».
Теперь фрау Палушке готовила бутерброды. Она намазала маргарином ломти серого хлеба, тщательно покропила их икрой, нарезала ломти треугольничками и квадратиками и красиво, как умела, разложила все на тарелке. Вставив в подсвечник прозрачную зеленоватую свечу, она зажгла ее, подошла к приемнику и принялась крутить ручку регулятора. Наконец она поймала какую-то австрийскую станцию, и в узкую высокую комнату хлынули звуки шраммелевского квартета. Тогда фрау Палушке изо всех сил постучала кулаком в стену. Раздался ответный стук, и тотчас же явилась фрау Фаренбуш.
– Итак, приступим, – возвестила она. – А вы, фрау Палушке, не забыли охладить шампанское?
– Как же, как же, – ответила фрау Палушке и сняла бутылку с подоконника.
– А вы умеете открывать шампанское? – спросила фрау Фаренбуш.
– Не пробовала, – ответила фрау Палушке.
– Тогда давайте сюда бутылку, – скомандовала фрау Фаренбуш. – Я, признаться, тоже не пробовала, но мне случалось видеть, как это делают в кино.
Фрау Фаренбуш сняла золотистую станиолевую обертку и начала снимать проволочку.
– А стаканы у вас есть?
– Вот, дожидаются, – ответила фрау Палушке и указала на два стакана из толстого стекла в темную крапинку.
Сердито щелкнула пробка. Фрау Фаренбуш отодвинула бутылку подальше от себя. Хлопья пены упали на линолеум.
– Полюбуйтесь, фрау Палушке! Совсем как в ресторане «Адлон», – сказала фрау Фаренбуш. – Ну, я наливаю! – И суетливая старуха разлила шампанское по стаканам. Шампанское еще раз вспенилось и на сей раз залило подол фрау Фаренбуш.
– Свинство какое! – рассердилась та. – Хорошо хоть, я не надела черное платье.
«Нет, жалко, что не надела», – подумала фрау Палушке.
– Итак, будем здоровы, – провозгласила фрау Фаренбуш.
– Ваше здоровье, – ответила фрау Палушке.
Она поставила стакан, и тут у нее началась отрыжка. Она прыснула, но, заметив, что фрау Фаренбуш сморщилась, подавила смех.
– Ничуть не лучше газированной воды, – неодобрительно сказала фрау Фаренбуш, а фрау Палушке… та ничего не сказала и только придвинула гостье тарелку с бутербродами.
Фрау Фаренбуш не заставила себя долго просить. Прожевав первый кусок, она воскликнула:
– Послушайте, фрау Палушке! Вас случайно не надули? Это же селедочная икра! От самой обыкновенной селедки! Ничего особенного я в ней не нахожу. Может, это какой-нибудь эрзац?
– Да нет, – ответила фрау Палушке, с большим трудом – из-за отрыжки – проглотив кусок. – Нет-нет, на этикетке было написано «Натуральная черная икра. Изготовлено во Владивостоке».
– А кто их знает, правда ли это.
Когда старушки покончили с бутербродами, фрау Фаренбуш начала прощаться.
– По-моему, вышло очень мило. А сейчас я спешу к вдове Гальмес. На телевизор. Всего доброго!
Фрау Палушке тотчас убрала со стола. К отрыжке прибавилась мучительная изжога. Когда она ополаскивала стаканы, ей пришла в голову неожиданная мысль. Она закрыла кран, вытерла руки и достала из нижнего ящика шкафа несколько поваренных книг. Палец ее быстро забегал по предметному указателю. Пожалуйста: «Икра черная».
«Зернистая икра подается с белым хлебом и лучшими сортами масла», – прочла она первую фразу.
«Ах вот оно что, – подумала фрау Палушке. – Значит, все из-за маргарина».
Отбой не для помешанных
Штакфлет подумал:
«Все похожи на фельдфебеля Цуля. Все и вся. Гранитный валун в синих прожилках возле гаража для тягачей. Бац! Конура Валтасара, доберман-пинчера с лоснящейся шерстью, любимца всей батареи. Бац! Узкогрудые окна канцелярии. Бац! Но почему даже Бернд Кочемба и тот похож на фельдфебеля Цуля? Раньше Бернд Кочемба был ничуть на него не похож. Еще сегодня утром, когда велено было подойти к карте и объяснить, каково будет положение нашей страны в случае так называемой военной угрозы, Бернд Кочемба, парень с удлиненной головой и высокими скулами, был просто Бернд Кочемба. А теперь под гимнастеркой Бернда Кочембы скрывается все тот же фельдфебель Цуль. Или это все-таки Бернд Кочемба? Он так быстро приближается, он растет, растет, прямо как Цуль. Надо остановить его. Но целиться низко – в сапоги. Вдруг это все-таки Кочемба?.. Бац!
Это и есть Кочемба. Как только он закричал, я сразу понял, что это Кочемба. Цуль кричит иначе. Цуль не станет беспомощно кричать. Цуль всегда силен. Ну и велик же казарменный двор, когда по нему мечешься! Как прикажете отыскать на этом пустынном прямоугольнике фельдфебеля Цуля? Наверно, он ушел из расположения части за витаминизированной жидкостью для волос. Он, когда ходит в город, почти всегда покупает жидкость для волос. Раз я хочу напасть на его след, мне придется бегать из одной парфюмерной лавки в другую. Если только он не спрятался за тем худосочным тополем – бац! – значит, он в городе. Нет, вот он. У проходной. Сверток под мышкой. Выходная форма. Цуль, великий Цуль. Ну-ка, что он станет делать? Цуль не из тех, кто пустится наутек, если направить дуло автомата в пряжку его ремня, нет, не из тех он, Цуль, истребитель танков, ветеран боев на Чудском озере, в Крыму и в Нормандии. Цуль отнюдь не привирает, когда говорит: «Вы еще пеленки пачкали, а меня уже отмечали в приказах». Так оно и было. По праздникам грудь Цуля заставляет краснеть даже кое-кого из старших офицеров – так густо она вся увешана металлическими бляхами. Нет, такой не побежит прочь от тебя, он может бежать только к тебе. Вот как бежит сейчас. На бегу он бросает свой пакетик. А вдруг бутылочка с жидкостью для волос разобьется? Цуль что-то кричит. «Подтяни-ись!» – вот что он кричит. «Слушаюсь, господин фельдфебель!» Подтянись – он всегда так говорит: на стрельбище, на вечерней поверке, в танке. Цуль уже совсем близко, сейчас он сможет дотронуться до меня. Сколько раз при стрельбе из положения лежа он дергал и вертел меня, всегда задавая при этом уставный вопрос: «Разрешите до вас дотронуться?» Но я ему не позволю. Пусть остановится. Стой! Бац! Бац! Бац! Смотри ты, он и в самом деле остановился. Даже не просто остановился, а лег. Лежит и удивляется. Почему у Цуля такая длинная рука? Он дотягивается до меня. Он бьет меня кулаком по голове. Как он это делает: лежит, а сам бьет, лежит, а сам бьет, лежит, а сам?..
У проходной Цуль подумал:
«Часовые отдают теперь честь так же молодцевато, как в начале войны. Одно удовольствие работать с этими мальчиками. Доброе сырье, если только оно попадет в руки настоящего мастера. Ну-ну, Цуль, не хвали себя самого. Просто ты – старый вояка и знаешь свое дело. А ошибки у кого не случаются… Что это там вытворяет Штакфлет? Черт подери, он же стреляет. Бегает по двору после отбоя и палит в белый свет. Ведь по распорядку дня сейчас чистка обмундирования. А лицо у него почти такое же красное, как и волосы. Да парень свихнулся! Как тогда Бретшнидер из третьей роты, мы еще стояли в Польше, в какой-то дыре. Необходимо его остановить, как я остановил Бретшнидера, прежде чем тот успел натворить бед. Это же надо такому случиться! Именно с ним, Штакфлетом, сыном врача! А я-то еще хотел направить его в юнкерскую школу. Чтобы образумить Бретшнидера, хватило одного только слова: «Подтянись!» На солдата такая команда всегда действует, если подать ее в нужную минуту. Вот она, эта минута, вот она! Но Штакфлет все бегает и все стреляет. Боже мой, человек ведь не замечает, как внутри у него что-то раскалывается, и жить тогда больше нельзя, нельзя жить, если ты раскололся на две части, и к танку Штакфлета теперь даже близко подпускать не следует… у него и танк свихнется… нет, к танку ни за что, раз он свихнулся… ни за что… ни за…»
«Меня зовут Кочемба, Бернд Кочемба. В нашем взводе никто и подумать не мог, что с Штакфлетом такое случится. А я тем более: я ведь знал Юргена, как родного брата. Даже лучше, потому что, если полгода живешь бок о бок со своим ровесником, с ним говоришь больше, чем с братом, да и отвечает он тебе честнее и откровеннее. Я многому научился у Юргена. Он был очень образованный и начитанный, он не смеялся, когда я показал ему три стихотворения, которые написал на разлуку с родными краями. Он сказал, что это глубоко личные переживания, что для меня они слишком много значат и поэтому не следует даже пытаться вынести их на суд толпы. Конечно, для военной службы он был какой-то очень уж апатичный, ничего не скажешь. Фельдфебель Цуль частенько ему выговаривал, но придираться не придирался. Не надо бы Цулю, наверно, кричать тогда во дворе: «Подтянись!» Юрген всегда заводился, когда Цуль выкрикивал эту команду. А Цуль наверняка хотел как лучше. Он хотел сделать из нас настоящих людей, боевых ребят, как он выражался. И ведь ничего не скажешь: бывало, Цуль как крикнет: «Подтянись!» – и Юрген начинает лучше стрелять. Наверно, когда Юрген внезапно сошел с ума, он сумел без промаха угодить в живот Цулю именно потому, что привычная команда подхлестнула его. Вот мне, например, он попал в ногу. Он так быстро пробежал мимо, что навряд ли успел меня узнать. Умер Юрген на месте, раньше Цуля, а тот еще с полчаса стонал и бредил. Он, Цуль то есть, кричал что-то про танки. Фронтовые воспоминания, должно быть.
А часовому, который подстрелил Юргена, объявили потом благодарность в приказе. Он-де предотвратил большую опасность, и прежде всего для гражданского населения, находящегося в непосредственной близости от казарм. Командир зачитал этот приказ перед строем. Несчастье с Штакфлетом, сказал он, принадлежит к числу тех трагических случайностей, которые нельзя ни постичь, ни предотвратить. Было бы кощунством говорить здесь о чьей-то вине. В заключение командир призвал нас подтянуться, чтобы еще более четким несением службы изгладить из памяти это печальное событие».
Тела Штакфлета и Цуля были преданы земле со всеми воинскими почестями.








