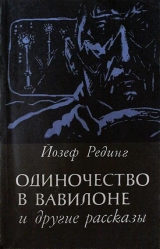
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
На просмотре
Когда на экране иссохшие тела замученных в концлагере заключенных, словно падаль, съезжали по доскам в глубокий ров…
почтовый чиновник восемнадцати лет думал: «Гнусная пропаганда! Нас хотят потрясти и добить! Пробудить комплекс вины. Этот фильм состряпали те, кто пустил в оборот идею об искуплении. А поставили какие-нибудь иностранцы. Евреи какие-нибудь, известное дело! Только пусть все эти люди лучше на себя посмотрят. Что, например, французы делают с алжирцами? Американцы с неграми? А тогда? Что делали английские воздушные пираты с городами Рурского бассейна? Лучше бы показали что-нибудь про наступление. Ну хотя бы про танки Роммеля в Африке…»
кинокритик, доктор Баске́ тридцати лет, думал: «Грубовато, хотя и соответствует действительности. И неэстетично! Впрочем, чего и ждать от документального фильма. Нет, такую тему надо было подвергнуть литературной обработке. И создать на этом материале убедительную повесть. А не вытащить ли мне из письменного стола мой старый набросок «Любовь на фоне мрака»? Публицистика меня не очень устраивает. Вот наглядный пример, к чему она приводит: к фотографированию, к пасмурным, нехудожественным фильмам. Стоило бы дать эту мысль в моей очередной статье жирным шрифтом…»
учительница Борделер пятидесяти двух лет закрыла глаза. «Не надо мне было сюда ходить, – думала она. – Опять у меня начинаются спазмы в желудке. Но ведь на педагогическом совете рекомендовали посмотреть этот фильм для ознакомления с историческим материалом. Тогда, в Союзе немецких женщин, нам ни слова не говорили о таких ужасах. Мы подкармливали школьников и помогали незамужним матерям, помогали основательно и без лишних слов. А коллега Йокодек? Так и неизвестно, что с ним стало. Он слушал передачи из-за границы и распространял слухи. Я и сообщила о нем куда следовало. Это был мой долг. Долг? Чепуха! Никакой не долг! Но за это я уже поплатилась. Три года в лагере для интернированных – тоже не сахар. А Йокодек… неужели он погиб именно так, как… как… эти… которые на экране… на проклятом экране… Ох, выйти бы поскорее…»
доверенное лицо одной фирмы господин Зельбман сорока пяти лет грыз орешки, соленые земляные орешки из пестренького пакетика, и старался, чтобы пакетик не шуршал. Зачем мешать людям? Зельбман тщательно разжевывал каждый орех…
старшеклассник Теппенбрух развлекался с медсестрой Линденфельдт игрой в потные ладошки. Когда в кино держишь руку своей спутницы, это называется играть в потные ладошки. Старшеклассник охотно обнял бы девушку за плечи, но у него хватило денег только на билеты в партере, в самой середине зала. Обниматься здесь было как-то неловко. «Авось скоро кончится, – думал Теппенбрух. – Надо все-таки глядеть на экран. Вдруг на выпускных спросят, как оно тогда было? А по мне, лучше бы старики сами расхлебывали кашу, которую заварили. Когда картина кончится, на улице уже будет темно…»
медсестра Линденфельдт думала: «Ну зачем он потащил меня на такую картину? Впрочем, когда она кончится, на улице уже будет темно…»
место советника юстиции Мутта пустовало. Сначала он даже послал дочку в кассу предварительной продажи: боялся, что перед самым началом придется стоять в очереди, но потом советник юстиции Мутт решил вообще не ходить в кино. «Стоит ли без нужды ворошить прошлое», – подумал он. Советник юстиции Мутт был некогда обершарфюрером Муттом…
кассирша Тримборн передала Менгенбергеру, хозяину кинотеатра, выручку.
– Потрясающе! – сказал господин Менгенбергер и засмеялся. – Такого сбора уже давно не было, верно, дорогуша? Очень давно, с войны, когда у нас демонстрировался фильм «Подводные лодки идут на Запад». Или еще раньше – «Штурмфюрер Вестмар». Одним словом, что-то связанное с Западом…
Костербург знает много способов
Быть режиссером значило для Костербурга быть инженером. Он питал отвращение ко всему, что принято считать атрибутами киношника: развинченные телодвижения, темные очки, нарочитая небрежность в одежде. На работе Костербург носил удобный синий комбинезон, в частной жизни – костюмы строгого покроя. Особенно ненавидел Костербург все громкое. Три года он прослужил помощником режиссера при Финингере, который все время орал, орал на звезд и на статистов, на осветителей, на операторов и на самого себя. Когда Костербург – ему тогда было двадцать три года – получил от продюсера первое самостоятельное задание, в студии, где он вел съемки, стало тихо, как в операционной. Поначалу актеры посмеивались над молодым человеком, который отзывал их в сторонку и говорил им на ухо, какие нужно внести исправления. Из уст в уста передавалась кличка Суфлер. Потом вышла первая картина Костербурга – история одного солдата, который, вернувшись с войны, никак не может приспособиться к мирной жизни и потому идет на дно. Картина получила четыре премии, а доход от нее в шестнадцать раз превысил все издержки.
Вторая картина вышла из рук Костербурга, третья, четвертая… Его имя стало маркой фирмы. Его ненавязчивая манера нашла подражателей даже среди режиссеров старшего поколения. Но плагиаторы не имели успеха. Правда, у них на студиях тоже перестали кричать, но заменить крик на рабочую атмосферу высокого напряжения они не смогли. В этом-то и был секрет Костербурга. Костербург знал много способов, как заставить актера работать. Пять-шесть шепотом сказанных слов – и скованность исчезала, а неловкое движение превращалось в красноречивый жест. Актеры побаивались Костербурга. Его шепот действовал сильнее ругательств. И все же те, кого приглашал Костербург, никогда не отвечали «нет». Пренебречь вниманием молодого режиссера, чьи фильмы прямым путем вели к мировому успеху, – этого не мог себе позволить ни один актер.
Но на пятом году деятельности Костербурга разразился скандал. Сияющая звезда потускнела и угасла. Толчком для начала кампании против Костербурга послужило происшествие, которое случилось во время работы над картиной «Дом черных теней». Роль главной героини Костербург предложил Мари Бергсон, той, что тридцать лет назад блистала на сцене и на экране, а теперь должна была сыграть самое себя. Обрадовавшись случаю уйти от одиночества, с каждым днем все более тягостного, Мари Бергсон ответила согласием. И тут Костербург и его метод потерпели фиаско. Даже в перерывах между съемками, когда актриса играла со своим спаниелем, мимика ее была куда более выразительной, чем перед камерой. Если по ходу фильма следовало показать сильное душевное движение, от престарелой знаменитости нельзя было добиться ничего, кроме беспомощных и ненатуральных жестов. Вся студия до последнего статиста чувствовала: Костербург начинает нервничать. Его тихие, убедительные доводы не оказывали никакого действия на высокую полную старуху, чуть растерянно стоявшую под лучами юпитеров. У нее было совершенно иное представление о задачах актера, чем у Костербурга.
Застопорилась очередная сцена. В ней Бергсон должна была изобразить потрясение, которое она испытывает, узнав о том, что погиб ее муж, ушедший в экспедицию. Восемь раз Костербург начинал крутить эту сцену, и все восемь раз игра актрисы его не удовлетворяла.
Костербург перестал владеть собой. Приказав не прерывать съемки, он на девятом дубле заорал во все горло:
– Ваш спаниель попал под машину!
Наконец-то черты старухи исказил неподдельный ужас, наконец-то Костербург увидел перед собой человека, который не в силах поверить услышанному, человека, которому отказывается служить разум. Теперь это была подлинно великая актриса, великая, как в дни своей славы. Секунд пятнадцатъ-двадцать камеры снимали крупным планом лицо Бергсон. Потом они запечатлели лицо мертвой.
– Разрыв сердца, – констатировал врач.
Одиночество в Вавилоне
– Намешайте мне чего-нибудь, – сказал Мархнер, обращаясь к бармену, которого все называли просто Курди.
– Чего именно?
– Чего-нибудь, – повторил Мархнер.
– Чтобы забыть или чтобы вспомнить?
– И то и другое.
– Тогда мой вам совет – джин «Дейзи», – сказал Курди и поощрительно кивнул.
Мархнер промолчал. Ребром ладони Курди коснулся лба: проверил, хорошо ли сидит накрахмаленная иссиня-белая шапочка. Чисто механическое движение. Минуту спустя он уже сдвинул этот кокетливый головной убор на затылок. Потом Курди до середины наполнил большой бокал кусочками льда, выжал туда половину лимона и дождался, пока сок пропитает белесые холодные кубики.
Во время последующих операций Курди не отрывал взгляда от усталого лица Мархнера. А Мархнер следил за руками бармена. Эти руки высыпали на лед чайную ложку сахарной пудры, добавили шесть капель гренадина и залили все стаканом джина. Бокал запотел. Курди нацедил в него содовой воды из сифона, положил сверху зеленые веточки мяты и увенчал свое творение завитушкой апельсиновой корки.
– Вот, прошу, джин «Дейзи», один раз. Пейте на здоровье, – улыбаясь, сказал Курди и улыбался до тех пор, пока Мархнер не взглянул ему в глаза.
«До чего же он молод! – подумалось Мархнеру. – Дитер улыбается точно так же. Знает, что это производит впечатление. Интересно, а что сейчас делает Дитер?»
Справа от Мархнера чокались два господина и дама. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» – шумели они. Дама сказала:
– Хэллеркен-Кэллеркен! Это такой финский тост.
Мужчины захохотали.
Мархнер отпил из бокала. В горле, где-то очень глубоко, осел крепкий, приторно-горький вкус.
– Нравится? – спросил Курди, так и не погасив улыбки.
– Нет, – ответил Мархнер.
– Не беда, просто вы еще не распробовали, – сказал Курди все с той же обаятельной улыбкой. – У нас бывают посетители, которые за вечер выпивают дюжину бокалов. Все равно как в романе Эрнеста Хемингуэя.
– Это не по моей части, – сказал Мархнер, вонзая ноготь большого пальца в пористую корку апельсина.
– Вам что, Хемингуэй не нравится? – спросил Курди.
– Это не по моей части, – повторил Мархнер. – Его герои живут слишком далеко от меня. Сплошь кулачные бойцы. Мужчины из мужчин. Охотники на львов, офицеры, покорители джунглей и вискоглотатели. А вот найдется ли у него невыспавшийся геморроидальный бухгалтер?
«Значит, он бухгалтер, – подумал Курди. – Так я и знал. Обыкновенный бухгалтер, который рискнул попытать счастья в соседнем казино. И в кармане у него неожиданно оказались крупные деньги. Бухгалтер в воскресном костюме. Галстук совсем истерся на сгибе. Его, должно быть, вывязывали много сотен раз. Лет, наверно, пять подряд».
– Да, бухгалтер, – сказал Мархнер. Застигнутый врасплох, Курди смутился и невольно поправил шапочку. – Вот о ком надо бы написать. В жизни бухгалтера тоже есть немало занимательного. Не днем, конечно, нет-нет. С восьми утра он корпит над счетами, в десять – перерыв на завтрак, вчерашний хлеб из пергаментного пакетика, а потом… Вы меня еще слушаете?
– И очень внимательно, – солгал Курди.
– А потом рабочий день кончается. Зато вечером становится… Ну, действуйте же, молодой человек!
Бармен получил новый заказ и принялся колдовать над смесителем. А Мархнер повел свои мысли дальше, как раз с того места, где оборвал фразу:
«…становится интереснее. Вечером ты аккуратно раскладываешь и растягиваешь свои нервы на воображаемой доске, чтобы жена прошлась по ним веничком и простирнула их в стиральном порошке буден – унылой смеси из забот, розовых надежд и вываренных сплетен. Но вершины достигаешь только ночью, когда наступает торжество безудержной лжи. Обнимаешь жену, а сам думаешь про девчонку в короткой юбочке, девчонку из нашей конторы. Иногда возвращаешься домой поздно и начинаешь ненавидеть жену за то, что она спит жирным, здоровым сном и не виновата в этом, за то, что под глазами у нее пролегли морщинки, хотя и в этом она не виновата, за то, что ты наизусть выучил каждый миллиметр ее тела, за то, что она надоела тебе не меньше, чем куртка, которую ты носишь на работе, и за то, что при всем том она нужна тебе. И вдруг – или не вдруг, а постепенно? – в самых кончиках пальцев рождается предвкушение. Предвкушение заманчивой возможности разом покончить со всем – с женой, или с детьми, или с самим собой. Почему «или»? Не «или», а «и»! Только с Дитером нелегко будет сладить. Ему сравнялось четырнадцать, он был сильный мальчик. Почему «был»? Он и есть сильный. И ни с чем я не покончил. Так, как хотел. Вышло иначе».
Приподняв полу пиджака, Мархнер похлопал по туго набитому заднему карману. «От этого чувствуешь себя уверенней, – подумал он. – Но у меня явно мешаются мысли. Это нехорошо. Именно сейчас нельзя терять присутствие духа. Нельзя, чтобы мне вдруг понравился этот дурацкий изысканный напиток со льдом. Надо бы заказать кружку пива. Хотя есть ли пиво в этом сверхшикарном заведении?»
– Еще раз джин «Дейзи»? – спросил Курди.
– Нет, – ответил Мархнер. Он лишь теперь заметил, что его бокал пуст и только на дне оплывает кучка серого, талого льда. – Нет, получите с меня.
– Уже? А в «Вавилоне» только сейчас и станет по-настоящему весело. Поднаберется народу. Мы начнем нашу знаменитую эстрадную программу. Вы видели афиши? Перед входом? У меня есть даже несколько любительских снимков, если вы…
– Получите, – сказал Мархнер.
– Как вам угодно, – кротко согласился Курди.
Мархнера поразила низкая цена напитка. Чтобы расплатиться, хватит денег в кошельке. Не придется начинать пачку. Славную, толстую пачку.
– Может, вы заглянете в «Вавилон» попозже? – Курди проводил его сияющей улыбкой. – Через час начнется программа.
– Там увидим, – ответил Мархнер, сползая с высокого табурета. «Гимнастическое упражнение для детей», – подумалось ему. Он медленно проследовал по ковру цвета морской волны с узором из женских тел, когда-то белых, а теперь зашарканных и грязных. Мархнер поймал себя на том, что старается шагать через эти стилизованные фигуры так, чтобы не задеть их, а поймав, рассердился, оторвал взгляд от пола, сперва нерешительно, потом резко, как отрывают от раны присохший пластырь, и поспешил к выходу. Только когда вращающаяся дверь выпустила его на волю, он подхватил нить своих размышлений.
«Не говорил ли я вслух? Нет, я думал. В этом – как его? – «Вавилоне» нельзя говорить. «Вавилон». Забавное название для бара. Что ж тут забавного? Ведь и тогда, в настоящем Вавилоне, тоже незачем было говорить. Потому что никто никого не понимал, потому что у каждого был свой язык. А человеку надо, чтоб его где-нибудь понимали. Но где? И кто? На работе? Или дома? Или этот бармен в «Вавилоне»?»
Еще несколько шагов Мархнер тащил с собой дребезжащий, ненужный смешок, потом бросил его посреди улицы. Лишь очутившись перед церковью, он понял, что это не улица, а тупик.
«Теперь, мой мальчик, не наделай глупостей, – подумал Мархнер. – Не разыгрывай из себя прозревшего. Не падай ниц в тенистом сумраке колонн, не сокрушайся. А может, стоит подыграть? И все кончится как в притче из душеспасительной газетки, что лежит на столе у коллеги Колькраба: блудный сын, сладость покаяния и всепрощающая улыбка господина патера. Скажи, тебя не тошнит от этой картины?»
Мархнер вошел в церковь и с удивлением отметил, что тьма, царящая между потиром и алтарем, достигла точно такой же густоты, как сумерки на улице. Кто-то откашлялся. Зашаркал ногами в исповедальне. Но никто не вышел оттуда, и никто туда не вошел. За лиловыми занавесями горел свет.
«Уж не меня ли дожидается святой отец? – подумал Мархнер. – Если меня, ему придется долго ждать. Хотя почему бы и нет? Вдруг он поймет мой язык, мой неповторимый мархнеровский язык? Попробуем. Денег за это не берут. Надеюсь, по мне не заметно, что я пил вавилонский джин “Дейзи”».
Мархнер прошел в исповедальню. Свет за лиловыми занавесями погас.
Мархнер опустился на колени. «Как принято начинать разговор в этой тесной исповедальне? Я забыл формулу. Я не помню зачина. Лет тридцать – тридцать пять назад я еще все знал. Но забытое и не стоит того, чтобы его помнить. Итак, Мархнер, не вспоминай!»
Тишина начала тяготить Мархнера. И тут сквозь деревянную решетку к нему проник голос:
– Когда вы исповедовались в последний раз?
– Да пожалуй, лет… когда меня водили к первому причастию, первому и последнему. Не один десяток лет тому назад. И еще раз мы всем скопом получили отпущение грехов, даже без исповеди. От капеллана. В Черкасском котле. Перед попыткой вырваться. Но я пришел не исповедоваться. Я пришел поговорить с вами.
Молодой викарий, стоявший по ту сторону деревянной решетки, был смущен. Он совсем недавно начал принимать исповеди. А сегодня у него впервые была вечерняя субботняя служба, потому что патера вызвали на съезд настоятелей. Если не считать нескольких старушек, которых влекла к молодому священнику прелесть новизны, он имел дело только с детьми, которые являлись по расписанию. Одни и те же слово в слово заученные тексты из молитвенника. За этим текстом трудно было угадать, где кончается детская наивность и начинаются муки переходного возраста. Ведь и малому греху ведом стыд, ведь и малый грех охотно прячется за безликой формулой.
Но сейчас он услышал не формулу. Сейчас прозвучали новые слова, и новых слов требовали они в ответ. Викарий, полный напряженного внимания, сжался в комок. «Дух, – просил он, – святой дух, пробуди от спячки мое сердце и мозг, помоги мне помочь этому человеку!»
– Вы хотите говорить здесь? Может, мы пойдем ко мне домой? – предложил викарий. «Только бы не сфальшивить, только бы не сказать что-нибудь невпопад!» – Мы могли бы посидеть за чашкой кофе. У меня есть время для вас. У меня много времени.
– Я предпочел бы остаться здесь, – ответил Мархнер. В темноте он чувствовал себя увереннее, словно под колпаком из черного, плотного металла.
– Слушаю, – сказал викарий. Сперва он хотел сказать: «Слушаю вас, вы можете говорить совершенно свободно», но вовремя оборвал задуманную фразу, глупую фразу из лексикона психоаналитиков. В «слушаю» заключались и необходимое поощрение, и просьба, и согласие.
– Перед тем как прийти сюда, я побывал в баре, – начал Мархнер и пожал плечами. – Но там мне не с кем было поговорить.
Мархнер выжидательно умолк. За решеткой тоже молчали. И Мархнер продолжал:
– А мне надо с кем-нибудь поговорить. Только не спрашивайте, почему я тридцать лет не переступал порога исповедальни. И не спрашивайте, почему я надумал убить свою жену. Надумал, и все, просто я хотел бы знать, что мне делать теперь. Я убежал от убийства. Какое преступление по вашему кодексу считается более тяжким – убийство или кража?
– Убийство, – ответил молодой священник. И снова он не позволил себе добавить какое-нибудь речение, усвоенное в семинарии, например: убийство есть удар, нанесенный человеком в лицо господу.
– Поэтому я и похитил деньги. Достаточно, чтобы прожить на них лет двенадцать здесь, в вашей стране. Я перешел границу.
– А потом?
– Простите, не понял?
– Что вы будете делать потом, через двенадцать лет, когда кончатся деньги?
– Я могу работать.
– А что будет делать ваша семья?
– Жить, но она будет жить только потому, что я нашел выход. Вот отчего я не могу исповедаться. Ибо исповедь предполагает раскаяние. Настолько-то я еще помню правила. Но раскаиваться в том, что я взял деньги, значило бы одновременно раскаиваться в том, что я не совершил убийства. Вы понимаете? Раскаиваться в том, что не убил.
– Вас уже разыскивают?
– Навряд ли. Я перешел границу вчера вечером. Сегодня суббота. До понедельника никто не обнаружит недостачу.
– Но тогда еще не поздно. Или вы уже израсходовали часть денег?
– Нет.
– Тогда возвращайтесь к жене!
– А завтра придется разыскивать убийцу…
– Вами владеет ложное представление. Ваша жена не дьявол.
– Моя жена – человек с самыми добрыми намерениями, прикованный ко мне. И от этих оков я задыхаюсь.
– Быть может, вашей жене тоже тяжело с вами, однако она изо дня в день заставляет себя любить вас.
На глазах Мархнера деревянная решетка вдруг обратилась в железную.
– Отрадно слышать, – съязвил он. – Значит, у нас есть все условия для семейного счастья: подавляемая, скрытая ненависть с обеих сторон. – Он уронил всхлипывающий смешок в скрещенные на уровне рта ладони.
«Не то, не то я сказал! – испугался викарий. – Вот и короткое замыкание. Почему я не могу говорить на языке, понятном этому человеку?»
Мархнер умолк. В нефе послышались робкие шаги. «Надо бы говорить шепотом», – подумал он. И шепнул:
– Я ухожу.
– А разве мы не продолжим наш разговор? – огорчился викарий. – Сегодня? Или завтра? Когда вам будет угодно.
– Это был не разговор, – шепнул Мархнер. – Это был монолог.
– Монолог – это тоже разговор, если человек не щадит себя, – сказал священник.
– Всего хорошего, – шепнул Мархнер и устало поднялся с колен.
Молодой священник вознес руку. Рука повисла в воздухе, благословляя. «Не умудрен я, господи, – подумал священник. – Я брожу по твоему винограднику и топчу больные лозы, вместо того чтобы исцелить их».
И, вцепившись в шелковую епитрахиль, он произнес чуть слышно:
– И аз, недостойный иерей, властию Его, мне данною… прощаю… от всех грехов твоих… грехов твоих…
«Грехов твоих… Господи! Почему я не смею сказать: «Ego te absolvo» [26]26
Прощаю и разрешаю тя (лат.).
[Закрыть]? Почему ты не пошлешь мне сил, господи?»
Когда Мархнер снова очутился в «Вавилоне», там были заняты почти все столики. Красный, как леденец, перст прожектора указывал с филенчатого потолка на перезрелую танцовщицу, которая только что весьма искусно вылупилась из норкового манто.
В жиже кроваво-красного света трудно было разглядеть что-нибудь, и Мархнер ощупью пробрался мимо кресел к табуретам у стойки.
– Еще раз джин «Дейзи»? – спросил Курди. – Хорошо ли вы погуляли?
– Я так никуда и не дошел, – сказал Мархнер. – Намешайте-ка мне чего-нибудь подороже. У меня крупные деньги.








