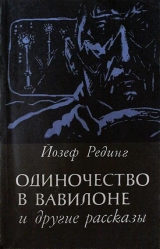
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Испорченное начало
– Он у нас с придурью, – сказала хозяйка и, приставив палец ко лбу, описала им невидимую лиру. После этого она пожала плечами, и буфы на рукавах ее национального баварского платья вздрогнули.
– Не беда, – сказал Бертольт. – Входит в программу.
«И в самом деле, придурковатый лесоруб входит в программу как местная достопримечательность. Коль скоро я надумал совершить свадебную поездку в баварский лес – чтоб там был и крестьянский двор, и клетчатое белье, и бутерброды с редькой, и рубленое мясо, – мне, стало быть, за те же деньги причитается и деревенский дурачок. Неплохая была идея поехать сюда вместо Мальорки, из нашей конторы все кому не лень прутся на Мальорку. И неплохо, что Труди сразу согласилась, когда я ей сказал: Лецбрукен, на самом краю Германии. Шесть пятьдесят комната на двоих с завтраком. Попробуй найди где-нибудь в другом месте. В другом месте тебе за шесть пятьдесят и позавтракать не дадут».
Итак, они были в Баварии. Утром предприняли длительную прогулку по смешанному лесу. Он ожидал, что это выглядит более романтично. Правда, в лесу после вчерашнего дождя капало со всех веток. Мох под ногами превратился в пропитанную влагой губку. А Труди взяла с собой только туфли на высоком каблуке.
Значит, обратно в комнату. Комната уютная. Много дерева. Собственно говоря, здесь все из дерева: потолок, стены, пол. И хочется попробовать, каково это, когда не нужно урывать по десять минут где-нибудь в подъезде или в передней, пока остальные гости охают и ахают, разглядывая хозяйские диапозитивы.
Может, потом, когда-нибудь, эти десять минут покажутся прекрасными. Но сейчас гораздо лучше здесь. Сбросить все шмотье к черту и не коситься на дверь. Дверь заперта. Причем изнутри. А хозяйка, поглядывая на сверкание новеньких обручальных колец, вносит завтрак как богоугодный финал после благородных свершений.
Бертольт взглянул на Труди. Она вытирала с верхней губы яблочное повидло.
– Извини, пожалуйста, я оставлю тебя на минутку, – сказала Труди и залилась краской. Прямо до плеч. Это Бертольт сам видел, когда она пошла к дверям.
Бертольт понимающе ухмыльнулся. «Стесняется, что ей нужно выйти. Это мне нравится. Надеюсь, она долго еще будет стесняться. Конечно же, долго. Уж об этом я позабочусь. Потихоньку да полегоньку».
– Принесите мне, пожалуйста, кружку пива, как вон у того господина, – сказал Бертольт.
– А, кружку вильсхофенского! – воскликнула хозяйка.
Лесоруб поднял глаза.
– Во пиво! Что к еде, что на ночь. Настоящий посошок, кому на дорожку, а кому в постельку.
«Это намек, что ли, насчет постельки?» – подумал Бертольт и поглядел на лесоруба. Вряд ли, лицо у того не дрогнуло. Никакого там подмигивания, никакой ухмылки. Сидит себе и спокойно дует свое пиво.
Вернулась Труди.
– У них тут уборная совсем по-деревенски.
Лесоруб вдруг вскочил и подсунул Труди табуретку прямо ребром под коленки. Такая неуклюжая любезность. Бертольт рассердился: сам-то он не встал, когда вошла его жена. А ведь собирался вести себя в семье не как какой-нибудь допотопный дед.
– Не желаете подсесть к нам? – спросил Бертольт у лесоруба.
Впрочем, едва договорив, он пожалел об этом. Но может, лесоруб откажется?
– Гости – они, это самое, здесь в диковинку, – сказал лесоруб. – Счас, только пиво перенесу.
Труди растерянно покосилась на Бертольта, но тот разглядывал подставку для кружки. В камине треснуло полено. Пришла хозяйка, поставила перед Бертольтом пиво.
– Уж я постараюсь говорить по-городскому, – сказал лесоруб.
Он сидел во главе стола, а молодожены – слева и справа от него.
– Я что же, я могу и по-городскому, самую малость, – сказал лесоруб.
– Будем здоровы! – провозгласил Бертольт и поднял серую кружку.
Лесоруб сделал то же со своей, а Труди подняла стакан солодового.
– Красивые кольцы у вас, – сказал лесоруб, – я говорю, кольцы у вас больно красивые, обручальные.
– Мы их долго искали, – согласилась Труди. – Пока оба в один голос не воскликнули: «Вот эти!» Они с насечкой. Не такие стандартные.
– Они, часом, не от еврея?
– Говорила же вам, он с придурью! – завопила хозяйка.
– От какого еврея? Я не знаю никаких евреев. Магазин Брюхерхёффера, вот где мы покупали. Не думаю, чтоб Брюхерхёффер был еврей.
– Не-е, я не про то, я про золото, не еврейское ли, мол, золото, из лагеря, от какого-нибудь еврея из третьего рейха?
– Вы что, очумели? – спросил Бертольт. – Я родился в сорок шестом, а моя жена и того моложе.
– Я ж вам говорила, я ж вам говорила, – причитала хозяйка.
– Дык все равно в вашем кольце может быть еврейское золото, – продолжал лесоруб, после чего, не сводя глаз с Бертольтова кольца, отхлебнул пива. А Труди прикрыла свое рукой.
– Чего вам от нас, в конце концов, надо? Не лезьте к нам со всякими глупостями. Это ваши заботы, а у нас есть свои, сегодняшние.
– Вот я всегда и думал, а куда ж оно подевалось, то золото, которое у евреев в лагерях отбирали, зубы там вырывали или еще чего. Его ж отливали в такие четырехугольные штуки.
– Слитки, что ли? – спросил Бертольт.
– Слитки, слитки, – обрадовался лесоруб. – Ведь зубное-то золото от убитых евреев, оно до сих пор по стране ходит. Чего ж ему не быть и в вашем кольце? То ли мало, то ли много. Золото от трех евреев. А может, их было пять… или восемь…
– Прекратите! Труди, пойдем к себе.
– Дык я чего, я просто сказал, чего думаю.
– Он псих, псих! – кричала хозяйка. – Наплюйте на него.
– Мы, знаете ли, устали с дороги, – сказал Бертольт.
«Подпортили нам начало, – подумал он, поднимаясь по лестнице. – То есть так подпортили, что дальше некуда. Всегда найдется какой-нибудь идиот, который все тебе испортит. Даже медовый месяц, и тот испортит. Ну нет, на будущий год мы поедем за границу. Уж там таких идиотов к тебе и близко не подпустят».
Договор о пожизненной пенсии
– Нет, не принц, как в «Спящей красавице». Уж тогда лучше совсем просто: Принт. А на самом деле я Принтц – «т» и «ц». Оттомар Принтц.
– Род занятий? – спросил нотариус.
– Стрелочник не у дел, – сказал старик.
– Следовательно, железнодорожник на пенсии.
– Верно, – сказал Принтц.
– А ваши данные, господин Руннельт, у меня уже имеются. Альфред Руннельт, штукатур, место рождения – Гельзенкирхен, ну и так далее и тому подобное. Имя супруги – Беата. «Договаривающиеся стороны в соответствии с установленным законом намерены заключить договор, согласно которому господин Оттомар Принтц продает, то есть уступает в собственность покупателя, Альфреда Руннельта с супругой, участок номер четыре дробь восемнадцать с двором и домом, кадастр Судервиха, том седьмой, страница сто двадцать восьмая. Выплата полной стоимости будет производиться в форме пожизненной пенсии. Двадцать тысяч марок вручаются покупателем при составлении купчей, в дальнейшем со дня совершения оной и на все время жизни продающего ему должны ежемесячно выплачиваться двести марок, со смертью же последнего всяческие обязательства покупателя по отношению как к продающему, так и к его предполагаемым наследникам автоматически прекращаются. Одновременно продающему на все время жизни предоставляется неограниченное право пользоваться двумя комнатами в мезонине, туалетом и подвалом». Вопросов и возражений нет?
Встречные взгляды, покачивание головой.
– Хорошо, – сказал нотариус. – Тогда прошу ознакомиться с текстом договора и подписать его. Каждая партия получит по экземпляру.
– Партия? – переспросил Принтц. – Сподобил господь на старости лет сделаться целой партией. Забавно. Партия Принтца. Я и председатель, я и казначей, я и рядовой член, я и избиратель. А оппозиции не будет за недостатком рядовых членов. Партия кроткая, как агнец. Ладно, давайте ее сюда, эту бумажку.
Принтц читал внимательно, скользя пальцем с одной строчки на другую. Руннельт передал скрипящий лист своей жене, сделал вид, будто заглядывает в текст сбоку, а сам косился на Принтца. Во время чтения Принтц беззвучно рассмеялся. «Что-нибудь не в порядке? – подумал про себя Руннельт. – Ясно, не в порядке, раз старик так по-жульнически ликует. Его халупа, без сомнения, уже прожила лучшую часть своей жизни. Правда, участок у него отличный… Если малость подремонтировать дом да подкрасить… Во всяком случае, двадцать тысяч – первый взнос и по двести ежемесячно – это совсем немного, когда цены на землю достигли у нас мирового первенства. Но почему он смеялся?»
Хотя старый Принтц вовсе не смеялся. Верней сказать, он смеется всегда. Сожженный рот, изуродованные губы, они вечно сложены в улыбку. Лицо старика словно распадается на две части. Сверху гладкая светлая кожа, над переносицей пара пигментных пятен, как у всех стариков, но вот ниже, от скул и до шеи, все лицо лиловое, отечное, в рубцах. Тяжелые ожоги, плохо залеченные. На лицо будто налеплена вечная ухмылка.
Руннельт бросил поспешный взгляд в договор, который жена его держала на ладонях, словно поднос.
Принтц лишь мельком глянул в его сторону и снова скалится над своим экземпляром.
Руннельт оторвался от чтения. Старик не сводил с него глаз. Вот он нахмурил лоб, посредине – вертикальные складки, по бокам – поперечные; словно силуэт вороны, когда та расправляет потрепанные крылья.
«Доволен ли Принтц договором? А почему бы и нет? Двадцать тысяч на руки, это тебе не баран начхал. Мы с Беатой четырнадцать лет собирали эти деньги по грошику. Двадцать тысяч марок – это неиспользованный отпуск, некупленная машина, нерожденный ребенок. Только сейчас Беата может родить. Спустя четырнадцать лет. Она сейчас на третьем месяце, и домик старого Принтца придется нам очень кстати. Там, внизу, три комнаты. Не сказать, чтобы много, но лучше, чем две ниши, которые мы снимали у Беатиных родителей. К тому же собственность. Личная собственность. Собственный домик со скамейкой перед фасадом и садиком вокруг. Я долго думал, что такое бывает лишь в песнях. Но через минуту этот волшебный домик будет принадлежать нам. Правда, в трех комнатах будет тесновато, когда малыш появится на свет, но уж я как-нибудь расстараюсь, увеличу площадь. Снесу курятник и за счет этого прибавлю пару-другую метров, вечером после работы. А в конце концов нам достанутся и две верхние комнаты, когда старый Принтц…»
– Все как следует быть, – сказал старый Принтц. – Могу изобразить под этим: Фридрих Вильгельм. У вас ручки какой-нибудь не найдется, господин нотариус?
– Целый набор. Как-никак для меня это орудие производства, – сказал нотариус, долговязый нескладный парень, самый молодой из всех, кто находился в комнате. После чего он придвинул Принтцу стакан со множеством ручек.
Принтц выбирал долго. Наконец выбрал самую толстую. Испытующе поглядел перо на свет.
«Господи, боже ты мой, – подумал Руннельт, – чего он так копается?»
Принтц прокашлялся. Не спеша, обстоятельно. С явным удовольствием. Потом уложил ручку себе на ладонь и обхватил ее.
«Словно мастерок», – подумал Руннельт.
Принтц начал выводить свое имя. Нет, не выводить, он выбивал свое имя на бумаге угловатыми буквами, с огромным напряжением.
Нотариус несколько секунд глядел на это. Так у него никто еще не подписывался. Потом он сказал:
– Господин Принтц, надо подписать все экземпляры. Для каждой партии. И все бумаги.
– Боже правый, – застонал Принтц. – Такой тоненькой ручкой. Да мне ее пальцами не ухватить. С тех пор как на меня дунуло огнем из паровозной топки…
Тут только Руннельт увидел, что руки у старика такие же изуродованные, как нижняя часть лица и шея.
– После той аварии я уже мало на что годился, – сказал Принтц. – Разве что стоять при шлагбауме. Крутить рукоятку да снимать телефонную трубку я мог. Но десять лет назад и этому пришел конец. Теперь мне семьдесят пять, и я бываю рад-радехонек, когда могу удержать свою носогрейку. Но такую вот поганую ручку… – Старик покачал головой и с досадой возобновил подписывание.
«Семьдесят пять, – подумал Руннельт. – Точно. А через четыре месяца ему будет семьдесят шесть. В ноябре. Пятого».
Шлеп!
Руннельт вздрогнул.
Старик яростно хлопнул ладонью по столу.
– Вот чертова лапа! – бесился он. Теперь и верхняя часть его лица побагровела. – Ты будешь работать, зараза, или нет?
«Он прямо на глазах молодеет, – подумал Руннельт. – Когда он злится, ему дашь от силы шестьдесят».
– Вы уж извините, – обратился старик к Беате. – Это я из-за руки так завелся. По силомеру трахнуть она еще может, а вот насчет писанины с нее лучше не спрашивать.
– А вы не торопитесь, господин Принтц, – сказала Беата.
Руннельт выслушал все это с удовлетворением, но через минуту радость его померкла. «Пальцы, – подумал он, – пальцы могут и не гнуться, и ничего не чувствовать. Но в остальном-то он живой, ведь это ж надо, так грохнуть по столу. А рявкнул как!»
Принтц снова попытался начертать свою подпись. Нотариус, жена Руннельта, сам Руннельт – все не сводили глаз со стариковской руки, которая знай себе дергалась над листом бумаги.
– Готово, – вздохнул Принтц.
– Ладно, – сказал нотариус. – Теперь вы, господин Руннельт, а я тем временем принесу бутылочку. Надо же спрыснуть сделку.
«Спрыскивание он небось тоже поставит мне в счет, – подумал Руннельт. – Включая обслуживание, и жаться он тут, само собой, не будет».
Руннельт подписал. Быстро, экземпляр за экземпляром. Потом отодвинул бумаги в сторону, словно они мешали ему.
Нотариус ловко откупорил бутылку.
Принтц глядел на стоявшую перед ним рюмку, которую нотариус наполнил на палец, не больше. Когда старик заговорил, похоже было, что он обращается к своей рюмке:
– Ну вот, канат обрублен. Словно у воздушного шара. Один канат за другим. Когда меня выпроводили на пенсию, был обрублен первый канат. Когда умерла жена – несколько сразу. А когда продаешь свой дом, так и кажется: обрублен предпоследний. И теперь весь старый шар держится на одном-единственном канате, и уж как его тянет кверху! Скоро последняя веревка перетрется, сама по себе. Она уж и без того гнилым-гнилехонька. Воздушный шар по имени Принтц удерживают на земле несколько перетертых нитей…
«Не в себе старик, – подумал Руннельт, – или просто хочет заморочить меня своей болтовней? В самом деле ему так грустно или старый плут хочет мне доказать, что уже дышит на ладан, а сам, того и гляди, переживет меня? Ему-то легче, я слежу за домом, а он себе живет припеваючи на пенсию. Сколько мне придется ему выплачивать? Два года? Или все двадцать?»
– Будем здоровы! – сказал Принтц и ободряюще приподнял рюмку.
Руннельт с такой поспешностью ухватился за свою, что вино выплеснулось через край.
«Черт возьми, что будет дальше-то? Выходит, я так и начну с этого дня прислушиваться к каждому вздоху, каждому хрипу старика? Выходит, с этого дня я должен зазывать смерть к нему в мансарду? Выходит, я бандит и подлец? Этот человек, старый, побитый жизнью человек не сделал мне ничего худого, и вдруг я начну дожидаться его смерти. Да при чем тут вообще смерть? Кто ее затащил сюда, в этот кабинет, в этот договор? Нотариус? Старик? Я сам?»
– Будем здоровы, – сказал Руннельт.
Грабнер больше не согласен глотать…
– Хайнкен, да ты никак опять на велосипеде?
– Да, Грабнер, на зиму пришлось отказаться от машины. Здесь все равно никуда не поедешь. А чтоб только на работу и обратно, не имеет смысла.
– Из-за монет, пожалуй, тоже.
Хайнкен замялся.
– И из-за них тоже, – наконец сознался он. – Сам знаешь, нынче сверхурочных не бывает. Раньше я с них-то и держал машину. Коли и дальше буду разгуливать без дела, придется мне и вовсе ее загнать. Я и так ее пять лет продержал и смогу говорить, что, мол, было времечко, имел и я свою машину.
Оба велосипедиста свернули в сырой туннель возле стапелей. Хайнкен посигналил. Без нужды, ему нравилось слушать звонок.
– А у тебя, Грабнер, все по-старому? – спросил Хайнкен. – Тот же термос для кофе, что и двадцать лет назад, когда ты пришел к нам, и велик у тебя тот же самый? Да?
– Кто не пересаживался с велосипеда на машину, тому и обратно не пересаживаться, – ответил Грабнер.
Хайнкен малость покрутил педали, прежде чем до него дошло.
– A-а, это ты про меня…
– Вот именно.
– Да, тебе здорово повезло, – сказал Хайнкен.
Грабнер вздрогнул. Задышал прерывисто.
– Ты это про что? – спросил он.
– Ну про то, что Леммеркерн не может достроить дом. У него только подвал и готов. Иначе он загородил бы вам вид на канал. Я слышал, Леммеркерн не сегодня-завтра вылетит в трубу. Если уже не вылетел. Дом ему никогда не достроить. Словом, тебе крупно повезло. Это ж надо, такой вид из окна.
– Верно. Насчет вида ничего худого не скажешь, – равнодушно подтвердил Грабнер, а сам подумал:
«Ничего он не знает, этот Хайнкен. И никто ничего не знает. Шестьдесят четыре тысячи марок – всего за две или три марки. Я сразу позвонил в ихнюю администрацию. Чтоб не вздумали переводить. Сам получу, лично. Какие цифры я зачеркивал, никто не знал. Ни Эльфрида, ни ребята. А когда по телевизору называли счастливые цифры, я, как обычно, приговаривал: «Черт подери, опять мимо», – и дело с концом. Хоть и знал, что попал в яблочко. Вчера объявили сумму: шестьдесят четыре тысячи. Теперь главное – не ошалеть от радости».
В раму застучали камушки: они въехали на дорогу, усыпанную гравием, который для крепости небрежно полили варом. Из года в год ямы и бугры на дороге к сталелитейке латали кое-как.
– Вот черт, – сказал Хайнкен.
Грабнер кивнул и поправил фару на своем велосипеде: крепление совсем разболталось.
Неуклюжая арка ворот скупо освещена. Будка вахтера – словно аквариум. Компостер для личных карточек. Тео Грабнер. Цех 9. Конверторный.
– У вас снова завелся погонщик. Ему небось велено вас подтянуть. Говорят, сволочь порядочная. А как его звать-то, Штерценфельд или как?
– Штерценкамп, – сказал Грабнер.
– Я просто так, мое дело сторона. Привет.
– Привет, – ответил Грабнер.
«На шестьдесят четыре тысячи можно много чего сделать, если действовать с умом. А можно и прогореть в два счета. Я сам видел, как быстро прогорел Иоллек. У него года три назад было сто тысяч с гаком. А уж друзей завелось – не сосчитать. С утра до вечера у них море разливанное. Даже зятек наклюнулся, польстился на ихнюю Герту, хотя у той нос приплюснут, словно на нем утюг стоял. Правда, зятек так же быстро и улетучился, а Герта теперь ходит убираться к Брандхайзе. Иоллек, тот сперва пропускал за вечер три стаканчика можжевеловки, потом пять, потом дюжину, потом целую бутылку. Теперь судебные исполнители не выходят у него из дому, потому что у него двадцать тысяч долгу, а самого Иоллека на три месяца запирали в «вытрезвиловку». Но пансион для алкашей ему больше не помогает, Иоллек человек конченый, а ведь был парень хоть куда. Нет, со мной такого не будет. Мне только время нужно, чтобы все обдумать. Несколько месяцев. И чтоб до тех пор никто ничего не заметил. Чтоб все по-старому. Точь-в-точь как было. Не нужны мне друзья, которые зарятся на мои денежки. Есть у меня несколько, с меня и хватит. Они стали моими друзьями, когда от меня нечего было ждать, разве что выставлю бутылку пива, когда надумаем на загородной прогулке перекинуться в карты».
– Привет, – сказал Грабнер. Он был уже у себя в цеху.
– Привет, – ответил Штерценкамп и поглядел на часы.
«Можешь пялиться до утра на свой будильник, – подумал Грабнер. – Я не опоздал».
Грабнер надел спецовку. Первые конверторы для его смены – ряд толстопузых бронированных чудищ, в которых что-то яростно клокотало, – уже стояли наготове.
Грабнер отвернул вентиль воздуходувки. Тут появился Лизингер. Тощий, суетливый, жалкий.
– Вы, верно, с полудня заступаете? – полюбопытствовал Штерценкамп.
Лизингер стал еще более торопливым, тощим, жалким.
Это Штерценкамп умеет. Дергать людей. Незаменимый для хозяев надсмотрщик.
«Когда я пришел сюда, у Штерценкампа была золотая пора. Орал, командовал, дергал людей. А если они пытались возразить, он им сразу указывал на дверь: там уже пять человек готовы занять твое место. Последние несколько лет стали передышкой для Штерценкампа. Рабочих рук не хватало. Штерценкампы тогда вышли из моды. Но теперь, когда повеяло холодным ветром, Штерценкамп опять задрал нос. Опять начал важничать. Заслужил похвалу дирекции. Надсмотрщик первого разряда. А впрочем, какое мне дело. Если бы он только не измывался над Лизингером…»
Лизингер подошел спотыкаясь. Он всегда спотыкался. Попробуй не споткнуться с кривыми ногами и плоскостопием.
– Вчера вы плохо сбили окалину, – сказал Штерценкамп. – Вот они, груши, до сих пор стоят. Сегодня после смены пройдетесь еще разок. И чтоб блестело.
– Слушаюсь, – сказал Лизингер.
– А куда это вы наладились, хотел бы я знать? – спросил Штерценкамп.
Лизингер пробормотал что-то неразборчивое и заковылял в другую сторону.
Грабнер не прислушивался.
«А не выстроить ли домик с квартиркой для жильцов? – подумал он. – Плата с жильцов будет мне вроде пенсии. Мы б туда и сами перебрались с Эльфридой и мальчиками, для нас хватит. Или акций накупить? Нет, акции – это не для нашего брата».
– Что-то вы сегодня не торопитесь, Грабнер, – заметил Штерценкамп. – Я привык видеть вас более проворным.
«А пошел ты в задницу», – подумал Грабнер. Но вслух сказал:
– Да так, мысли одолели.
– Между прочим, вам жалованье не за мысли платят.
«Проглоти, – подумал Грабнер, – проглоти все, что ты хочешь сказать этому гаду. Чтоб никто ничего не заметил. Чтоб сегодняшний Грабнер не отличался от вчерашнего».
– Лизингер! – заорал Штерценкамп. – Куда опять запропастился этот недоумок? Ну нет, до пенсии он здесь не дотянет. И еще кое-кто не дотянет. Теперь опять надо пошевеливаться. Теперь за воротами можно вместо каждого из вас…
– Набрать пять новых. Я знаю, – сказал Грабнер.
– А вот и Лизингер. Такого придурка в наши дни просто грех держать. Вы как думаете, Грабнер?
– Чертова бестолочь, – сказал Грабнер.
– Вы тоже так думаете? Придется доложить по начальству, чтобы эту бестолочь от нас забрали.
– Чертова бестолочь – это вы, – холодно промолвил Грабнер.
– Ка-как? – спросил Штерценкамп.
– Чертова бестолочь – это вы, Штерценкамп.
– Тео, перестань! – крикнул Лизингер.
– И не просто бестолочь, – продолжал Грабнер. – Вы еще вдобавок выпендриваетесь и лижете задницу начальству, а из рабочих жилы тянете. А теперь мотайте отсюда, Штерценкамп, вы мешаете мне работать.
Когда Грабнера вызвали к шефу по кадрам, он ухмыльнулся. Трудно остаться прежним, если у тебя шестьдесят четыре тысячи. И глотать все, как прежде, тоже непросто.
Грабнер поддел ногой кусок кокса. Кусок заплясал и развалился. Грабнер вошел в административное здание.








