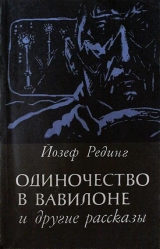
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Выстраданное решение
Едва сын пришел на кухню, женщина поняла: он опять спросит. Всякий раз, когда он напускал на себя подчеркнуто небрежный, умышленно ребячливый вид, за этим скрывалась просьба. Весь последний месяц просьба была одна и та же: мам, ты мне дашь папину машинку?..
Вот оно, это самое. Требование, которое ее пугало. Просьба, от которой становилось больно, как от неумелого прикосновения к свежей ране.
Сын стоял в антрацитового цвета пуловере, стоял и ждал ответа, и лицо у него покрылось капельками пота. Он не улыбался. Не серьезничал. Он просто стоял, как человек, который настаивает на своих документально подтвержденных правах.
– Занятия начинаются послезавтра. Придет больше половины класса. – И, схватив со стола очищенную морковку, сын вонзил в нее зубы. Было так тихо, что она могла слышать, как мальчик хрупает морковкой. – А штудиенрат Хакельберг прямо сказал, что стенография и машинопись играют сегодня очень большую роль, – говорил мальчик, не переставая жевать.
Когда сын вместо привычного «Хакель» произносит «штудиенрат Хакельберг», это значит, он хочет подвести под свою аргументацию официальную базу, подумала женщина. Это еще Эрих заметил.
Сперва женщина хотела улыбнуться, но, подумав про себя: «Эрих», она не стала улыбаться. Она подошла к газовой плите и убавила огонь. Внезапно заклокотавшая черная кастрюлька смолкла.
– Хакель, я хочу сказать, штудиенрат Хакельберг, и сам печатает на машинке. Как составитель учебников…
– Сперва пообедаем, Вальтер. У нас сегодня томатный суп. Затем перейдем к деловой части. Отец тоже придерживался такого распорядка, верно?
– Хорошо, – согласился сын, но это звучало так, будто он сказал «очень плохо». Будто он сказал: «Ты хочешь снова оттянуть решение». Будто он сказал: «Политика проволочек».
– Работы не раздавали? – спросила женщина за едой.
– Нет, мы только сегодня писали. По математике.
– Ну и как?
– Три задачи решил верно, две нет. По алгебре. Так, где-то между тройкой и двойкой.
– Не блеск, – сказала женщина.
– Двойка – это четверка маленького человека, – ухмыльнулся сын. – Папино изречение. По математике он был бездарь вроде меня.
– Вальтер!..
– Я ж правду говорю. Но… – сын опустил в суп ложку, которую поднес было к губам, склонил голову к плечу и снизу вверх умоляюще поглядел на мать, – но если я смогу печатать на машинке, я сэкономлю много времени. Сочинения куда лучше отстукивать на машинке. А в сбереженное время я смогу основательно заняться математикой. Смогу вылезти на четверку.
– Умственный кульбит, – рассмеялась женщина. – Логика просто сокрушительная.
– Ну? – упорствовал сын.
Женщина снова помрачнела. Откинулась на спинку стула. Закрыла глаза. Потом, испугавшись, что сын может счесть это кривлянием, снова подобралась и сказала прямо в лицо сыну:
– Мне не хотелось бы осквернять рабочий инструмент отца. – Сказала очень медленно.
Мальчик испугался. Он встал, подошел к окну, совсем близко – стекло запотело от его дыхания, – и спросил:
– Осквернять? Моими руками? Руками сына?
– Не твоими руками, а теми деловыми письмами, которые будут диктовать на машинку отца, всем… всем низменным. Я хочу сказать…
Женщина встала, подошла к сыну, взяла его за подбородок и повернула к себе лицом.
– Я хочу сказать, – продолжала она, понизив голос, – что на этой верной, старой машинке отец печатал свои произведения. Драмы, которые входили в постоянный репертуар театров. Романы, которыми до сих пор, через два года после его смерти, занимается критика. Эта машинка теперь не просто машинка…
– А что?
– А часть отца, – сказала женщина.
– Господи, не делай из отца какого-то святого! – Сын круто повернулся к ней всем телом. – Разве отец сидел в башне из слоновой кости? На этом своем… инструменте он печатал статьи об очень даже низменных, как ты выражаешься, текущих событиях. Он не боялся выразить свое мнение простыми словами, которые понимала даже наша молочница. За это он подвергался нападкам, но за это же его и уважали. Уж не хочешь ли ты превратить все, к чему прикасался отец, в музейные экспонаты?
«Он похож на отца, – подумала женщина. – Стоит ему разгорячиться, он становится похож на отца. У Эриха так же подергивалось лицо, так же уверенно двигались руки, когда я просила его заняться чистой литературой и не обращать внимания на злободневное и преходящее».
Мальчик от волнения начал было заикаться, но овладел собой и снова стал выражать свои мысли плавными фразами.
– С помощью своей машинки отец выстроил этот домик. Камень за камнем, кубометр за кубометром! Чего же тут худого, если я хочу продвинуться дальше с помощью этого неодушевленного предмета? Отец сам похлопал бы меня по плечу и сказал: «Возьми это старье, мой мальчик. Чтобы учиться, она еще достаточно хороша».
– А ты это точно знаешь? – спросила женщина. – Я считала бы себя счастливой, знай я наверняка, что сказал бы отец в том или ином случае. Я, например, не знаю, правильно ли посылать тебя с аттестатом зрелости в Высшую торговую школу. Я не знаю, правильно ли поддерживать желание Ирены стать не художником-модельером, а медсестрой. И еще я не знаю – поверь, Вальтер, я действительно не знаю, – как отнесся бы отец к тому, что я даю тебе машинку.
Женщина судорожно закрыла руками раскрасневшееся морщинистое лицо, потом вдруг смутилась и торопливо подошла к столу.
– Хочешь еще супа? – спросила она.
– Нет, спасибо, – ответил сын и нерешительно последовал за ней.
– Тогда я подам второе, – сказала женщина и унесла на кухню глубокие тарелки. Она поставила их в мойку – между белыми лакированными стенками шкафов – и вдруг, повинуясь какому-то импульсу, взбежала на второй этаж, в кабинет мужа.
Тут она и стояла, его коричневая машинка. Рядом со стопкой книг, из которых Эрих до последнего дня делал выписки. Женщина бережно сняла потертую пластмассовую крышку с коричневой машинки. Над этой клавиатурой муж ее склонялся добрый десяток лет. Два свернувшихся тополиных листка лежали на ножках шрифта. Он любил работать в саду, до сырых дней и ранних заморозков осени. Воздуха ему хотелось, свежего воздуха. Позже она узнала почему. Раковая опухоль, паразитом угнездившаяся в его худой шее, отнимала у него воздух. Серое, засасывающее воздух разрастание. Эрих знал, что с ним. Он выведал у врача правду. Он всегда выведывал правду у людей, которые встречались ему после войны, когда он вернулся домой с простреленным коленом и голым черепом. Под взглядом этих глаз лгать было трудно. Ее муж хотел правды. Ничего, кроме правды. Слышать правду, говорить правду и отстукивать правду на этой куче дребезжащего металла.
Женщина нажала пальцем одну клавишу, и щелчок вызвал у нее новую цепочку мыслей.
До войны Эрих был другим, легче, что ли. И слова у него были легче. Тогда он писал фельетоны. Симпатичные, ни к чему не обязывающие фельетоны для воскресного употребления.
Но, вернувшись домой в ватнике и с помятой консервной банкой в мешке, он долго сидел перед машинкой, не прикасаясь к ней. Прошла целая осень, прежде чем он снова начал писать. Но теперь слова у него стали не такими, как до войны. В них была решимость, была четкая позиция. Строки машинописных листов тыкали читателя носом в неприятное.
Изменилась и форма его работ. В лагере он научился ждать. Там он ждал, пока их обнесут жидким борщом. Здесь он ждал слов, которые грозили взорвать нормальный строй фразы. За три года ежедневной работы старая, кряхтящая машинка с мучительной медлительностью выдала на гора две одноактные пьесы и один роман. Произведения, в равной мере вызвавшие возмущенный протест и бурное одобрение. Эрих не уклонялся даже от докучных вопросов со стороны студентов и литературных журналов.
«Почему вы упорствуете в своем пессимизме? Почему не предлагаете никаких решений?»
На это Эрих:
«Мне не хотелось бы, чтобы после новой катастрофы ко мне подковылял молодой инвалид и бросил в лицо обвинение: «Что ты делал тогда, когда еще было не поздно, когда нас откармливали до полной удовлетворенности розовыми сказками? Ты был с ними заодно. Ты давал ложные рекомендации! Ты лгал вместе с другими!» А мне не хотелось бы лгать вместе с другими. Потому-то в моих произведениях так мало решений, потому в них так много вопросов. Я знаю больше вопросов, чем ответов. Вот и все…»
Лишь за три недели до смерти он снял пальцы с клавиатуры. Когда покашливание перешло в кашель, а кашель – в непрерывный хрип. Когда он не мог больше прикоснуться к трубке, которую все-таки покуривал, несмотря на запрет врача, тайком, словно мальчишка, спрятавшись за курятник. На внутренней стороне подставки еще темнели кое-где табачные крошки.
Женщина лишь теперь обратила внимание на две белые клавиши, клавиши без букв. Муж однажды на скорую руку отремонтировал машинку и заменил сломанные клавиши белыми без букв, они нашлись в футляре с принадлежностями для чистки. Вскоре он прекрасно запомнил, где у него «к», а где «р» – недостающие буквы, так оно все и шло.
На целый удар сердца женщине вдруг почудилось, будто маленькая, с облупившимся лаком машинка искоса, настороженно смотрит на нее мертвыми белыми глазами. Потом она сердито отогнала эту мысль. Муж осудил бы ее за такую глупую аллегорию. Он не любил притянутых за уши сравнений.
Она поспешно нахлобучила крышку на усталый металл.
Но когда металлический язычок щелкнул в замке, ей почудилось, будто это захлопывается крышка гроба, будто она лишила маленькую машинку воздуха.
Женщина поспешила на кухню. Она поставила миски на добела выскобленный деревянный поднос, направилась в соседнюю комнату и опустила поднос на стол. Сын ждал, подперев голову кулаками.
– Мы с тобой отдадим папину машинку почистить и подремонтировать, – сказала женщина, спокойно снимая миски с подноса. – Она уснула, ее нужно как следует разбудить.
– Разбудить моими руками? – спросил сын, постукивая себя указательным пальцем по ключице.
– Твоими, – ответила женщина.
– И это пришло тебе в голову между первым и вторым? – спросил сын.
– Да, между первым и вторым, – ответила женщина.
Надо бы спросить
Энсен остановился возле банок с огурцами. Дома он не жаловал огурцы. Огородная колбаса, говорил отец всякий раз, когда огурцы подавались на стол, например к жареной картошке или, по воскресеньям, к гуляшу. И семья всякий раз охотно смеялась его шутке. Охотно, хотя и скупо, потому что шутка повторялась слишком часто.
Но теперь в магазинных огурцах ничего веселого не было, и пестрые этикетки не смягчали Энсена. Он думал: неуклюжие, бесформенные существа в рассоле из уксуса и бурого укропа, нудное ожидание, терпеливая давка за толстым стеклом.
«Я пришел сюда спереть что-нибудь, вот почему я вижу в огурцах за стеклом китов, миниатюрных ядовито-зеленых китов, – подумал Энсен с досадливой насмешкой над самим собой. – Фантазия может меня подвести. Недобрый знак. Надо бы мне держаться подальше от этой соблазнительной закуси».
С блестящей проволочной корзинкой Энсен продвинулся к другой пирамиде. Рыбные консервы. Заменитель семги. Розовые переливы под целлофановой упаковкой. Энсен отыскивал белые пятна в большой слабо натянутой сетке, сплетенной из траекторий возможных взглядов. Кроме Энсена, в магазине самообслуживания, чья ослепительная чистота и яркий свет напоминали операционную, было всего три человека. Дама, слишком старая для вызывающе белокурых волос, которые обрамляли ее увядшее лицо, рылась в объемистой корзине, наполненной тонкими, как письма, пакетами чулок. Мальчишка-подручный в белом халате и со множеством прыщей на воспаленном от насморка носу лениво собирал в лопнувший пакет рассыпанную чечевицу со дна ящика. Молодая девушка за кассой чистила ногти уголком железнодорожного билета.
«Надо взять что-нибудь маленькое, но чтобы в нем было как можно больше калорий, – подумал Энсен. – Маленькое, чтобы можно было засунуть под куртку, но достаточно питательное, чтобы я сумел продержаться до завтра. Завтра Шёттлер вернет мне три марки, которые я ему одолжил, а еще через три дня я получу деньги за то, что натаскивал феггенрайтерского недоумка по латыни.
Но до завтра мне нужна хоть какая-нибудь еда. Со вчерашнего дня только три кусочка хлеба да плавленый сырок. Если я не просижу ночь над семинарской работой по Клейсту, мне ее к сроку не написать. А если я буду такой же голодный, как вчера вечером, если в желудке будет такая пустота, которая словно присасывается к его стенкам, мне не выжать из себя ни строчки. Надо поесть, чтобы получить зачет. Этот сверкающий никелированный супермаркет не обеднеет из-за моего… из-за сделанного мной изъятия. У юристов на этот счет есть дурацкое выражение «кража для последующего употребления». Будто я собираюсь употреблять. Я просто есть хочу, и больше ничего. Хочу ввести в свой организм самую малость горючего, чтобы мозги продолжали функционировать. Вполне конкретная цель. Как там было зазывно написано над двустворчатой дверью, словно над входом в кино, – кричащие такие плакаты: «Цены на яблочный сок опять снижены!» Потребительская кооперация… Пайщики по-прежнему смогут потреблять, что им положено. Наверняка у них в уставе в каком-нибудь параграфе это предусмотрено. Естественная убыль. Да этого вообще никто не заметит. Кроме меня, никто не заметит, – подумал он дальше, останавливаясь перед пакетами с нарезанной колбасой, которые, словно черепица, лежали один на другом. – Разве что я, насколько я себя знаю, долго этого не забуду. Историю с кубарем я не мог забыть двадцать лет, да и сейчас не забыл. Когда в финкельштейновском магазине «Предметы домашнего обихода оптом и в розницу», покуда мать выбирала для нас цинковую ванну, я запихнул в карман желто-зелено-красный кубарь, мне казалось, что эта маленькая резная деревяшка прожжет дыру у меня в животе. И я не рискнул сунуть руку в этот огонь, чтобы достать игрушку и положить ее на прежнее место. Не бойся я выдать себя криком, я наверняка закричал бы. Мне оставалось только превозмочь мучительную боль и тихо семенить рядом с матерью, держась за ее руку в белой нитяной перчатке, которая вся запылилась, перещупав столько ванн.
Кубарь, словно злая собака, омрачил мои детские дни, я запрятал его глубоко под облупившимися фигурками заброшенного кукольного театра и трепетал, как бы его кто не обнаружил. О том, чтобы вынести его на асфальтированную улицу нашего поселка, не могло быть и речи. Каждый мог задать мне вопрос: откуда у тебя новая игрушка? И я верил до конца, правда, правда, до самого конца верил, что старый Финкельштейн непременно явится, стоит мне запустить кубарь специальным кнутом из ветки, с которой снята кора, и сапожных шнурков. А явившись, он возденет руку, молча укажет на меня, и тогда мой – нет, его, а не мой кубарь – отделится от других, опишет усталый полукруг и ляжет на бок. И все дети нашей улицы возденут свои кнуты, а все взрослые – плетки-треххвостки, а все возчики – свои длинные, злобно извивающиеся бичи, и меня ударами изгонят из нашего города, бесшумно – но тем больней.
Нет, нет, я так и не вынул этот кубарь из убежища в своем скромном, давно прогоревшем театре. Не вынул и тогда, когда несколько дней спустя по дороге в школу увидел, как бледный долговязый сын Финкельштейна заколачивает витрины шероховатыми досками, и когда после этого услышал в школе, что старого Якоба Финкельштейна увезли из города и его, может быть, уже нет в живых, потому что он обсчитывал многих покупателей.
Сперва я чуть не обрадовался, услышав эту новость, которую рассказывали шепотом, по секрету. Потом волна страха снова нахлынула на меня. Я подумал, что, может, именно моя хитрая кража нарушила четкую калькуляцию финкельштейновской торговли. Я был уверен, что именно мой проступок заставил старого добропорядочного Финкельштейна пойти на преступление, за которое его арестовали среди ночи, избили сильные, крепкие люди в черной форме, увезли в палаточный лагерь – для меня все лагеря были тогда палаточными – и предали позорной смерти. Лишь много спустя я понял, что имя человека, на чьей совести лежат муки и смерть старого Финкельштейна, – это вовсе не мое имя, а то, которое все бойко выкрикивают теперь вместо приветствия, задрав руку. Но к тому времени мы уже перебрались на другую улицу, а мой кукольный театр вместе с кубарем и прочим барахлом, которое осознаешь как барахло лишь по строгому счету переезда, были раздарены подрастающим соседским детям».
– Разрешите вам помочь? Вы, кажется, не можете найти то, что вам нужно. Матушка случайно не дала вам с собой список покупок?
Энсен вздрогнул, когда на него посыпались эти вопросы. Он увидел подле себя кассиршу, но теперь она не чистила ногти уголком билета, а глядела на него, склонив голову к плечу, и во взгляде ее читалось насмешливое превосходство женщины, наблюдающей, как неуклюже хозяйничает на кухне мужчина. В ее речи проглядывали бойкие интонации, присущие семнадцатилеткам, когда они сидят в молочном баре, потягивают что-нибудь через соломинку и демонстрируют друг перед другом свою осведомленность в житейских вопросах.
«Скажи что-нибудь», – внушал себе Энсен. И он сказал:
– У вас есть кубари?
– Ку-убари? – Девушка задумчиво сморщила носик. – А это… средство питания?
– Нет, нет, скорее средство существования, да, существования. Для меня, к примеру.
«Надеюсь, мне удастся наконец удрать с этой выставки продтоваров», – подумал Энсен.
Ему чудилось, будто под мышкой у него уже торчит банка рыбных консервов, как раз там, где в вестернах мужчины со свирепым взглядом прячут свои удалые кольты. Энсен так ясно ощутил прикосновение банки, что накрепко прижал к телу правую руку.
– Кубари? У нас есть «наполеон», есть «отелло» и еще сладости в этом же духе. А как они выглядят, ваши кубари?
– Кубари – это такие игрушки, – сказал Энсен. – Маленькие, пестрые, их можно запустить, и они будут долго крутиться, если только…
– Так это, наверно, юла? – спросила девушка.
– Нет, это кубарь, – сказал Энсен.
– Чего нет, того нет. Во всяком случае, здесь, в торговом зале. Но я могу позвонить на склад, если вам так нужно.
– Не стоит, – сказал Энсен.
– Жаль.
– Почему жаль? – спросил Энсен.
– Потому что я была бы рада помочь вам, – сказала девушка.
– Спасибо, – ответил Энсен. – А я был бы рад воспользоваться вашей помощью.
«Хорошо сказано», – подумал Энсен. Снова мимо него промаршировали банки с огурцами, и он очутился на улице. Тут ему пришло в голову, что он не сказал девушке «до свиданья». Он вернулся к стеклянной двери и в лабиринт тропок между продуктами выкрикнул свое «до свиданья». Выкрикнул, как собирался: четко и убедительно. А потом он подумал: может, это снова открыли лавку Финкельштейна? Те из семьи, кто остался в живых? Эх, надо бы спросить.
Иссоп через два «с»
Лицо Иссопа отличалось вызывающей четкостью резьбы. Резец господа бога нашего прошелся по нему с большим размахом. Так, в области носа он оставил куда больше строительного материала, чем требовалось, а затем отделил и подчеркнул эту область с помощью глубокой зарубки. Недобор в области подбородка с лихвой искупался размерами ушей, особенно правого. Рыжеватые волосы напоминали обтирочную ветошь, в них захлебнулась не одна атака, предпринятая гребешком матери.
Но Иссопу и в голову не приходило препираться со своим творцом из-за таких пустяков. Возможно, творец предусмотрел последующие усовершенствования. Возможно, ювелирная отделка только начинается через два-три года убогой земной жизни? И наконец, возможно, что человек, вооружась красками и наждачной бумагой, должен сам порадеть о более или менее удачных исправлениях своей внешности. Бывает и так, в чем Иссоп очень скоро мог убедиться.
Спору нет, умеренная резкость профиля приличествует лицам мужского пола – в принадлежности Иссопа к которому никто не усомнился бы даже и без разъяснений повивальной бабки – и даже красит их, но красит лишь по достижении того возраста, когда от природы присущая отдельному человеку страсть преследовать и убивать совпадает с мудрыми установлениями государства. Дитя же, покуда оно дитя, должно иметь носик пуговкой, прелестное личико и не обнаруживать сходства со старшим братом индейского вождя по имени Сидячий Бык. Словом, тот, кто, склонясь над коляской Иссопа, без зазрения совести уверял, будто мальчик чудо как мил, просто хорошо относился к его матери. И обрадованная мать убаюкивала сына и себя убеждением, что каждый первенец должен быть вот так же неладно скроен, дабы задачи продолжателя рода не утомили его раньше времени. Отец же понимающе улыбался, благо сам выглядел с фасада весьма внушительно и имел такую же зарубку на переносице. Одного не хватало отцу – изъянов в направлении взгляда, каковые очень скоро были обнаружены у Иссопа, когда тот разглядывал обезьянку, опередившую на подступах к нему остальной мир. Обезьянка эта, купленная в мелочной лавке Якоба за несколько пфеннигов, свисала с козырька высокой коляски Иссопа и приплясывала у него перед глазами. Глаза мальчика плясали вместе с обезьянкой, причем один из них плясал так лихо, что показывал куда больше белка, чем положено обыкновенному глазу. Короче говоря, Иссоп косил. Родители его поспешили устранить этот недостаток с помощью очков. И если требовались еще какие-нибудь дополнительные средства, чтобы стереть с лица Иссопа последние следы детскости, то лучшего, чем это устройство в стальной оправе, нечего было и желать. Существо, которое в те годы ковыляло от стула к стулу и даже совершало первые выходы во двор, напоминало скорее лягушонка, нежели тех цветущих младенцев, которые с пачек «Геркулеса» подбадривают улыбками охочих до замужества девушек и нерешительных холостяков.
Иссоп в тот период не пекся о своей внешности, он лишь глубокомысленно осознал, что отныне сидит, стоит и ходит в стеклянном доме. Будучи от природы склонен к размышлениям, этот маленький старичок пытался постичь удивительный факт: с одной стороны, он пребывал в мире, с другой же – был отделен от него стеклянной стеной. А постигнув это, больше ничего не принимал на веру. И пусть стальная оправа ограничивала поле его зрения, зато взгляд его тем упорнее концентрировался на предметах, которые благодаря линзам казались больше, чем на самом деле. Это пугало – при виде собаки, но и радовало – при виде кусочка мяса, ненароком попавшего на их обеденный стол.
Помимо всего прочего, очки надежно защищали голову. Надобно заметить, что мать Иссопа отличалась вспыльчивостью. Как только Иссоп вырос, вернее, дорос до края стола, она частенько награждала его затрещинами. Очки крепко сидели в зарубке на переносице. За уши, формой и размером напоминавшие молодые листья ревеня, столь же крепко держались стальные дужки. Тем не менее Иссопу удалось установить, что, если самую малость приспустить очки с переносицы, а силу удара слегка смягчить движением головы, очки летят через всю комнату. В этих случаях испуганная мать бросалась за ними, потому что очки стоят денег, деньги же у них в доме не водились, хотя отец был неустанно занят добыванием оных, рисуя плакаты, развозя хлеб, а зимой еще вдобавок подрабатывал продажей чая.
Словом, Иссопу не раз удавалось спасти голову благодаря фокусу с очками, голову, но, увы, не заднюю часть тела. Здесь не помогали ни движение головы, ни зарубка на переносице. Здесь было уместнее смирение, чтобы не разжигать без нужды материнский гнев. Что до отца, тот не любил платить за Иссоповы грехи в рассрочку, зато каждые полгода для восстановления порядка выписывал солидный банковский чек.
Следовательно, очки Иссопа могли выполнять свою защитную функцию лишь при определенных условиях. Он и сам в этом убедился после встречи с Буптеком, учительским сыном, своим соседом и ровесником. Внешность Хорста-Германа Буптека всецело отвечала тем представлениям, с какими люди, жаждущие усыновить ребенка, посещают детские дома. Он был бойкий и ласковый, у него были кудрявые волосы ослепительной белизны, а его красивые губки алели, как свежая рана.
Эти-то губки и изрыгнули на Иссопа первую брань, услышанную им в этом мире. Ибо Буптек, завидев Иссопа, которого отправили играть в песочек и который для этой цели весело нес перед собой две формочки, приветствовал его звучным, как фанфары, выкриком:
– Иссоп – укроп – остолоп.
Иссоп остановился, досконально продумал ситуацию и побагровел, смекнув, что это не приветствие, а оскорбление.
Тут надо заметить, что агрессивность в Иссопе была угрожающе недоразвита. Когда, например, мать давала ему мухобойку и посылала к окну в надежде избавиться от изрядного количества этих извергов, Иссоп уже за несколько шагов от мушиного сборища начинал кричать: «Кыш, кыш!» – и усиленно махал руками. Словом, хлопушке не оставалось ничего другого, как пройтись по чистым стеклам, хотя и это действие вызывало негодующее жужжание у опоздавших.
И уж конечно, перед лицом такого воинственного крикуна, каким был Хорст-Герман, наш Иссоп оказался совершенно беспомощным.
Буптек учуял слабость противника и усилил огонь насмешки:
– Иссоп Тоттенашке – коринка в какашке!
Тоттенашке – это была правда, Иссоп и не стал бы отрицать, что его фамилия Тоттенашке. Мать вдолбила ему это крепко-накрепко: «Тебя зовут Иссоп с двумя «с», а фамилия у тебя Тоттенашке с двумя «т».
Интересно, когда человека нарекают именем «Иссоп»?
Когда его матери так нравится ликер, настоянный на листьях иссопа, что, уезжая на медовый месяц, она прихватывает с собой бутылочку любимого напитка. До какой степени этот медовый месяц был связан с его появлением на свет, Иссоп не знал, как не знал он и того, что такое Hyssopus officinalis, упомянутое выше растение из семейства губоцветных, цветущее синими цветами.
– Меня зовут Иссоп с двумя «с» и Тоттенашке с двумя «т», – тихо ответил Иссоп и добавил, слегка возвысив голос: – А вовсе не коринка в какашке.
Иссоп знал, что такое коринка и что такое какашка – тоже.
Буптек помахал лопаткой над рыжеватой головой Иссопа и продолжал насмехаться.
– Иссоп с двумя «с» подох и облез.
Затем воткнул свое орудие в песок возле Иссоповых ног и приказал:
– Копай, холоп!
– Сам ты галоп!
– Ты хуже меня и должен делать, как я велю, – сказал Буптек.
– Ни капельки не хуже, – сказал Иссоп.
– А вот хуже, – сказал Буптек.
– Почему? – спросил Иссоп, который без раздумий согласился бы выполнить за Буптека любую работу, не вздумай тот осмеять его имя. Но Буптек недаром жадно внимал «народным» речам своего отца. Буптек настаивал.
– Почему? Да потому, что ты никуда не годишься. У тебя не светлые волосы.
– Рыжие лучше светлых, – отвечал Иссоп. При этом он ничего конкретного не думал. Будь его волосы зеленого цвета, он отдал бы предпочтение зеленым.
Теперь пришел черед задуматься Хорсту-Герману Буптеку. Он думал, думал и сказал:
– Я спрошу отца. Он все знает, и еще у него есть много новых книжек.
Иссоп устыдился. В их хозяйстве книг не водилось, ни старых, ни новых. Наконец через несколько ударов испуганного сердца Иссопу вспомнился спасительный кладезь духа, из которого могла черпать также и его семья.
И Иссоп пошел с козыря.
– А мой отец тоже все знает. Мы получаем «Сан-Лео-Блатт».
Красноречивая, насыщенная грозовым электричеством тишина вторглась между мальчиками. Иссоп сказал то, что надлежало сказать. В этой газете печатались анекдоты, радиопрограмма и всякие божественные притчи. Тягаться с такой универсальностью было непросто хотя бы и сыну учителя. Действительно, Буптек только и смог сказать:
– Чокнутый, как Чокке.
После чего Буптекова лопатка обрушилась на Иссопов нос, лоб и очки.
Молния рассекла мир, и побеги ее одновременно ударили в небо и в песочницу. Заводские трубы на горизонте раздробились на множество частиц, цветочная клумба переместилась на развешенное для просушки белье, ослепительно белое зарево вспыхнуло вокруг беседки, черноволосый ангел, взмахивая распростертыми крылами, перелетел через курятник, держа курс на Иссопа, а Иссоп, который вдобавок ко всему слышал дивное звучание шарманки и контрабаса, с радостной улыбкой взирал на преображенный мир. Ведь без сноровки трудно разглядеть четырьмя десятками глаз, что делается вокруг тебя. Вот он и стоял, зачарованный фантастическими картинами расколотой действительности.
Стоял, пока не ощутил вкус крови. Пока чья-то рука не сняла с его глаз разбитые очки. Пока черноволосый ангел, оказавшийся при ближайшем рассмотрении матерью Хорста-Германа Буптека в цветастом халате, не возопил:
– О боже, о боже, Хорсти сделал тебе больно, да?
Этот ненужный вопрос разбудил боль, накопившуюся в сознании Иссопа. На считанную долю секунды его охватил гнев, и он был уже готов запустить в Хорста-Германа свои формочки. Но учительский сын сумел использовать краткосрочный период мечтательности пострадавшего, чтобы спастись бегством, и тем лишил Иссопа возможности отомстить незамедлительно. Поэтому избитый решил уронить формочки, экономно – чтобы надольше хватило – зареветь и побежать домой. Рядом семенила цветастая и растрепанная мать Буптека. В правой руке она держала причудливо изогнутую оправу. Отец Иссопа мрачно встретил своего подпорченного первенца. На произнесенные нежным шепотом извинения учительши он только кивнул. Иссоп приглушил свой рев, чтобы послушать, о чем у них пойдет речь.
– Ах, какое счастье, что не в глаз. Муж, конечно, конечно же, откупит вам очки и накажет Хорста. Слава богу, с огрублением молодежи теперь покончено. Начинается новое время. И хайль Гитлер.
– До свиданья, – ответил старший Тоттенашке и, когда халат скрылся за дверью, добавил еще: – Чокнутый, как Чокке.
Затем он взглянул на сына, и во взгляде его смешались презрение и печаль. Мать же тем временем пыталась унять кровь, текущую у Иссопа из носа.
Чтобы больше не чувствовать на себе взгляда отца, Иссоп, покуда мать колдовала над ним, закрыл глаза и ушел в размышления. Один вопрос тянул за собой другой. Почему Хорст-Герман Буптек так внезапно обрушил свою лопатку на голову Иссопа? Почему взрослые вечно талдычат о новом времени? Почему некоторые из них говорят «хайлитлер»? Что означает «чокнутый, как Чокке»? Не открывая глаз, Иссоп спросил:
– А кто такой Чокке?
– Да так, один тип, вроде тебя! – горячо отозвался отец. – Выдумщик! Его знает вся улица. Он служит в какой-то газете! Ну да, в «Вестфаленботе». Он пишет стихи, где утверждает, будто деревья говорят фиолетовым языком, а из ветра делают скалы. Чокке, он малость не того, понимаешь? Когда дождь, он идет гулять, когда зима, он едет на взморье.
– Он добрый и многим помогает, – вмешалась мать.
– Но слишком мягкий, – сказал отец и растянул слово «мягкий», как свекольную ботву. – Если ты и впредь будешь продолжать в том же духе, из тебя вырастет такая же размазня. Ты должен был этому Буптеку поддать как следует – снизу вверх.








