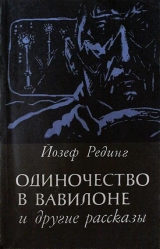
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Учебная тревога
Клайбер неуверенно продирался через чердачный люк. Его ладони попадали в жирную пыль, слева и справа.
Человек пятидесяти лет, он не без труда прижал колени к солидному животу и подтянул их до края люка. Ржавое железо больно царапало по ногам. Наконец Клайбер оказался на крыше. Он снял тяжелые башмаки и через открытый люк бросил их на чердак.
Потом он взглянул на конек крыши.
Две замшелые трубы. Из одной шел дым, раздираясь на полосы в частоколе телевизионных антенн. А на фоне выцветшего неба громоздился приплюснутый богатырский шлем на гнутой подставке – сирена, она самая.
Боком, боком по горбатым черепицам Клайбер взбирался на конек крыши. Сквозь нейлоновые носки он чувствовал засохшую грязь и царапучие края пузырей, лопнувших на темной черепице. Ступни охватывали все ее выступы.
Раструб сирены приближался. Неуклюжий стальной шлем рос на глазах. Теперь Клайбер уже мог опереться о край стены. И снова его руки встретили липкий слой жирной сажи. Там, где он разгребал не затвердевший еще слой, открывался новый – спекшаяся, насквозь проржавленная корка. Подо всем этим был серо-черный налет, но Клайбера он не смущал. Он стал приметой города. Его города, с домами, что лепились вокруг умирающих шахт, как лепились они некогда под защиту крепостной стены замка.
Из карманов латаного халата Клайбер достал небольшой молоток, две тряпки и баночку с тавотом. Испытующе простукал тело сирены. Сирена отвечала ровным звоном в любом месте. Тогда Клайбер присел на корточки и исподнизу перехватил тряпкой зубчатые колеса. Он протирал один зубец за другим и так осторожно распределял мазь по внутренней поверхности, словно обрабатывал рану.
– Клайбе-ер!
Кто-то выкрикнул его имя таким требовательным тоном, что Клайбер резко повернулся на крик. При этом он пяткой столкнул молоток. Стальной брусок запрыгал вниз по черепицам. Клайбер пытался изловить ускользающий инструмент, но от резкого движения потерял равновесие и заплясал на одной ноге, будто клоун, передразнивающий балерину. Не удержавшись, больно ударился коленом о черепицу возле самого конька. Тонкая обожженная глина рассыпалась от удара на множество кусков.
В падении Клайбер ухватился за стальную мачту сирены. Рука у него дрожала. И задрожала еще сильней, когда Клайбер вторично дотянулся до конька крыши.
Некоторое время он лежал на животе, хотя закругленный каменный гребень больно давил его в живот и в грудь, стесняя дыхание. Упираясь подбородком в конек, Клайбер заметил, что гребень его дома делит мир пополам. С одной стороны два чудища протискивались мимо друг друга по серому асфальтовому ковру, узкому и прямому, до самого горизонта. На другой стороне царило хаотическое смешение: проволочная сетка и бетон, толь и штакетник, огражденные участки земли и неуемное буйство красок, крольчатники, гаражи, голубятни, клумбы садоводов-любителей, окаймленные бутылками, курятники, сараюшки. И на крохотном пятачке среди этой вакханалии форм и красок накануне выходного дня он увидел Эзеде. Своего соседа.
– Клайбер! – еще раз крикнул Эзеде. Строгим голосом. – Клайбер! Незачем от усердия выпрыгивать из штанов, едва тебя окликнут. Мы с тобой не в школе.
Эзеде не стоял. Эзеде висел. Края потемневших от пота подушек на его костылях узкой полоской выглядывали из-под мышек. Бесформенное тело Эзеде болталось, будто стокилограммовый мешок на тонких подпорках. Эзеде об одной ноге и с половинкой ступни – так он иногда рекомендовался. С сумрачной усмешкой. В шахматном клубе или на конкурсе садоводов-любителей на лучшую беседку.
– Клайбер! – кричал Эзеде. – Ты чего там делаешь?
Вопрос был задан просто, но веско, и Клайбер решил не уклоняться. Он сел верхом на гребень, хотел снисходительно улыбнуться, но улыбки не получилось. Даже ухмылки – и той нет. И потому ответ прозвучал с неподвижного лица.
– Выслушал нашу старую реву-корову. Эта барышня с черным колпаком оттрубила не меньше тридцати годочков.
– А почему ты именно сегодня за нее взялся? – кричал Эзеде. – Для удовольствия?
– Нет, Эзеде, конечно, не для удовольствия. Через несколько минут будет учебная тревога. Ровно в половине. Сестры этой дамы тоже заведут свою песню. Все сирены города. И я не желаю, чтобы именно в нашем квартале она визжала как зарезанная, а то и вовсе промолчала, когда начнется главная ария. Теперь ты понял? Я, можно сказать, при ней вроде… вроде импресионарио. Или как это там называется?..
– Импресарио! – крикнул Эзеде, но голос у него не смягчился. – Но ты скорей смотритель или надсмотрщик… как и раньше. Ну почему ты опять за это взялся?
– Кто-то же должен! – выкрикнул Клайбер. Яростно выкрикнул.
Между тем громкий обмен репликами начал собирать публику. Ребятишки, остановив свои волчки, переводили взгляд с человека внизу на человека наверху. Дородная женщина в саду перестала копать и навалилась всем телом на рукоятку лопаты. Молодая пара, выйдя из машины, не проследовала в дом, а задержалась на улице, привлеченная диалогом Эзеде – Клайбер. Собравшиеся воспринимали его отчасти как развлечение, отчасти как нечто серьезное.
– Кто-то же должен?! – Эзеде переиначил ответ Клайбера, сделал из него укоризненный вопрос. – Кто-то? И этот кто-то обязательно должен быть ты! Ты, Клайбер! Помнишь, как тогда в школе? Ты выписывал на доске наши имена, имена тех, кто разговаривал, когда учитель отлучался из класса. Скажешь, кто-то был должен? Нет, кто-то был готов! Добровольно! Чтоб был порядок! Все равно какой порядок, Клайбер всегда в первых рядах!
Клайбер почувствовал, что краснеет. «Зеваки тоже заметят, что я краснею, – подумалось ему. – Нет, они слишком далеко стоят. Чего это Эзеде ударило в голову! Какого дьявола он выкапывает старые истории из школьных времен? Их уже никто и не помнит. И школу имени кронпринца переименовали, еще когда Эзеде был в лагере. А сейчас ее и вообще нет. Сейчас на ее месте стоит универсальный магазин, по которому бегает с проволочной корзинкой дочка Эзеде, и дочка та уже давно замужем. К чему вся перекличка между двором и крышей? Надо кончать».
– А теперь, Эзеде, не мешай мне работать, – бросил Клайбер в глубину застроенного двора. – Ты же видишь, я нахожусь при исполнении служебных обязанностей.
– Обязанностей? – переспросил Эзеде.
– Да, обязанностей! – отвечал Клайбер и даже закивал. Цепляясь за раструб сирены, он снова встал во весь рост. – Обязанностей! У меня их, между прочим, целая куча.
Эзеде раскатисто засмеялся. Засмеялся горько. Засмеялся ехидно. Люди во дворе смотрели теперь только на Эзеде, на его искривленный рот, который воссылал вымученный смех к человеку на крыше.
– Обязанностей! – кричал Эзеде. – У людей вроде тебя вечно есть обязанности. И у тех, кто изуродовал мои ноги, когда я сидел за колючей проволокой, через которую шел ток, у них ведь тоже были обязанности. И форма у них была такая же, как у тебя, когда ты из простого надзирателя за классом и за сиреной стал надзирателем за целой улицей, а может, и еще кем-нибудь похлеще. Вот и сейчас тебе снова приспичило надзирать. Сегодня – за сиреной, с тавотом и молоточком, а завтра… Эй, Клайбер, что ты собираешься делать завтра?
«Надо отвлечь его! – подумал Клайбер. – Надо отвлечь и спуститься с крыши. Не то Эзеде опять заведется. Испортил он себе нервы в лагере. Но не я его туда засадил. У меня были другие дела, кроме как слушать его брюзжание. Эзеде гонял где вздумается и вел подстрекательские разговоры, а у меня зимой чуть руки не примерзали к кружке для пожертвований. А зачем? Да затем, чтобы пара-другая горемык на нашей улице получала ежедневно хоть немножечко угля, хоть малость еды в пустой желудок. И вот теперь мне этим тычут в морду! До сих пор! Хотя мы уже дедушки по возрасту. Один пожилой человек попрекает другого пожилого человека такими старыми делами. Гадость какая! Но его надо отвлечь».
– Хеннес! – закричал Клайбер. Не Эзеде, а именно Хеннес. Приветливым тоном. Тоном, который должен успокаивать. – Хеннес, я сейчас кончу, потом спущусь, мы заглянем на уголок, закажем себе по бутылочке пива и по стопке беленького и про все спокойно перетолкуем. Про то, как было вчера и как есть сегодня. А если хочешь, и про завтра тоже. Ну, ступай. Я мигом приду, вот только кончится эта безобидная затея…
– Безобидная? – Эзеде швырнул это слово наверх. – Безобидная? Ты будешь докладывать о готовности? А послезавтра откуда ни возьмись заявится какой-нибудь босс и спросит, все ли в порядке. Огнеметы в порядке? – спросит он. И кто-нибудь гордо отчеканит: в порядке, босс. А ракеты? В порядке! И чьи-то пальцы лягут на спусковые крючки, на синие клавиши и красные кнопки, а глаза глянут сквозь оптический прицел. В порядке! Ну а сирена? Твоя сирена, Клайбер. И Клайбер ответит: моя сирена в порядке. И босс возликует, и энергично потрет себе руки, и скажет: ну, Клайбер, тогда можно начинать. И тогда начнется, Клайбер, начнется, понимаешь?
Эзеде больше не кричал. Последние фразы он выговаривал почти шепотом. Страдание лишило его слова резкости. Зрители опустили глаза в землю. Потом молодая женщина, стоявшая перед синим автомобильчиком, схватила мужа за рукав и кивнула головой в сторону двери. Толстуха в саду ногой и всем телом равнодушно нажала на черенок лопаты и вогнала ее в рассыпчатую, сухую землю. Дети снова принялись накачивать свою юлу. При вращении пестрые жестяные барабанчики издавали высокий и ломкий звук.
Потом звук окреп, стал не такой ломкий, набрал злобную силу, взвился над городом, хлеща усталые крыши с такой силой, что старики под крышами вздрагивали и бледнели, а дети пугливо поглядывали на стариков.
Оказавшись в эпицентре воя, Клайбер внезапно оглох и не сразу понял, в чем дело, лишь содрогание старого металла под руками возвестило ему о начале учебной тревоги.
Потом Клайбер увидел во дворе вздрагивающее тело Эзеде. Крик и обрывки слов, вырывающиеся из его рта, перекрывал вой сирены. В беззвучной судорожной пляске Эзеде размахивал костылями, что-то крича Клайберу. И Клайбер съежился, словно под дулом взведенного карабина.
Наконец Эзеде бессильно привалился спиной к штакетнику, но тело его продолжало извиваться и дергаться, словно в припадке падучей. Лишь его лицо, обращенное наверх, оставалось неподвижным.
– Перестаньте! – с трудом выговорил Клайбер. И еще раз: – Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! – Он рассылал свой призыв во все стороны: улице, двору, Эзеде, бесцветному небу. И барабанил кулаками по шлему воющей сирены. – Перестаньте!
Нет, не перестало.
Промежуточный час
Тимс терпеть не мог те блеклые пузырчатые ковры из мыльного раствора, которыми, подергиваясь, выстилают пол проволочные щетки. Замерзшие до синевы ноги продавщиц в тонких чулочках и резиновых сапогах выплясывали то нервически, то неуклюже, то красиво, то забавно вокруг желтых и зеленых пластиковых ведер. Серый раствор со светлыми тягучими подтеками расползался по зернистым каменным квадратам.
Теперь мыльный шлейф доплыл до края тротуара. Передовые отряды чистоты, мечтая о вечернем отдыхе и орудуя своим едким скребучим оружием, пробились под приспущенными решетками к исходным рубежам. Хмурая улыбка на молодых лицах: прикрытию удалось отбить натиск трудовых буден. Сегодня раньше обычного. Сегодня уже в три. Потом два выходных дня и рождественская программа – с Дитером, а когда лавочка откроется снова, так тоже спешить не надо. Приходят обменять покупку. Купить соль или горчицу для сосисок к новогоднему столу. Усталая улыбка становится ярче: ведь ко всему еще и Новый год скоро.
Тимс остановился. Еще мелькали халатики в глубине магазина между кассой, прилавком и горкой проволочных корзин. Но вот уже первые магазины начали засыпать: желтые веки железных штор опускались все ниже и ниже на запотевшие глаза витрин.
«Сейчас наступит тишина», – подумал Тимс, и судорога свела у него кожу на затылке, словно он ожидал сзади удара по шее. Тимса знобило. У него были башмаки на подкладке, теплые кальсоны, и варежки, и толстая куртка, и наушники в черную и красную клетку, и лыжная шапочка с пристегнутым козырьком. Но Тимса знобило.
Снова начинается. Пройти по этой безмолвной улице – как пройти сквозь строй. Проклятая ничейная земля между шумом трудового дня и гулом вечерних развлечений. Между буднями и праздником. Всякий раз пытка. Которую всякий раз трудно вынести. А раз в году просто невозможно. Сегодня. В сочельник. Один отрезок жизни уже кончился, другой еще не начался. Между ними трещиной тишина. Тишина, как тогда…
Тимс решил идти дальше. Но ему так страстно хотелось услышать голоса, что он не рискнул сделать ни шагу. Он даже поднял наушники. Но лишь холод проник в узловатые раковины. Тихий холод. Тимс нерешительно двинулся дальше. Под его кожаными башмаками, под светло-коричневыми праздничными башмаками поскрипывало ледяное дыхание, поднимавшееся от лужиц мыльной воды перед магазинами. Неподалеку, на крыше дома напротив, трепыхался голубь. Подмерзший наст мешал ему нырнуть в голубятню. С телевизионной антенны возле слухового окна сорвалась сосулька в палец толщиной. Высоко звеня, она запрыгала по подоконникам и раскололась о волнистую серую облицовку одного из балконов. Тимс испугался. Вот он, мой шум. Напоминающий о гаечных ключах. О щипцах, детонаторах и канюлях с кислотой. Словно ходишь вокруг неразорвавшейся бомбы, которую надо разрядить. Позвякивание, страшное самому себе. И больше ни звука. Ни звука, как и теперь по дороге к «обогревательному павильончику» возле спущенного на зиму бассейна. К павильончику, который зимой отапливается чугунной печкой за счет города. Кормят эту печку смесью из кокса и угля. Чтоб инвалиды не мерзли. Поэтому в каждом районе должна быть сооружена такая забегаловка. Возле бассейна. В будке паркового сторожа, который в купальный сезон караулит немножко велосипедов, множество мопедов и еще больше мотоциклов и автомашин. «Снова открыт обогревательный пункт» – так стояло в местной газете. «Дедушка, ты можешь снова ходить в свою инвалидную забегаловку» – так говорили соседские дети.
Тимсу и дома было не холодно. Две комнаты, несколько секций центрального отопления. Пенсия Тимса делала его желанным квартиросъемщиком. Комнаты в новом доме. Шесть шагов на пять. Плюс все, что может понадо…
Старик вздрогнул. Наконец-то. Наконец-то снова голоса. Один из них принадлежал рослой женщине в пальто из искусственной кожи, затянутом под грудью широким поясом. В руках женщина держала большой игрушечный танк. Другая тоже вымахала в длину. Но эта поверх платья надела только синий халатик с красными бабочками, а на ноги – домашние туфли. Под мышкой у нее был зажат батон в папиросной бумаге, концы его равнодушно глядели в разные стороны пустынной улицы. Женщина с батоном переступала с ноги на ногу. Ей хотелось уйти, но женщина с танком ее не отпускала.
– Муж просто-напросто меня выгнал, когда я распаковала эту штуку. Как зарычит на меня: унеси, мол. Не желаю, говорит, чтобы под моей крышей поселилась такая штуковина. Но Ганс-Юрген так просил подарить ему танк, это я мужу говорю. И чтобы башня у него крутилась, и чтобы пушка плевалась огнем. Ганс-Юрген даже записал свое пожелание на бумажку. Без единой ошибки. А муж и говорит: я, говорит, на эту самую бумажку огнем наплюю, и тоже без единой ошибки! Так расходился, так расходился. Танки в комнате?! Ты хоть раз видела настоящий танк? Вблизи, когда он на тебя громыхает? Ты ляг на коврик, и пусть он поездит мимо твоего носа и пусть осыплет твою вывеску искрами. Получишь хоть отдаленное представление. Нет, к чертям эту мерзость! Она ведь и расти может. Если ее хорошенько кормить, она вырастет совсем большая-пребольшая. Понимаешь, Ирмтрауд! Большая-пребольшая, и переедет нашего мальчика, да и нас с тобой раскатает в лепешку. Ну что вы на это скажете, фрау Бадер? Муж у меня малость спятил. Как это кучка жести вдруг начнет расти? Но он все пуще горячился, потом выхватил у меня танк и хотел вышвырнуть его из окна. Я тут не выдержала и как закричу: восемнадцать пятьдесят! Час от часу не легче! – застонал муж, потом сунул мне танк в руки и тихо так сказал: обменять, Ирмтрауд. Обменять. Всего бы лучше – на толстый словарь немецко-английско-французско-русский или еще какой. Такая жестянка, которая огнем плюется, она против всего на свете, а словарь – он за, понимаешь? Тут он вытолкал меня на улицу. А магазин уже закрыт. Куда мне теперь девать этот танк и где взять словарь, фрау Бадер? Я просто боюсь возвращаться домой. Старик испортил мне все удовольствие от рождества.
Вдогонку за последними словами женщина послала всхлипывание и вместе с танком поднесла к глазам платок. Но тут женщина с батоном рванулась прочь. Лишь отбежав на несколько шагов, она крикнула:
– Елку-то я еще не наряжала. А вы спокойно возвращайтесь домой, танк куда-нибудь припрячьте на праздники, лишь бы он не увидел. В чуланчик куда-нибудь. Туда мужчины редко заглядывают. Счастливого рожде…
Тут женщина с батоном увидела Тимса. И та, которая с танком, тоже. Обе снова сбежались, подтолкнули друг друга и, не говоря ни слова, уставились на Тимса.
Тимс прошел мимо. До того он стоял. Голоса его успокаивали. Вдобавок ему понравился сердитый муж, которого он хоть и не знал, но живо себе представил вот таким: кряжистый, добродушный, не дурак выпить пива по вечерам, враг болтовни и о детях заботливый. «Теперь надо идти, – подумал Тимс. – Вон как женщины уставились».
– Добрый вечер и счастливого праздника, – сказал Тимс, теребя свою лыжную шапочку.
Ответ женщин заставил себя ждать. Он догнал Тимса сзади.
– Вам также, господин Тимс.
– Ну и перепугалась же я, когда увидела, что передо мной стоит человек. Словно столб на краю тротуара. Вы его вроде знаете, фрау Бадер? Вы вроде сказали «Тимс»?
– Да, Тимс, – ответила женщина с батоном и поглядела вслед человеку, который уходил в голую теснину улицы. На перекрестке бесполезно мигали сигналы светофора. Однако Тимс повиновался этим приказам без адреса.
– Чего это он здесь шатается? – спросила женщина с танком. – А с виду вполне приличный.
– Он, знаете, малость не в себе. Немного он чокнутый, понимаете? – Женщина покачала приставленной ко лбу рукой.
– Да ну? – спросила вторая, округлив глаза.
– Мне муж про него рассказывал. Тимс воевал еще в первую мировую, молоденький он тогда был, не то сапером, не то фейерверкером, как это называется. Он там имел дело со снарядами, которые, знаете…
– Не взорвались? – спросила другая.
– Да, вроде этого. А когда наци пришли к власти, Тимс вроде бы распространял против них листовки и проводил какие-то собрания. Это всплыло наружу в начале последней войны. Его ночью забрали. И осудили за подрывную деятельность. Приговорили к смерти.
– К смерти?
– Потом заменили на пожизненное заключение, потому что он был ранен в первую мировую и получил Железный крест. А когда начались налеты, ему предложили обезвреживать неразорвавшиеся бомбы. За каждую минус три года из срока.
– Но ведь если пожизненно?..
– Пожизненно – это у них считалось шестьдесят лет. Вот разрядишь двадцать таких штук, и пожалуйте на свободу. Двадцать бомб и мин, за которые не берутся обычные команды подрывников.
– И Тимс согласился?
– Согласился, когда узнал, что его единственный сын погиб на фронте. Жена еще раньше умерла, почти сразу, как забрали Тимса. Должно быть, с горя. Тогда-то Тимс и взялся за бомбы. И разрядил восемнадцать штук. Потом война кончилась. Тимс вышел на свободу, ему назначили хорошую пенсию. Словом, все в порядке. Хотя нет, не все. Многое пошло у него наперекосяк. Со времени этих самых бомб Тимс не переносит тишины. Как только все затихнет, ему становится жутко. Когда кругом тихо, старик думает, что вот теперь люди попрятались и ему опять надо ковырять притаившуюся бомбу. Потому что в таких случаях он всегда оставался один. Остальные, бывало, попрячутся за насыпями и стенами, а охранник следит за ним в бинокль. Когда Тимс слышит человеческие голоса, он чувствует себя в безопасности и опять человек как человек. Но когда тихо… Ему уже подарили от города приемник. Но что в том проку. Иногда у него даже не хватает духу повернуть рукоятку. Ему порой кажется, что это какой-нибудь винт на бомбе.
– Да ну?!
– И Тимс частенько гоняет вот так по улице, чтобы услышать человеческие голоса. А сегодня под праздник на улице никого нет. Вот он и ищет, вот он и ищет.
Женщины покачали головой. За разговором они забыли и про холод, и про танк, и про батон. Они глядели вслед Тимсу, который успел уже отойти на значительное расстояние, и увидели, как к Тимсу подошел ребенок. Женщины обрадовались, торопливо кивнули друг другу и разбежались в разные стороны.
Шейные мускулы у Тимса блаженно расслабились, когда мальчик с ним заговорил.
– Дядя, где здесь почта? – спросил он. – Мне нужно скорей отправить письмо. Заказное, срочное. Мама совсем забыла сделать подарок бабушке. Теперь она посылает ей письмо, в письме поздравительная открытка и десять… и еще чего-нибудь.
Тимс наслаждался звуками детского чуть приглушенного голоса. Заминка развеселила его. Маленький дурачок, хотел сказать «десять марок», а потом спохватился, что дома ему строго-настрого наказали: никому ни звука про деньги. Не то еще отберут.
– Почта на Боргхагенштрассе, – сказал Тимс, – но, может, там уже закрыто. Давай сходим, посмотрим. Это слева от мясной лавки. Нам все равно по пути.
– Спасибо, дядечка, но я спешу. До свиданья.
Тимс испугался. Мальчик ускорил шаги. А Тимс так рассчитывал на его общество! Он не захотел расставаться с мальчиком и побежал за ним.
Мальчик бросил через плечо сердитый взгляд на трусившего рядом человека и припустил изо всех сил.
Тимс запыхался, отстал, хватая губами воздух. Дыхание серыми раздерганными облачками вырывалось из его перекошенного рта.
– Мальчик! – прохрипел Тимс. – Мальчик! Я тебе ничего не…
Но малыш даже не оглянулся. Перепуганным зайчишкой скакал он по тротуару.
Тимс привалился к стене и утер пот с разгоряченного лица. Снопы искр проносились перед его глазами и с ужасающей медлительностью падали вниз. Тимсу пришлось уцепиться за грязный шов между кирпичами. Частицы цемента забивались под ногти, впивались в мякоть подушечек.
Наконец старик ощутил в себе достаточно сил, чтобы отклеиться от стены. Осторожно и неуверенно он побрел дальше.
«Может, хоть одна живая душа сидит в забегаловке, – думалось ему. – Больше мне и не надо. Пусть хоть Питер Забровский, из которого каждое слово надо вытягивать клещами. Или хоть Курт Лейчер с заячьей губой».
А Курт Лейчер с заячьей губой выглядывал в маленькое оконце «обогревательного павильона». На улице пока никого не было. По сухому дну бездействующего бассейна играли в догонялки опавшие листья.
Лейчер оглянулся. Кто-то бросил совок угля в чугунную печку. Когда куски угля перестали стучать по решетке, Лейчер сказал:
– Ребята, вам все ясно? Трепаться, едва он войдет. Дискутировать. По мне, хоть на тему, какого качества в этом году были жеребята, хуже или лучше прошлогоднего. Поздороваться небрежно. Главное – не бросаться к нему с распростертыми объятиями. Мы не любим, когда нас жалеют. Мы не любим, и Тимс тоже. Ясно?
– Ясно! – отозвались остальные, и Лейчер снова занял свой наблюдательный пост.
Приближаясь к павильону, Тимс был страшно удивлен. «Да их там по меньшей мере добрая дюжина, – подумал он. – А шуму – как на футболе. До чего ж мы, старье, сдружились, коли даже в сочельник не можем обойтись друг без друга. И без нашей старой развалюхи».
Тимс распахнул двери павильона.
– …мука должна быть высшего сорта, уж можете мне поверить! А глиняная трубка по меньшей мере в два раза длинней твоего указательного пальца, не то ты от дыма не продохнешь…
– Нет, только изюм! Без изюма нечего и за дело браться.
– Господи, да катись ты со своим изюмом! Нашел о чем заботиться…
Из угла доносились крики, то громче, то тише. Мало того, грохотала кочерга и башмаки по кускам угля.
Тимс не сразу огляделся в дымном полумраке, а когда огляделся, увидел троих, сразу троих, включая Лейчера, который как заведенный выкрикивал: «Ревень, ревень, ревень!» – и почти с яростью шуровал кочергой в раскаленной печи.
– Ах, Тимс, вот молодец, что пришел! – сказал Лейчер, не отрывая взгляда от топки.
Тимс ухмыльнулся.
– Ну и хитрюги, – промолвил он. И по тому, как он произнес это слово «хитрюги», остальные поняли, что Тимс рад-радехонек. Потом Тимс подошел к печке. – Но ведь каждый вечер вы не сумеете устраивать для меня такое представление, – докончил он, обращаясь к Лейчеру.
– Не сумеем, – отозвался Лейчер, – это ты точно. Но, может статься, в другой раз мы сумеем придумать что-нибудь другое.








