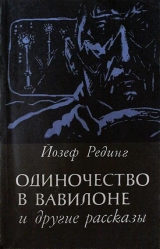
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Триста кубиков крови
«Повторный курс для актеров без ангажемента. Часть IV. Нетленное призвание мима. Ведет профессор Турра». Вот что было написано заковыристыми буквами на белом куске картона, прикрепленном к двери. А за дверью…
– Итак, господа, в вас должен вибрировать каждый нерв, вскипать каждая капля крови при мысли о тех задачах, которые встанут перед вами пусть не сегодня, пусть в ближайшем будущем. О эта столь часто поминаемая кровь артиста! Не расточайте ее, столкнувшись с преходящими затруднениями, в балаганах и низкопробных кабаре! Берегите эту творческую субстанцию в ожидании великого часа! Помните одно: истинная творческая потенция, кровь искусства, не имеет цены. Quod erat demonstrandum! [9]9
Что и требовалось доказать (лат.).
[Закрыть]
Сосущий звук был прерван звяканьем. Резиновый жгут, сжавший руку молодого человека, ослабил хватку. На мгновение подкатила не очень сильная боль: крохотную ранку под иглой смазали йодом. Сверху пластырь. Кровать, стоявшая рядом, отъехала почти бесшумно.
– Все в порядке, – сказал дурно выбритый врач своему ассистенту. – По-моему, переливание прошло удачно. – И, бросив взгляд в тронутое синевой лицо молодого человека, докончил. – А вы можете сразу же идти в кассу, господин, господин…
– Бренкен.
– Ах да, господин Бренкен.
Когда молодой человек сунул карточку в окошко кассы, сестра едва заметно кивнула.
– Вы господин Бренкен, актер без ангажемента. Вторая группа крови, так?
– Так.
– Вы сдали триста кубиков. Распишитесь, пожалуйста. Вам причитается двадцать пять марок. Десять, двадцать, двадцать пять. Верно?
Прошло несколько мгновений, прежде чем раздвинулась черная пелена, уже несколько минут висевшая перед глазами молодого человека.
– Не знаю, – ответил он.
– То есть как?
– Я не знаю, – повторил он.
– Чего не знаете? Триста кубиков крови стоят ровно двадцать пять марок. Вот, пожалуйста, две десятки, одна пятерка. Теперь вы видите, что мы заплатили вам за кровь до последнего пфеннига?
– Да, вероятно, вы правы. Триста кубиков – это двадцать пять марок. Все сходится, точно сходится, – сказал молодой человек и негромко хохотнул.
Молодая дама в иссиня-белом сестринском облачении не поняла, к чему относится этот смех. И окошко решительно захлопнулось.
Молодой человек медленно, неверными шагами вышел на улицу. Он засмеялся еще раз, и смех его был таким же бескровным, как все в нем – мозг, руки, ноги, губы.
Сестра, почему ты плачешь?
– А теперь пусть я буду кладоискатель, – сказал мальчик с тремя перьями в волосах.
– Да, теперь ты будешь кладоискателем! – хором воскликнули девочки, которые только что были «скво» при самом храбром вожде.
Мальчик взял лопату и отправился на луг к змеиному гнезду, где ребята в прошлом году видели чету веретениц. Он решительно вонзил лопату в упругий дерн. Капельки пота заблестели вскоре у него на лбу, под ясными глазами и на крыльях носа. Мальчик отсекал и вынимал неправильные куски дерна. Теперь ржаво-красная лопата проникла во влажную черную глубину. Девочки сели на траву чуть поодаль, плели венки из одуванчиков и отрывались от своего занятия, лишь если мальчик переставал копать и вытирал пот со лба.
Время шло. Когда капустница, описав над мальчиком круг, взмыла к переливчатому небу, маленький кладоискатель уже погрузился в черную яму до пояса своих коротких штанишек. Теперь и девочки увидели: под лопатой обозначились очертания какого-то предмета. И что-то блеснуло серебром.
Залитое потом лицо радостно обернулось к девочкам.
– Видите? – спросил малыш с гордостью.
– О-о! – восторженно выдохнули девочки и тоже спрыгнули в яму. – Но тебе не полагается разговаривать! – испуганно воскликнули они.
– Угу, – согласился мальчик и снова налег на лопату.
Его не удивило, что земля под лопатой вдруг взвыла, словно от боли, и что вокруг него и в нем самом вспыхнул зеленый огонь. А потом была чернота. И больше ничего.
– Поистине чудо, что мальчик отделался только ожогами на лице и руках. Слава богу, граната оказалась маленькая, – сказала старшая сестра.
– Чудо? Остаться слепым – это, по-вашему, чудо? Бедный мальчуган! Уж лучше бы…
– Извините, – сказала сестра. – «Чудо» сорвалось у меня по привычке. На самом деле это ужасно. Хотя зрение, может быть, и удастся сохранить. В ближайшие дни все выяснится. Но какой проклятый случай навел мальчика на неразорвавшуюся гранату? Хотя почти всегда такое случается именно с детьми. Сестра Бригитта, мы должны относиться к малышу как можно ласковее, вы понимаете?
– Малыш, уже темно. Спи спокойно, и пусть тебе снятся хорошие сны.
– Сестра, ведь мне всегда темно. Почему мне не разрешают снять повязку и поиграть на улице с Ингой и Бабеттой?
– Пусть сперва окрепнут твои больные глазки, тогда ты снимешь повязку и будешь снова играть.
– На улице? На солнышке?
– Да, да, на улице, а теперь спать.
– На небе есть звездочки? И месяц?
– Конечно, есть. Месяц следит, чтобы никто не мешал тебе спать. Доброй ночи, малыш.
– Доброй ночи.
Но когда сестра ушла, мальчик сел на постели и начал снимать повязку с глаз. Хоть бы месяц увидеть, подумал он, спокойно отклеивая полоски пластыря и разматывая бинт. Лишь потом он оглянулся. Да, сестра права. Кругом ночь. Увидеть бы месяц, подумал мальчик, слез с кровати и ощупью двинулся к окну. Вот и ручка. Он тихо-претихо отворил окно, чтобы никого не разбудить и чтобы не услышала сестра. Окно чуть скрипнуло, мальчик напряженно прислушался, но кругом по-прежнему стояла тишина.
Ночь ударила ему в нос резкими запахами. Мальчик принюхался. Сначала он ничего не видел. Потом увидел луну, похожую на апельсин. Круглую и спокойную, как обычно. Но мальчик подумал: я вижу больше, чем обычно. Вот он, человек, который живет на луне. Его ясно видно. Он скинул с плеч вязанку дров и ест из миски похлебку, которую ему только что принесли двойняшки. А золотые звездочки возле луны – это и не звездочки вовсе, а Инга и Бабетта с толстыми белокурыми косичками. Значит, играть я с ними больше не смогу, потому что они теперь на небе, а не на земле. Просто взрослые скрыли это от меня. Ах, взрослые взрослые! Им невдомек, что я теперь все вижу. Вот серебряная ладья, ею правит дядя Кнуд, капитан, тот, кого оставило у себя море в прошлогодний большой шторм. Дядя капитан вынимает изо рта большую коричневую трубку и с улыбкой кивает мальчику. А мальчик и сам улыбается и кивает в ответ, и…
– Сынок, – говорит сестра, которая тем временем бесшумно подошла к малышу.
– Сестра! – откликается он и восторженно смотрит вверх. – Сестра! Ты только погляди в окно! На луне человек, и Бабетта с Ингой, и дядя Кнуд.
– Да, сынок, – говорит сестра.
Потом она, чьи глаза видели немало страшного, безысходного горя, вдруг громко всхлипывает.
– Сестра! Почему ты плачешь? – удивляется мальчик. – Я ведь вижу их всех, и они рады и приветливо машут мне рукой.
– Да, – всхлипывает сестра. – Но ты устанешь, если будешь долго глядеть на них. Давай-ка лучше снова закроем окно.
Сестра снимает пальцы мальчика с ручки, поблескивающей на солнце, и снова запирает стеклянный шкаф, откуда доносится прохладный и острый запах эфира.
Малоизвестный скульптор
Я осмотрел решительно все – там была «Большая лежащая» и «Космологический страх», а также «Композиция в зеленом». От длительного осмотра я устал. Завидев табурет, я с досадой подумал, что он вполне может быть частью композиции «Погруженный в себя». По счастью, табурет не имел художественной ценности.
Зато Клодетта, в отличие от меня наделенная выдержкой, которая сделала бы честь любому педагогу, бодро переходила от одного экспоната к другому. Вообще-то она прелестная девушка. Как мило она порхает по залу, обуреваемая любовью к искусству. Вот, исполненная благоговейного трепета, она застыла перед страшноватым творением из проволоки и глины. В глазах Клодетты заплясали золотые крапинки, губы чуть выпятились – ничего не скажешь, многочисленные немые абстракции заметно проигрывают при сравнении с живой и хорошенькой девушкой. На всей этой – весьма репрезентативной – выставке она самый волнующий экспонат. Хорошо бы и ей присвоить какое-нибудь звучное название, ну, к примеру, «Прекрасная наблюдательница». Пожалуй, подходит, а?
Гибкой походкой – воплощенная грация – Клодетта приближается ко мне.
– Ну, что тебе больше всего понравилось? – спрашивает она.
Я раздумываю недолго.
– «Прекрасная наблюдательница».
– «Прекрасная наблюдательница»? – Клодетта растерянна. Я вижу, как она роется в ящичках своей памяти, отыскивая «Прекрасную наблюдательницу». Потом она спрашивает:
– Как же я ее пропустила? А кто создал это произведение искусства?
Я напрягаю ум и наконец отвечаю:
– Насколько мне известно, ее создал всевышний.
– Всевышний? Едва ли это известный художник. Наверно, из тех молодых дарований, которые теперь бурно пошли в рост, угадала?
– Ну, не так уж он и молод. Если судить по красоте его созданий, он весьма преуспел в своем творчестве.
– Значит, ты считаешь его многообещающим художником и полагаешь, что его имя следует запомнить? Будем, однако, надеяться, что этот господин, господин… Ах, да как же его фамилия?
– Всевышний!
– …господин Всевышний не высказался до конца в единственном произведении. Мне приходилось читать, что с художниками такое случается. И тогда «Прекрасная наблюдательница» останется в одиночестве.
Вид у Клодетты такой печальный, что я тороплюсь ее заверить:
– Да нет, Клодетта, я надеюсь, что наш художник еще много чего сотворит. Говорят, он отличается неслыханной плодовитостью.
– Значит, он сделает карьеру?
– Да еще какую! А уж «Прекрасная наблюдательница» никоим образом не останется в одиночестве. Сама увидишь, что за ней последует.
Я проговорил это с улыбкой, но весьма определенно. Я был очень собой доволен и не мешал Клодетте с присущей ей основательностью размышлять о загадочном и малоизвестном художнике.
Учитель Пантенбург
Был когда-то у нас учитель, совсем непохожий на других. Затруднения начались сразу, едва директор привел его к нам. Слишком он был нормальный, на наш взгляд. Ни брюшка, ни лысины, ни носа картошкой, серый костюм хорошо сидит, не то что жеваная хламида у Моржа, нашего математика.
Да, задал он нам работу. Первый урок подходил к концу, а мы так и не подобрали для него прозвища. Мы искали с лихорадочной поспешностью, но все без толку. Мой сосед по парте пытался как-то обыграть его фамилию, но получалось все слишком глупо. Итак, первый урок подошел к концу, а прозвища не было. Мы же хорошо знали по собственному опыту, что, не использовав первый час, мы фактически уже упустили возможность что-нибудь придумать. После уроков состоялся большой военный совет, где обсуждался вопрос: как же нам все-таки быть с Пантенбургом? Мы чувствовали, что имеем дело с достойным противником. Такому не подложишь на сиденье мокрую губку, не засунешь в ящик стола дюжину майских жуков, не посыплешь табаком страницы классного журнала. Нет, тут нужны более изысканные методы.
До сих пор с неизменным успехом у нас проходила «Операция Торвегге». Торвегге, просидевший в этом классе уже три года, мог вывести из равновесия любого. Когда он играл свою коронную роль, это всегда кончалось великим потрясением для учителя, мытьем полов и четырежды – срывом урока. Каким образом? А вот каким: Торвегге пускал лужу прямо посреди класса. Конечно, невзаправдашнюю, а просто притворялся, будто с ним стряслась такая беда. Он приносил в класс полную клизму, выпускал воду на пол, вскакивал, побагровев до корней волос – ну и артист же он был! – вопил не своим голосом:
– Господин учитель! А я в штаны напустил… У меня наследственное заболевание мочевого пузыря… Это со мной не первый раз. А…
Тут голос у него прерывался, и он стоял такой жалкий, такой несчастный.
– Уборщица! – пронзал классную тишину другой вопль. Его выбрасывал в воздух учитель из-за прикрытия кафедры. И затем на черную душу Торвегге неизменно проливался бальзам целительных слов:
– Вы, разумеется, можете идти домой.
Это была, так сказать, ключевая реплика. Ибо не успевал Торвегге сделать и шага, как еще пять или шесть голосов хором вопили: «Он и меня залил! Он мне все чулки забрызгал! Вот дрянь!»
И – ать-два! – мимо потрясенного учителя из класса строевым шагом выходило по меньшей мере семь человек.
«Операция Торвегге» всегда проходила с неизменным успехом. Очередная была назначена на завтра.
Говорил Пантенбург хорошо. Несколько минут назад, в начале урока, он произнес: «Социальное законодательство Бисмарка», но почему-то не назвал, как следовало ожидать, дату рождения Бисмарка, а принялся рассказывать историю о восьмилетнем Тоби Уитэкере, который надрывался на шахтах Йоркшира. Мы сразу почуяли, что Пантенбург вознамерился подойти к делу с другого конца, но нас это отнюдь не обескуражило. Пантенбург умел увлекать. Словом, мы даже огорчились, когда Торвегге пустил воду из своей клизмы и струйка побежала по проходу между партами. Пантенбург смолк. Тишина. В безжалостных детских умах возник вопрос: а как Пантенбург, одолеет ли его эта лужа?
Торвегге тем временем встал, чтобы сыграть свою коронную роль. Именно сегодня он был в ударе. Лишь тот, у кого в груди камень вместо сердца, мог не поверить в его лепет.
Но у Пантенбурга был в груди камень вместо сердца. Несколько секунд он со спокойной улыбкой глядел на багровый румянец, заливший щеки Торвегге. Затем он подозвал к себе Круску, сидевшего в первом ряду, быстро написал что-то на клочке бумаги и приказал:
– Смотри, живо у меня.
И Круска исчез.
Торвегге забеспокоился. Он предпринял попытку выйти за рамки заученного текста и добавить к сказанному еще несколько слов отчаяния. Но это лишь ослабило впечатление.
Улыбка же Пантенбурга не исчезала.
Круска вернулся и принес из химического кабинета лакмусовую бумажку. Пантенбург небрежно взял ее и кинул в лужу, произведенную Торвегге. Торвегге малость содрогнулся, потому что операция не протекала по намеченному плану, потому что улыбка Пантенбурга беспокоила его, да еще вдобавок у его ног лежала лакмусовая бумажка.
Пантенбург же небрежным тоном поучал:
– При щелочной реакции лакмус окрашивается в синий цвет, при кислой – в красный. Однако здесь не произошло ожидаемого изменения цвета из-за присутствующих в моче карбомидов. Вы, Торвегге, надеюсь, помните формулу CO(NH 2) 2. Итак, Торвегге, вы представляете собой физиологическое чудо, ибо из вас вместо мочи выделяется чистая вода.
От смущения Торвегге снова уселся за парту, но Пантенбург продолжал:
– Об этом чуде должен узнать весь мир. Я хочу – разумеется, с согласия ваших уважаемых родителей – продемонстрировать вас в университетской клинике, дабы вы у них на глазах повторили содеянное вами чудо.
Торвегге в ужасе вскочил.
– Ради бога, не надо! Понимаете, я немножко, я… я сам заплачу уборщице и… и…
И вопль, который до сих пор вырывался лишь из груди учителей, теперь во всю мощь вырвался из груди Торвегге:
– Уборщица!
Пантенбург с улыбкой возобновил свой рассказ о Тоби Уитэкере из шестого забоя йоркширской шахты.
Пантенбург выиграл сражение.
Торвегге сам вытер пол.
Но этим серия сюрпризов, которыми ошарашивал нас Пантенбург, отнюдь не завершилась. «Операция Торвегге», поразившая, словно бумеранг, своего зачинщика, явилась прологом к новым выходкам Пантенбурга. Он с первого дня поставил нас в положение обороняющихся, онустраивал намвсякие каверзы. Такого мы на своем веку еще не встречали. На четвертый день своего правления Пантенбург разбудил заснувшего во время урока Эппена ледяной струей из водяного пистолета, который запросто извлек из своего элегантного серого костюма. Он мог, того и гляди, напустить жуков нам в волосы или незаметно прикрепить к спине бумажку с надписью «Незрелый овощ», как мы, помнится, в свое время прикрепили Моржу к фалде надпись «Утиль». Но нет, проделки Пантенбурга были много остроумней. Когда однажды Браукс, например, ковырял в носу, Пантенбург, не говоря ни слова, положил перед ним на парту штопор. В другой раз он спросил:
– Кто желает завтра утром присутствовать на школьном богослужении?
Примерно половина класса изъявила желание.
– Записать поименно, – распорядился Пантенбург. Потом: – Те, кто записался, завтра на время богослужения могут считать себя свободными. Остальным явиться. Им это нужней.
Взрыв хохота был ответом на его слова, и вряд ли нужно говорить, что на другой день мы явились на богослужение в полном составе, ибо с этого дня мы соглашались на каждое предложение Пантенбурга. Мы полюбили его, как не любили прежде ни одного учителя.
Причем эта любовь не была безответной. Пантенбург тоже нас любил, каждого в отдельности, как наседка всех своих цыплят.
Мы догадывались об этом и по тому, что он пошел играть с нами в футбол, когда директор пожаловался, что мы разбили мячом стекло в спортзале. Пантенбург не стал произносить длинных речей, не стал карать, но пробил один за другим двадцать таких мячей, что наш проворный вратарь Винхёфер смог взять лишь три из них.
– Вот как надо играть.
И больше Пантенбург не сказал об этом ни слова.
Пантенбургу все было по силам. Даже Торвегге, «ссун благородный» – это прозвище он получил от нас после того случая, – не остался по обыкновению на второй год, а без сучка без задоринки перешел в следующий класс.
Теперь мы пошли бы за Пантенбургом в огонь и воду. Мир не видел компании более дисциплинированной, но в то же время более свободной и раскованной, чем наша. При Пантенбурге можно было спокойно дышать, можно было чувствовать себя человеком, потому что он и сам был настоящий человек.
Мы поняли это особенно глубоко, когда Пантенбург вторично ушел от нас.
Первый раз мы попрощались с ним, когда его молодая жена вбежала в наш класс и растерянно протянула ему какую-то бумажку. Это была призывная повестка.
Два часа спустя Пантенбург пожал руку каждому из нас и вдобавок сказал несколько теплых слов. Сказать было необходимо, потому что все мы плакали. Все.
Прощаясь второй раз, мы не плакали, мы закаменели. В этот, второй, раз мы все носили синевато-серую форму, именовались вспомогательными номерами зенитных расчетов, проводили учебные стрельбы на пустыре возле одного из больших городов Рурского бассейна, подбили семь самолетов, получили награды да еще в течение дня отсиживали по два-три урока у Моржа, которому дали броню.
В ослепительно ясное утро – ослепительное потому, что к нам пришел он, – нас навестил Пантенбург. Мы были такие взбудораженные, что даже лейтенант, командир нашей батареи, понял: сегодня от нас проку не будет. Едва худой серьезный человек с серебряной нашивкой за ранения, человек по имени Пантенбург, возник среди нас, мы не могли думать ни о чем другом.
И мы уселись вокруг Пантенбурга, который решил уделить нам по меньшей мере час, целый серьезный час из своего отпуска после госпиталя.
Сперва он ничего не говорил. Долгие, долгие минуты тянулось молчание. Он просто смотрел на нас, пока не сумел улыбнуться снова. Тогда он заговорил. Говорил мало. Но уже после первых четырех фраз один из нас встал и поплотней прикрыл дверь барака. Чтобы никто не услышал, о чем говорит Пантенбург. Сегодня я не смог бы повторить его слова. Но тогда мы почти сразу поняли: то, что выдавалось за широкий, бесконечный путь, оказалось тупиком, а мания величия достигла своего апогея, и дело, которому мы служим, – давно проигранное дело. Мы вдруг увидели все ясно и без страха. На нас снизошло знание.
Пантенбург вернулся с Востока. И он все видел. А поскольку мы были с ним заодно, мы тоже увидели. В тишине, которая после слов Пантенбурга опустилась на нас, завыли сирены.
– Тревога!
Тревогу объявили слишком поздно. В топот наших сапог, в треск выстрелов на отдаленных батареях ворвался злобный свист.
– В укрытие!
Торвегге, словно пьяный, еще метался среди нас, уже лежавших носом в каску. У Торвегге не выдержали нервы.
Для слов не оставалось времени. Времени могло хватить только для удара кулаком, и этим ударом учитель Пантенбург пригвоздил своего бывшего ученика Торвегге к земле.
Потом грохот, огонь, пыль и стон земли под нами. Поднявшись на колени, мы увидели, что Круска и Эппен убиты.
А через полчаса на носилках возле орудий умер и Пантенбург. Два осколка разорвали ему грудь и легкое. Когда мы его обступили, он больше ничего не мог сказать. Он уже все сказал.
И мы не могли плакать, когда, закрыв лицо Пантенбурга зеленой плащ-палаткой, его уносили прочь.








