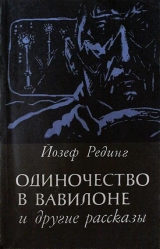
Текст книги "Одиночество в Вавилоне и другие рассказы"
Автор книги: Йозеф Рединг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Кинжал падает со сцены
Много событий в нашей истории не произойдет. Зато на сцене их произошло много. Перед сценой сидели дети. От восьми до десяти лет. Школьников привели в театр на сказочное представление.
Чудесный, подлинный, настоящий мир для мальчиков и девочек. Ах, какое платье у принцессы! А бородавка, бородавка-то на длинном носу у придворного шута! А высокие сапоги с отворотами у принца!
Сапоги были всего красивее! Йорг сидел в первом ряду и наблюдал, как крутятся и сверкают большие колеса на шпорах. Ах, завести бы ему такие сапоги и, опоздав на урок, со звоном пройтись по классу!
Но что это? Еще интересней! Кинжал, блестящий, острый, грозный! Он торчит у разбойника за поясом. Просто заткнут без ножен, без ничего за коричневую кожу ремня. С таким кинжалом можно иметь все! Можно править миром! Этого, наверно, и хочет разбойник с черным лицом и в грязной шляпе. Вон как грубо он разговаривает с принцессой! Совсем не так, как говорил с этой серебряно-золотой феей благородный принц. Разбойник прямо кричит, так кричит, что напуганная до смерти принцесса заливается слезами. Просто сердце разрывается глядеть на нее, когда слезы вспыхивают на свету. Как алмазы, думает мальчик по имени Йорг, сидящий в первом ряду. Алмазы на пальцах, на шее, а теперь еще и на лице.
Но кинжал! Что с ним будет дальше? Йорг учащенно дышит; разбойник перестал кричать, он говорит тихо и проникновенно. Принцесса должна отдать ему свое королевство, не то… Что «не то», спрашивает себя Йорг.
– Не то я заколю тебя! – кричит чернолицый негодяй, и голос у него срывается.
«Ну не прав ли я? – волнуется Йорг. – С таким кинжалом можно покорить весь мир, даже если ты последняя дрянь, вот как этот разбойник на сцене».
Смотрите, он приводит свою угрозу в исполнение! Он замахивается кинжалом, подлетает к принцессе и колет… нет, нет, прежде, чем острие кинжала проникает сквозь парчовое платье в сердце принцессы, появляется принц. И как лихо он одним ударом меча выбивает кинжал из рук у этого бандита и…
И кинжал скользит по сцене, мимо будки суфлера и – шлеп! – ложится на пол у ног мальчика Йорга. Артисты на мгновение теряются, но потом разбойник, как раз в эту минуту пронзенный мечом, решает упасть замертво.
А перед Йоргом лежит кинжал. Мальчик потрясен. Он нагибается, обхватывает пальцами рукоятку. Кинжал вовсе не такой тяжелый, как ему думалось.
Забыв про все на свете, Йорг ногтем пробует острие. Но кинжал тупой. Йорг нажимает посильнее, и кинжал уходит в длинную рукоятку, все глубже и глубже, пока не скрывается целиком.
Мальчик испуган. Сперва он думает, что испортил кинжал. Потом соображает. Все обман. Игрушка, с помощью которой представляют, чего вовсе и нет.
Медленно и печально подходит Йорг к краю сцены и кладет на нее кинжал.
Никто не обратил на это внимания. Представление идет своим чередом. Искусно и незаметно, как умеют одни актеры, принц, произнося пылкую речь, отгоняет кинжал ногой на середину сцены, где оружие убитого разбойника еще может понадобиться.
Но Йорг больше не глядит на сцену. У него отняли мечту, ничего не предоставив взамен. И теперь с болезненной ясностью он видит, что у шута нос из папье-маше, что золотые волосы принцессы – это парик, что у принца деревянный меч, выкрашенный под бронзу. И еще он слышит шепот суфлера.
Эллебрахт пытается бежать с места происшествия
«Я не учел ширины этой машины, – думает Эллебрахт. – Вот почему все так получилось».
Человек без пиджака снял правую руку с руля и поспешно отер ее о свою грудь. Положив руку на прежнее место, он почувствовал, что она все еще потная, как и лицо и тело. Потная от страха.
«Только из-за ширины, только из-за нее», – подумал он снова. Подумал так, словно кому-то сбивчиво объяснял: ширина машины, новая, непривычная ширина, вот чего я не учел.
Нога Эллебрахта поспешно нажала на тормоз. Машина взвизгнула и остановилась. Прямо перед красным светом, вспыхнувшим на железнодорожном переезде.
«Этого мне еще не хватало, – подумал Эллебрахт. – Не хватало только, чтобы из-за такой мелочи, как проезд на красный свет, меня задержала полиция. Вот ужас! После того, что было…»
С гулким воем мимо пронесся курьерский поезд. Несколько раздерганных всполохов света, перестук, подхваченный ветром свист. Красный сигнал сменился зеленым. Эллебрахт рванул вперед. Включая третью скорость, он от волнения не до конца выжал сцепление. Коробка передач омерзительно заскрежетала.
От этого звука Эллебрахта чуть не вывернуло. «Звучит точно как тогда, – подумал он, – точно как тогда, когда я не учел ширины новой машины. Поэтому все и случилось. И у любого на моем месте случилось бы то же самое. До вчерашнего дня я ездил на «фольксвагене». Все время на «фольксвагене», шесть лет на «фольксвагене». А сегодня с утра первый раз сел на сухопутный крейсер. Будь я в «фольксвагене», я бы без сучка без задоринки проехал мимо. Зато теперь… Не гони, – скомандовал Эллебрахт себе самому. – Не то в ближайшую минуту произойдет новое несчастье. Хотя отсюда уже рукой подать до Карин и детишек».
Карин и детишки. У Эллебрахта застучало в висках. Он пытался успокоить себя: «Тебе пришлось скрыться именно из-за Карин и детишек. Что будет с ними, если ты угодишь под суд, а потом в тюрьму? Четыре кружки пива, которые ты выпил за время конференции, докажут твою вину при проверке, а что потом? Дальнейшему расцвету твоего предприятия придет конец. И не в том дело, что такое происшествие нанесет урон твоей чести. Как это сказал управляющий фирмы «Вальтершейдт и К О», когда сбил старушку на «зебре»? Ах да, куртуазный деликт. Нет-нет, подмоченной репутации я не боюсь.
Но тот месяц или полтора, которые мне, возможно, придется отсидеть в тюрьме, вот они меня доконают. За время моего отсутствия конкуренты направят сюда целые полчища представителей и придушат мое дело. Что тогда? Что будет тогда с этой машиной? С новым домом? Что скажет Урсула, которую мы обещали послать в швейцарский интернат?»
– Ты поступил правильно! – сказал себе Эллебрахт в полный голос и сильней нажал на педаль. – Ты поступил именно так, как надлежит поступать отцу семейства.
«Проклятые светофоры! – подумал он и притормозил. – Я хочу домой. Я смогу спокойно вздохнуть лишь тогда, когда машина будет в гараже, а я – в кругу семьи».
Но человек с велосипедом, он-то когда будет в кругу семьи? Человек, который, раскинув руки, словно крест, лежал на обочине? Человек, который лишь слабо шевельнул головой – ты мог наблюдать это в зеркале заднего вида, когда, охваченный безумным страхом перед возможными последствиями, снова погнал остановившуюся было машину. Скажи, Эллебрахт, когда будет в кругу семьи этот человек? Ну-ну, не раскисай и давай без патетики. Ты ведь трезвый деловой человек.
Эллебрахт тупо поглядел вперед и испугался. Он увидел перед собой крест. На своей машине. Крест напомнил ему того человека.
Эллебрахт пытался улыбнуться.
«Возьми себя в руки, – твердил он, – возьми себя в руки. Ты ведь понимаешь, откуда взялся крест. Это просто фирменный знак на радиаторе. Он погнулся от столкновения с велосипедом и стал похож на крест».
Но Эллебрахт ничего не мог с собой поделать, он неотрывно глядел на крест.
«Вот вылезу, – думал он, – вылезу и распрямлю эту штуку».
Он взялся было за ручку дверцы – и содрогнулся. Влажные блики на кресте вспыхнули ярче.
– Скорее бы домой, – простонал Эллебрахт, потея еще сильней. – Я больше не могу. Когда наконец будет зеленый?
Потные пальцы нащупали воротник, пытаясь расстегнуть пуговицу под галстуком, но перламутровая пуговица снова и снова выскальзывала из них.
Зеленый!
Обливающийся потом человек рывком распахнул воротник и сразу взял с места.
«Крест сведет меня с ума, – думал он. – Не могу его больше видеть! Как лежал этот человек! А нашел ли его кто-нибудь? Может, он уже холодный и неподвижный, как этот крест?»
Эллебрахт затормозил, хотя красного света не было. Был только крест. Только крест, отбрасывавший гигантскую тень внутрь машины. Только крест, подсвеченный фарами.
– Я не могу вернуться домой, – шепнул обливающийся потом человек. – Я не могу вернуться к Карин и детям. Я теперь ни к кому не могу вернуться.
Эллебрахта обогнала другая машина. Мучительно взвыл сигнал.
«Я не могу разогнуть крест, не испачкавшись в крови. У меня не хватит сил. Я ни к кому не могу вернуться, пока не увижу того человека».
Эллебрахт почувствовал, как ладони у него мигом высыхают и плотно обхватывают баранку. Легко развернув тяжелую машину, он помчался назад.
Снова те же сигналы, железнодорожный переезд, поворот, дорога через лес.
Камешки застучали по крыльям. Эллебрахт сбавил газ, а глаза его вместе с фарами обшаривали темноту.
Вот она, кучка помятой жести и стали.
И вот человеческая фигура в виде креста.
Уже поставив на землю одну ногу, Эллебрахт содрогнулся от страха. Но потом все-таки захлопнул дверцу и побежал. Вот он опустился на колени перед пострадавшим и осторожно перевернул его в свете фар.
Истекающий кровью человек открыл глаза и, словно защищаясь, коснулся руками Эллебрахтова лица. Потом он сказал:
– Вы… остановились из-за меня… Спа… спасибо.
– Я не… я… я просто вернулся, – ответил Эллебрахт.
Большой старик хотел сделать человека…
Третья авеню в Нью-Йорке. Вечно грязная, оглушенная грохотом надземки полутемная улица. Ссудные кассы вперемежку с лавками старьевщиков. Ночлежки и приюты Армии спасения. Люди, готовые за тарелку супа несколько раз пропеть «аллилуйю».
Один из этих людей, худой старик с огромными усталыми глазами, вдруг падает ничком. Вразвалочку приближается полицейский. Он не спешит, он не идет – он приближается. Дубинкой переворачивает упавшего на спину. Касается рукой груди – не затем, чтобы проверить, бьется ли сердце упавшего, а чтобы проверить, есть ли у него документы. Вытаскивает из обтрепанной куртки какое-то замасленное удостоверение, читает, кивает довольный.
И только потом смотрит, жив ли упавший. Только потом…
Улица Песталоцци в каком-то поселке. Дети играют в мяч. Девочка роняет свой мяч, тот катится по асфальту. С грохотом надвигается грузовик. Девочка боязливо замирает на краю тротуара, провожая глазами свой красный в синюю крапинку мяч. Шофер видит девочку и видит ее страх. Он тормозит, хотя и не без труда: тормоза не совсем исправны, и прицеп налетает на тягач. Зато мяч откатывается от его передних колес на другую сторону улицы и, ударившись о край тротуара, скачет обратно.
Шофер улыбается во весь рот и машет девочке темной от мазута рукой. Грузовик едет дальше.
Девочка хочет выскочить на дорогу, но вслед за грузовиком показывается темно-зеленый «мерседес». Человек за рулем вытягивает шею из пальто верблюжьей шерсти и провожает глазами прыгающий мяч. Этот человек тоже улыбается, чуть поворачивает баранку и едет прямо на маленькое красно-синее чудо. Шипит выходящий воздух.
– Бей пузатых! – кричит девочка.
Сохо в Лондоне. Улицы, проходящие через свалки всех существующих наций. Полицейские окружили старый дом какого-то итальянца, тот яростно отстреливается из своего «люгера» и не желает сдаваться.
Тут Марио Торри, один из полицейских, выпрямляется во весь рост и кричит что-то по-итальянски.
Человек в доме о чем-то его спрашивает. Полицейский отвечает. И тогда из полуразвалившегося дома выходит человек, скрестив руки на затылке.
– Как ты заставил его сдаться? – спрашивает другой полицейский своего коллегу Марио Торри.
– Я сказал, что, если он не сдастся, мы выломаем двери. И что платить за ремонт придется ему и его семье.
– А он?
– Он спросил, сколько будет стоить ремонт. А я сказал: примерно три фунта и пять шиллингов. Тогда он вышел.
Гвадалахара, Мексика. Тупичок под названием Лос-Компаньерос упирается в таверну «Эль-Торо». Там я и жил. По вечерам в «Эль-Торо» пили водку, «пульке», приготовленную из перебродившего настоя агавы. Один очень старый мексиканец неизменно появлялся около полуночи, досыта наедался, выпивал примерно пол-литра пульке – количество, которое свалило бы с ног любого человека, – и уходил, даже не шатаясь. Я спросил у хозяина, что это за старик.
– Это мой отец, – отвечал хозяин. – Десять лет назад он отказал мне свою таверну с условием, что я до конца его дней буду даром кормить его, держать для него наготове ночлег и ежедневно выдавать ему пол-литра пульке.
– Вы шутите! Целых пол-литра!
– Наш домашний врач, Альфредо ди Кама, сказал то же самое, слово в слово, когда десять лет назад я сообщил ему о нашем уговоре. И он посоветовал подливать в пульке воды, сперва каплю, потом все больше и больше. Так что сегодня в кружке у отца всего четверть литра пульке, остальное – вода.
– А он что?
– Сравнивать-то ему не с чем, наличных у него никогда не бывает, значит, купить себе пульке в другой таверне он не может. Только раз вышла промашка. У нас тут подсобляла одна девушка, которая не знала, какую смесь мы подаем отцу. В тот вечер он чуть не умер из-за отравления алкоголем. «Верно, мне нездоровилось в тот вечер», – говорил он потом.
Каменными плитами вымощена дорожка тюремного двора в Портобелло; «знатный арестант», которого ежедневно выводят из одиночки на пятнадцатиминутную прогулку, точно высчитал, что длина дорожки – двести восемьдесят шагов. Арестант, министр свергнутого две недели назад правительства, согласно тюремному распорядку, имеет право только «ходить либо стоять, но не нагибаться и ничего не поднимать с земли». Почему не поднимать? Да потому, что человек, прошедший перед ним, мог оставить для него какое-нибудь сообщение. Каким образом? Ну, например, лист каштана с тремя дырочками может многое означать, может свести воедино показания десятка свидетелей на десятках допросов, не так ли?
Но человек, идущий сейчас под надзором часового по каменной дорожке, не желает никаких сообщений. Ему хочется другого. Он увидел жука. И хотел бы заполучить жука к себе в камеру, чтобы там был хоть кто-нибудь живой, хоть какое-нибудь божье творение. Но нагибаться ему нельзя.
Тогда он останавливается, в надежде, что жук, вскарабкавшись на ботинок, поползет дальше по полотняной штанине и его можно будет незаметно схватить рукой. Но жук бегает по дорожке, вперед – назад, вперед – назад. Человек ждет. А пятнадцать минут уже, вероятно, истекли.
И тут жук влезает на носок ботинка и по переплетению шнурков устремляется вверх.
В это мгновение охранник подталкивает арестанта прикладом в спину.
– Давай в камеру.
Арестант, пошатнувшись, делает шаг вперед.
На каменной тропинке под палящим солнцем резко выделяется черное пятно. Всего лишь маленькое черное пятно.
На дороге между Клу и Питтсбургом я услышал от молодой индианки такую легенду.
Большой старик задумал сделать человека. Он пошел к высоким глиняным горам, вылепил тело и сунул его в печь для обжига. Потом долго ждал, пока в печи как следует разгорится огонь.
Прождав изрядное время, он вынул из печи вылепленное тело. Но оно обгорело дочерна. Старик все равно вдохнул жизнь в черное тело. Так он создал негра и услал его от себя.
И снова большой старик взял сколько надо глины, замесил, вылепил тело и сунул в печь. На этот раз и огонь был послабей, и тело он вынул пораньше. Только получилось оно светлое и невзрачное. Но большой старик вдохнул жизнь и в него и услал его в большие города. Так был создан белый человек.
Тогда большой старик взялся за дело ретивее прежнего, и снова вылепил тело, и разжег хороший огонь, и ждал сколько нужно. И тело, которое он достал из печи, было ровного красного цвета. Старик остался очень доволен. Так он создал индейца.
Он дал ему жизнь и оставил у себя, в прерии.
Автомат и бродяга
Он знал этот город. Пробродяжив шестьдесят лет, Филипп К. Лоуэлл досконально изучил, что такое город. Рай, когда в кармане у тебя хрустят доллары. Ярмарка, которая без жалости бросит тебя подыхать, едва в кармане у тебя не останется ни цента, а на теле – ничего, кроме ношеного-переношеного костюма, подачки методического проповедника.
Снаружи – это еще, черт побери, не самое страшное, а вот внутри! Целых три дня – хлорированная вода из умывальника в вокзальном туалете, только вода. Если б по крайней мере можно было просить милостыню! Но эту дорогу я себе сам закрыл. Надо ж было сморозить такую глупость – в кафетерии возле метро вырвать из рук у мальчишки кошелек! Три дня назад!..
Старый бродяга сухо закашлялся и отхаркнул кровь в серую ветошь… Видит бог, это не для старика – невыносимый голод и ночная стужа, да еще когда тебя разыскивает полиция в этом треклятом городе. И кровохарканье в придачу. Эх, Филипп, Филипп, вот ты снова начал терять жизненные силы. Какого дьявола ты дал себя заманить в эту каменную пустыню? Через несколько часов ты околеешь, как крыса, на какой-нибудь свалке, среди отбросов. Да и сам ты не более чем отброс.
А, черт побери, довольно!.. Бродяга с трудом выпрямился, цепляясь за стенки мусорного бака. Нет, Филипп, тебе еще рано сдаваться. Надо только поскорей вырваться из города. Через пять миль к западу ты увидишь первую ферму. Возьми себя в руки, old fellow!.. [10]10
Старина (англ.). – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть]Старик запыхтел, и дрожь от непосильного напряжения сотрясла заросшее щетиной болезненно синее лицо бродяги. Но вот он встал и тут же, словно пораженный электрическим разрядом, молниеносно повернулся и уставился на то место, где только что сидел. Звякнуло. Ведь это же… Почти с нежностью он поднял монету и вынес ее в оранжевый луч света, стекавший на задний двор с какой-то световой рекламы. Пятьдесят центов! Это еда! Еда означает новые силы, жизнь… И я, болван, еще сидел на ней!
Старик заковылял по теснине ночной улицы. Ближайший закусочный автомат стоит на углу возле кино. Туда! Вперед, вперед! Снова чертов кашель и кровохарканье! Ничего, валяй дальше, сейчас твой мертвый желудок кой-чего получит! Чего же тебе хочется, старина? Бананов, аккуратно завернутых в целлофан? Или три толстых бруска шоколада?.. Узкогубый рот искривила полубезумная улыбка. И вот уже Филипп К. Лоуэлл стоит перед элегантным сооружением – листовая сталь и кричащие краски. Вот он, вот он! Сверху донизу залитая багряным неоновым светом вереница заманчивых закусок. Сардины, фрукты, молоко, бифштексы! Болезненно расширенные, воспаленные от жара глаза Филиппа К. Лоуэлла созерцали это великолепие. Бродяга выбирал недолго. Тонкими дрожащими пальцами он сунул монету в прорезь над надписью «Ham and cheese» [11]11
Ветчина и сыр (англ.).
[Закрыть]. С восторженным вниманием изглоданное, почти лишенное плоти лицо прильнуло к автомату: он слышал, как провалилась монета, как что-то звякнуло – и все, и больше ничего, совсем ничего. Дрожь, сидевшая до того в пальцах, разбежалась теперь по всему телу, сотрясла голову и ноги. Старик нажал кнопку возврата. Два раза нажал, три – ничего. Он забарабанил по аппарату костлявыми кулаками. Ничего! Руки бессильно поникли. И еще раз живая развалина заглянула в автомат, немой и насмешливый. Ничего.
– Проклятая машина! Гадина! – хрипел старик.
Пот выступил у него на лбу, похожий на кровь в красном свете, падавшем из окошечка автомата. «Реклама», – успел еще подумать старик, опускаясь на землю, и голова его ударилась об автомат. Теперь у него на лбу выступила настоящая кровь, она текла из длинной зияющей раны, но старик уже не смог подумать об этом. Сейчас не смог, и никогда больше – тоже. Не смог он и услышать, как после удара в автомате что-то застрекотало. Не смог он и увидеть, как из автомата выглянула одна упаковка «Ham and cheese» и как после этого потрясенный механизм выплюнул еще двенадцать упаковок. Раз – еще раз! Монотонно, равномерно. Они стекали на мостовую, на тело старика, и казалось, будто у автомата началась рвота.
– Должно быть, жулик! – сказал один из полицейских, отшвыривая носком сапога пачку, лежащую у руки мертвого. – Его небось хватил удар со страху, когда вся эта благодать на него посыпалась. Постой-постой, а не он ли разыскивается из-за попытки ограбления? В участке есть описание примет…
– Вполне возможно! Все возможно в этом поганом городе и еще более поганом мире! – Но полицейский сказал это просто так, к слову.
Когда оба они тащили тело старика к машине, одна нога Филиппа К. Лоуэлла волочилась по мостовой.
Коббе сидел на лучшем месте
Рихард Коббе уплатил две марки двадцать пфеннигов. Среди этих денег была только одна целая марка. Все остальные монеты – по десять пфеннигов и по одному. Когда Коббе выложил на грязную тускло-серую тарелочку содержимое потрепанного портмоне, там больше не осталось ни гроша.
Женщина в светлом шерстяном пуловере, сидевшая за окошечком кассы, поглядела Коббе в лицо. Оттуда ее взгляд соскользнул на морщинистую шею, потом с откровенной брезгливостью – на темный, пропотевший, заношенный воротничок, после чего снова уперся в монеты. Когда деньги были подсчитаны, к терпеливо ожидающему Коббе выскользнул кусочек зеленого картона.
– Один в ложу, – приятным голосом произнесла кассирша.
Приятным для Рихарда Коббе. Старичок получал большое удовольствие от всей этой процедуры. В луче света, отбрасываемого фонариком, он пошел к своему месту. Световое пятно, словно желтый ковер, расстелилось перед свободным креслом. Коббе медленно усаживался, аккуратно расположив руки на подлокотниках. Но справа в соседнем кресле уже кто-то сидел, и старик поспешно убрал с подлокотника правую руку.
На экране мужчины во фраках обменивались поклонами и протягивали дамам в вечерних платьях фужеры с шампанским. Но Рихарда Коббе это не раздражало. Напротив, он был доволен. Он и пришел ради этих чистых, гладких физиономий и ладно пригнанных костюмов, чтобы забыть здесь про свою морщинистую кожу и поношенный костюм. Вот оно, дыхание большого мира. Моторные лодки за прибрежными пальмами! Иглу эскимосов, в которых живут работники метеостанции. Стрелами проносятся реактивные самолеты.
Тарам-там-та! В зале вспыхнул свет. Люди, на которых только что обрушилась лавина картин, усаживались поудобнее. Зашуршали целлофановые обертки, две-три головы повернулись на шорох, и в соседних рядах Коббе, к своей радости, увидел господина Дипенброка из комитета общественного призрения. Коббе приподнял руку и слегка махнул, но тотчас вместо лица Дипенброка перед ним оказался затылок, и старик разочарованно опустил руку.
Стенное освещение погасло. Проектор над головой Коббе перебросил на экран название фильма. Рихард Коббе, которому фильм помогал одолеть тоску целой недели, блаженно откинулся в кресле и начал наслаждаться. Раз в неделю, по меньшей мере два часа из ста шестидесяти восьми, посидеть на хорошем, на самом хорошем месте было прекрасно. Прекрасно, как чудо.
– Да, господин Коббе, теперь нам придется изрядно поломать голову над вопросом, должны ли мы и впредь вам что-нибудь давать. И можем ли, да, главное: и можем ли.
– Господин Дипенброк, вы ведь знаете, как я живу, с тех пор как меня лишили пособия и вдобавок случилось несчастье с моим сыном. Вы ведь каждый месяц приходите меня обследовать. Заглядываете в сковородку – не жарю ли я себе часом шницель, даже в старый шкаф без дверцы и то заглядываете – не висит ли там новый костюм. Все идут в гору, один я качусь под горку, а теперь вы еще хотите отнять у меня эти несколько грошей. Просто в голове не укладывается.
– В моей, дражайший господин Коббе, тоже кое-что не укладывается. Вот, например, три дня назад я отправился в кино посмотреть важный проблемный фильм, некоторым образом по долгу службы. И кого же я там увидел в антракте? Вас, господин Коббе.
– Ах да! – Старик засмеялся. – Я вам рукой помахал. Хорошо, что мы были на одном и том же сеансе. Мне картина очень понравилась. А вам, господин Дипенброк?
– Да не о том речь, господин Коббе. Мне не понравилось другое, мне самым категорическим образом не понравилось, что небезызвестный господин Коббе на благотворительные деньги бегает в кино. Это все равно что просить милостыню у дамы, а потом на выпрошенные деньги покупать водку.
– Но я-то, господин Дипенброк, я-то пошел в кино, а не в трактир.
– Ах, ах, какая скромность! Вам что, так уж необходимо было сходить в кино?
– Да, необходимо, – ответил старик. Очень решительно ответил. – Необходимо, не то уже вот куда подступает. – И он чиркнул ребром ладони по шее.
– Так, так, так. Значит, необходимо. Очень, оч-чень любопытно, – сказал чиновник и после небольшой паузы, в течение которой он барабанил пальцами по столу, добавил: – И в ложу тоже необходимо? Я сажусь на скромное место, более чем скромное, а что делает господин генеральный директор Коббе? Он, изволите ли видеть, берет ложу, словно какой-нибудь паша, какой-нибудь Фарук собственной персоной. Нет и нет, любезнейший, придется нам самым тщательным образом пересмотреть вопрос о вашем пособии. Очевидно, некоторые обстоятельства у вас изменились. Вы недостойны, господин Коббе, да, недостойны…
– Почему? – спросил старик.
– Потому, что я не могу понять ваше более чем странное поведение.
– Верно, – сказал старик, и голос его дрогнул. – Верно, вам меня не понять.








