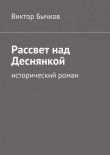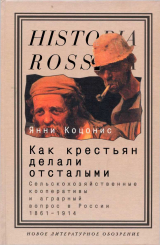
Текст книги "Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914"
Автор книги: Янни Коцонис
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
3. Коллективное земледелие и коллективная бедность
Обеспокоенный повсеместным провалом маслосыродельных артелей в северных губерниях России, статистик и исследователь Ф.А. Щербина привлек внимание к неформальным коллективным учреждениям, существовавшим на «Юге России» (ныне это в основном территория независимой Украины). Он начал дискуссию с весьма распространенного стереотипа о «южно-русском населении» как о «крайних индивидуалистах», не склонных к общинным формам общежития, и утверждал, что на юге традиционная артель также широко распространена, хотя и известна под различными местными названиями – синь, ватага, толока, гуртова и супряга. Щербина доказывал, что бедные крестьяне, объединяя свой труд, тягловый скот и сельскохозяйственный инвентарь, отбивают бешеный натиск свободного рынка и капитализма с помощью коллективизма. Капитализм – преходящая эпоха, и любая поддержка, какую «общество» способно оказать артелям, будет вложением в эти «задатки будущего для народной жизни… явления, которые глубоко кроются в самой природе человека». Он утверждал, что «пасторальная» передельная община Центральной России уже давно не существует на юге, где она уступила место процессу социализации через артели – «высшие формы труда, опирающиеся на общественную справедливость и благо»[78]78
Щербина Ф.А. Очерки южно-русских артелей и общественно-артельных форм. Одесса, 1881. С. 8 и далее.
[Закрыть].
Н.В. Левицкий, сотрудник Херсонского земства, решил использовать эти умозаключения известного статистика в практической деятельности. Он указывал губернскому земскому собранию, что артели – это крестьянский ответ на изменения, происходящие «с человеческой душой, насквозь пропитанной индивидуализмом – в худшем смысле этого слова – вернее, эгоизмом с его узко-материальными интересами, в сущности убыточными для человечества и привлекающими людей лишь по их близорукости». Все больше людей демонстрирует уверенность в своих силах, предприимчивость, энергичность и особенно любовь к делу, и все больше появляется шансов на успех в деле распространения, развития и построения великих кооперативных принципов в жизни широких масс. Исходя из этого, Левицкий и указывал: «Россия обладает такими чрезвычайно важными данными как артель и община».
Левицкий сосредоточился на супряге – временной кооперативной ассоциации, с помощью которой бедные крестьяне, объединяя труд и рабочий скот, совместно обрабатывали свои разрозненные наделы. В ней Левицкий увидел фундамент для более полного и формального объединения в товарищества русского типа, которые на постоянной основе соединят ресурсы составляющих их хозяйств. Подобные кооперативы, пусть и функционирующие на формальной основе и финансируемые земствами, будут не так чужды крестьянам, как ссудо-сберегательные товарищества и маслодельные кооперативы с их запутанными уставами, потому что «земледельческая артель в нашем крае является естественным развитием, продолжением, дополнением и усовершенствованием “супряги”»[79]79
Письмо из Елизаветграда // Новое слово. 1897. № 11. С. 171; Левитский В.Ф. Земледельческие артели Херсонской губернии // Русская мысль. 1896. № 9. С. 45–46; Хейсин М.Л. Исторический очерк кооперации в России. Пг., 1918. С. 62; цит. по: Максимов Е.Д. (М. Слобожанин). Смотр кооперативным силам… С. 99—100. Прокопович С.Н. Кооперативное движение… С. 41–43.
[Закрыть]. Как и В.П. Воронцов – экономист-народник, ратовавший за ремесленные артели, – Левицкий утверждал, что первое поколение кооперативов не достигло своей цели, поскольку все они основывались на иностранных моделях; артель, в его понимании, была русским феноменом и истинно русским ответом на зарубежное экономическое воздействие[80]80
О месте В.П. Воронцова среди идеологов и мыслителей народничества и, в частности, о его реакции на провал кооперативных экспериментов см.: Wortman R. The Crisis of Russian Populism. Cambridge, MA, 1967. P. 157–172.
[Закрыть].
На фоне жестокого голода 1891–1892 гг. Левицкий убедил Государственный банк профинансировать сеть артелей, работавших под его личным контролем, при участии и содействии Херсонского земства в качестве посредника и поручителя. В 1894–1897 гг. он успел основать 119 сельскохозяйственных артелей в одном только Александровском уезде Херсонской губернии, а земство распределило ряд ссуд, позволяющих каждой из артелей купить или арендовать лошадей, рабочий инвентарь и в некоторых случаях даже землю. Артели объединяли по 4–5 хозяйств, согласившихся совместно использовать все средства производства, жить и работать вместе, «как одна семья». Продукция артели должна была делиться по головам. Всего новые кооперативы объединили 550 хозяйств и 3040 «душ обоего пола». Очевидно, это и были первые коллективные хозяйства, организованные среди крестьян, а эксперимент в целом принес Левицкому почетное звание «артельный батька»[81]81
Письмо из Елизаветграда… С. 171; Левитский В.Ф. Земледельческие артели Херсонской губернии // Русская мысль. 1896. № 9. С. 45–46.
[Закрыть].
Комиссия, которую Херсонское земство в 1896 г. послало, чтобы иметь возможность документально подтвердить несомненный успех артелей, обнаружила, что большинство из них никогда не существовало, а те, что все же были созданы, исчезли сразу же после распределения земских ссуд. Комиссия полагала, что единственной убедительной причиной для их организации была нужда в деньгах. Узнав о планах Левицкого, поселяне посовещались и решили, что образование артелей – единственный путь для получения ссуды на новых лошадей. Лошади, инвентарь и земля, приобретенные артельщиками на средства от земских ссуд, были быстро поделены и находились в распоряжении каждого отдельного члена артели. Некоторые крестьяне даже приписывали участки своей земли к артели, стремясь привести последние в соответствие с условиями Левицкого, но большинство артельщиков обрабатывали землю раздельно, то есть делили площади, а не урожай. Один исследователь таким образом суммировал свои впечатления от этой ситуации в письме в редакцию одного московского журнала: «Артельщики или вовсе не соединялись своим имуществом для общего труда, или же недолго владели им сообща, прибегая во время дележа подчас к насилию. Артельные лошади находятся у всех [членов артели. – Я.К] на руках. Хозяйство на надельной земле ведется каждым членом артели самостоятельно своими средствами. Внешних признаков артели – артельных дворов и токов почти нет… Преимущества артельного хозяйства перед единичным не сознаны артельщиками. Артельная организация… считалась, по-видимому, необходимым условием получения ссуды. Этим объясняется возникновение артелей, вовсе не вытекающих из внутреннего убеждения участников. Теперь артельщики говорят: за деньги спасибо, за артель нет»[82]82
Письмо из Елизаветграда… С. 171. См. также: Агрономический съезд в Москве // Народное хозяйство. 1901. № 3. С. 144–147; Прокопович С.Н. Кооперативное движение… С. 42–45.
[Закрыть].
В те же годы подобный эксперимент проводило и Пермское губернское земство. Когда земские статистики обнаружили, что в губернии налицо необычно высокий процент безлошадных хозяйств, управа начала распределять ссуды по 10 руб. тем крестьянам, кого она посчитала бедными. Поскольку лошади стоили в среднем 25–30 руб., эти ссуды были недостаточными для приобретения хотя бы одной лошади на хозяйство. Земство оказалось перед дилеммой: снабдить всех нуждающихся лошадьми было невозможно из-за недостатка финансовых средств, а обеспечить ими меньшинство крестьян было неприемлемо с моральной точки зрения. Н.Г. Федоров, сотрудник Шадринского уездного земства, высказал мысль о том, что артели могут послужить компромиссом между экономической целесообразностью и справедливостью, в то же время воплощая в себе традиционный крестьянский коллективизм. Губернское земство согласилось с этим предложением и в 1892–1893 гг. учредило 108 артелей (в каждой из которых было по 6 хозяйств), получивших в свое распоряжение по паре лошадей и по два плуга. При этом в предварительных условиях специально оговаривалось, что каждое из хозяйств будет иметь возможность использовать лошадь и плуг два дня в неделю; находясь, таким образом, в распоряжении шести хозяйств, лошади и плуги находились в работе 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Каждая артель должна была подчиняться старосте, «как и в крестьянской поземельной общине».
Результаты эксперимента повторяли уже знакомые нам с потрясающим постоянством: треть артелей исчезла в год своего основания, ни одна не продержалась до конца десятилетия, а многие вообще никогда не существовали на практике. Земский представитель нашел, что большинство артелей вовсе не являлись кооперативами: каждый артельщик старался обзавестись лошадью только для себя. С этой целью каждый член артели пытался выкупить свою долю артельного имущества, купить дополнительных лошадей и исключать «лишних членов» до тех пор, пока число хозяйств не придет в соответствие с числом имеющихся в наличии лошадей. Наблюдатель также отметил большой процент смертности лошадей от голода: «У артельщиков идет пережидание, который должен работать, тот и корми лошадь, а последний, проработав целый день передает ее другому, а покормить после трудов и не позаботится». Воскресенье было тяжелым днем для лошадей, замечал он, так как при наличии шести членов артели и шести рабочих дней в неделю ни одно из хозяйств не хотело кормить лошадей в седьмой день[83]83
Доклады Пермской губернской земской управы очередной сессии 1894 г. Пермь, 1894. С. 406–433.
[Закрыть].
4. Обособленность
В 1895 г. В.П. Воронцов, плодовитый публицист-народник и популяризатор кооперативов, опубликовал книгу, посвященную опыту развития кооперативного движения в России за предшествующие 30 лет, – «Артельные начинания русского общества». Он утверждал, что, несмотря на очевидные неудачи, кооперативы вполне жизнеспособны как специфически русские учреждения, но они требуют постоянной поддержки и поощрения как со стороны «общества», так и со стороны центральной и местной администрации. Г.В. Плеханов, в то время ведущий русский марксист, заметил на это, что подобная помощь уже неоднократно и достаточно длительное время оказывалась, но большинство экспериментов все равно закончилось провалом. Причину тому он видел в том, что «капитализм» уже был фактом русской деревенской жизни и любые попытки игнорировать или пытаться обойти его были бы безнадежной борьбой с неизбежностью. Исследуя русский кооперативный ландшафт в 1895 г., Плеханов характеризовал его как кладбище: «Это поистине страшная книга! Автор ее, точно усердный кладбищенский сторож, неутомимо ведет вас от одной могилы к другой, монотонно называя вам имена и даже сообщая краткие жизнеописания покоящихся в них “артельных начинаний”… Признаемся, когда мы читали новую книгу неистощимого г. Воронцова, нам от души жаль было этих добрых людей, несомненно, имевших самые добрые намерения и несмотря на это потерпевших жесточайшее фиаско. И мы говорили себе: как же однако сурова, как зла объективная логика действительности! Как беспощадно, как неукоснительно разбивает она субъективные иллюзии наших лиц культурного класса!»[84]84
Плеханов Г.В. (А. Волгин). Обоснование народничества в трудах г. Воронцова (В.В.) / Плеханов Г.В. Сочинения. Т. 9. М., б.г. С. 259.
[Закрыть]
Полемика Плеханова и Воронцова оказалась лишь первой главой в длительных спорах, поделивших русскую интеллигенцию на народников и марксистов в 1890-х гг. Это разделение четко обозначило победу идеи неотвратимых экономических перемен над наивной народнической традицией, господствовавшей среди образованных слоев русского общества с 1860-х гг. Но полученные уроки были весьма далеки от плехановского детерминизма. Плеханов сосредоточился на иллюзиях, распространенных в образованном обществе, но образ, который оставался наиболее ярким в современной ему аграрной литературе, состоял из якобы комических описаний крестьян, подписывающих уставы, не разобравшись в их содержании, считающих ссуды подарками от властей, понимающих кооперативные принципы равноправия в более знакомом контексте общинной уравниловки и с готовностью берущих ссуды, не имея ни намерений, ни возможности отдать их. Другим распространенным штампом был лукавый крестьянин-мошенник, который сознательно деформировал кооперативные учреждения, чтобы приспособить их для службы собственным интересам, успевал перехитрить ничего не подозревающих доброжелательных организаторов и разрушал кооператив, стремясь к господству над бедными и беззащитными односельчанами. Как ясно показали первые эксперименты с кооперативами, крестьяне были, несомненно, в состоянии манипулировать подобными стереотипами с целью избежать нежелательных вопросов от посторонних[85]85
Дэниэл Филд показывает, как крестьяне манипулировали своим собственным «невежеством» в случаях общения с официальными властями, в работе: Field D. Peasants and Propagandists in the Russian Movement to the People of 1874 // Journal of Modem History. № 59 (September 1987).
[Закрыть]; но суть состояла в том, что образованное общество усваивало эти представления в своих новых подходах к крестьянству, порождая образ крестьянской беспомощности и иррациональности. Этот образ и начал с 1890-х гг. влиять на формирование внутренней политики империи.
Не обращая внимания на то, что доступные в то время статистические данные указывали на другую картину, спорщики исходили из существования неделимого «крестьянства», что фактически не позволяло учитывать огромные региональные различия в развитии как кооперативов, так и отдельных крестьян. Цель организаторов кооперативов состояла лишь в побуждении как можно большего числа крестьян присоединяться и самим управлять экономически успешными учреждениями, однако имелись и свидетельства того, что долгосрочные инвестиции в аграрную инфраструктуру создавали подходящие условия для крестьянской активности в этом вопросе. Большая часть ссудо-сберегательных товариществ Европейской России действительно провалилась, но к концу XIX в. большинство из уцелевших было сосредоточено в южных причерноморских губерниях. Здесь постепенно возникал центр торговли излишками зерна, который обслуживался густой и постоянно растущей сетью зернохранилищ, железных дорог и специально оборудованных портов. На кооперативные учреждения этого региона приходилась большая часть ресурсов всех еще существовавших ссудо-сберегательных товариществ. Редкие свидетельства говорят о том, что в данном регионе значительная доля населения вступала в кооперативы: вместо того чтобы бороться за получение скудных ссуд, организаторы кооперативов привлекали в них как можно больше членов с целью увеличить объем паевого капитала. Инфраструктура также создавала возможность определенной специализации хозяйственной деятельности – закупка одних необходимых товаров с целью сконцентрироваться на производстве и сбыте других. Это опровергало заявления о том, что свободная продажа продуктов своего труда на рынке всегда была для изолированного крестьянского хозяйства вынужденной и приводила его к убытку[86]86
Вычисления данных пропорций в хозяйствах не включали в себя Царство Польское и Прибалтийские губернии. Количественные данные за 1896–1897 гг. см.: Ежегодник Министерства финансов. Выпуск 1898 года. СПб., 1899. С. 408–411. Те же данные в систематизированном виде см.: Вестник финансов. 1902. № 21. С. 321–323. О появлении весомых региональных различий в крестьянских хозяйствах к концу XIX в. см.: Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России (1881–1904). М., 1980.
[Закрыть]. Но то, что подобные кооперативы, как и большинство других, возникших в предшествующие десятилетия, с момента основания находились практически вне контроля со стороны некрестьян, позволяло специалистам попросту не замечать их или рассматривать как некую статистическую диковину.
Вознамерившись понять и реформировать «крестьянство», наблюдатели вскоре сформировали у себя более системное представление о собственно крестьянах, но не отказались от того исходного положения о существовании некоего единого «крестьянства», которое остро нуждается в переменах. Для многих из них представление о переменах сводилось к нужде в близком присмотре и управлении, а отнюдь не в институциональной и правовой реформах. Таким образом, объектом реформ становились бы скорее люди, а не условия их жизни или законы, с помощью которых ими управляют. К 1890-м гг. кооперативные деятели пришли к выводу, что они не могут ограничивать свою деятельность бросанием в народ денег и кооперативных уставов, поскольку это может привести к тому, что новые учреждения будут проигнорированы невежественной массой крестьян и подорваны угнетающим деревню кулацким меньшинством[87]87
Мейси также убедительно доказывает, что судебно-правовая реформа не рассматривалась более в качестве панацеи, в кн.: Macey D. Government and Peasant…
[Закрыть]. Вместо этого образованные общественные группы считали должным присматривать за крестьянами и направлять их, напрямую управляя их деятельностью, а не спешить предоставлять им возможность действовать «самодеятельно». Пермское губернское земство лишь первым из многих пришло к выводу, что интеллигент должен быть специально назначенным членом правления каждого кооператива и в этом качестве бороться против тех аспектов «крестьянской жизни», которые идут вразрез с целями кооперативного товарищества: раз кооперативы непременно должны иметь успех у крестьян, они должны находиться под управлением некрестьян[88]88
Об участии губернского земства… С. 366–367; Сборник материалов для истории Тверского губернского земства… Т. 2. Вып. 1. С. 495–496; Соколовский П.А. Деятельность земств по устройству ссудно-сберегательных товариществ. СПб., 1890. С. 330–335.
[Закрыть].
Хотя кооперативные деятели игнорировали статистику межрегиональных различий, они полностью восприняли результаты других новых статистических исследований, быстро создавших образ социально-экономической дифференциации внутри отдельных деревень и регионов. Местные данные сводились в общие суммарные показатели, которые могли проиллюстрировать горизонтальную, но не вертикальную дифференциацию, это способствовало созданию образа действительно дифференцированного «крестьянства» – но дифференцированного сходным образом по всей территории России. Статистики Западной и Южной Европы в тот период также использовали цифры, модели и сводные показатели для создания образа, например, «среднего итальянца» по всей территории нового Итальянского государства и таким образом подтверждали существование единой итальянской нации. Русские статистики во многом придерживались тех же методов, создавая крестьянские типы, которые можно было обнаружить где угодно, и это закономерно формировало единую модель и единообразие «российского крестьянства»[89]89
Итальянские статистики в тот же период помогли появиться на свет единой итальянской нации посредством представления «Италии» в виде единой статистической конструкции. Обзор исторической литературы по проблеме см.: Patriarca S. Numbers and Nationhood. Cambridge, 1996. P. 1–9. О том, как статистические модели «доказывают» существование единого социального организма, см.: Pinnow К.М. Making Suicide «Soviet»: Medicine, Moral Statistics, and the Politics of Social Science in Bolshevik Russia, 1920–1930. Ph.D. dissertation, Columbia University, 1998. Chs 2–3.
[Закрыть]. (Тот факт, что они даже не пытались создавать образ «среднего русского», указывает на массу проблем обособленности и интеграции, с которыми им приходилось сталкиваться.) Работа В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» (1899), в которой локальные статистические данные выступали в качестве иллюстрации процесса всероссийской стратификации, приведшей к формированию трех больших «классов», или «страт», наиболее известна историкам, но она как раз и была основана на данных земской статистики, откуда Ленин и позаимствовал свои статистические категории[90]90
Ленин В.И. (В. Ильин). Развитие капитализма в России: процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности // Поли. собр. соч. 5-е изд. М., 1960. Т. 3. С. 61–180.
[Закрыть]. Начав свою работу в 1870-х и превратив ее к 1890-м гг. в стандартную практику, статистики выработали и укрепили новые концепции деревенской социальной структуры; только теперь уже подсчитывалось не население с учетом юридического статуса, а количество земли, коров и лошадей в распоряжении каждого хозяйства. Понятие «кулак» подверглось серьезной трансформации в работах о крестьянстве: его узкое значение закрепилось за словом «ростовщик», а слово «кулак» стало означать просто зажиточного крестьянина, верхнюю страту (то есть составную часть) общей социальной стратификации деревни[91]91
Сравнив работу Р.Е. Циммермана (Р. Гвоздева) «Кулачество – ростовщичество. Его общественно-экономическое значение» (СПб., 1898) с работами А. Энгельгардта 1870-х гг., можно видеть, как кулак из чужака и захватчика русской деревни превращается в составную часть социально-экономического конфликта внутри деревни.
[Закрыть].
Следовательно, то, что именно статистики намеревались считать, было не менее важно, чем реальные числа. Способ, посредством которого собираются и выводятся цифры, – это призыв к действию, и статистика по социальной стратификации явно подразумевала существование конфликта в деревне и необходимость нового подхода к аграрному вопросу[92]92
Об использовании статистики в политике см.: Darrow D. Politics of Numbers… Chs 3, 6; Stanziani A. Staticiens, zemstva et Etat…; о статистике в медицине: Frieden N. Russian Physicians… P. 81–83, 92–93, 101–102. Обзор того, как статистики систематизировали свои данные для информирования политических решений и использования в политических дебатах в Европе XIX и XX вв., см.: Hacking I. The Taming of Chance. New York, 1990.
[Закрыть]. Социальным инженерам 1860-х гг., сосредоточившимся на юридической базе и институциональной среде, необходимой для развития отдельных людей, предстояло оказаться вытесненными на рубеже веков инженерами человеческих общностей. Даже если общественные деятели и ученые в последующие десятилетия не могли прийти к единому мнению по поводу социологического значения дифференциации (класс или слой, линейная или циклическая мобильность и т. п.), то использование любого из этих терминов предполагало пеструю картину конфликта внутри деревни, требующую активного постороннего вмешательства и посредничества для отбора социальных групп, пригодных для тех или иных инициатив. Тем самым крестьянская община и все обособленное сословие, по сути, открывались для постоянного вмешательства со стороны образованных чужаков. Некоторые выводы из этого концептуального представления стали делаться уже в 1880-х и 1890-х гг.: началось вмешательство в дела деревни с привлечением денежных и юридических средств – с целью разграничить крестьян по слоям и стратам. Пермское губернское земство заключило, что кооперативы «нельзя составлять всюду, где найдутся желающие вступать в состав их, а необходим строгий подбор членов», проводимый земскими уполномоченными. В 1894 г. губернское земство основало Кустарно-промышленный банк для размещения кредитных капиталов среди крестьян, и в докладе 1897 г. о его деятельности высказывалось мнение, что лица, заведующие кредитом, практикуют социально-экономическую селекцию: ими с полной уверенностью заявлялось, что среди успешных ходатаев за получением кредита преобладают середняки. Это совпадало с установкой банка, что если деньги получат сравнительно богатые крестьяне, то они будут эксплуатировать остальных, а деньги, выданные беднякам, никогда не будут возвращены. Князь Васильчиков четко сформулировал весьма популярное на рубеже веков правило, гласившее, что «бедным» нужна благотворительность, «богатым» ничего не нужно, а «крестьянам-середнякам» нужны кооперативы. Образованные группы населения России должны были теперь определить принадлежность каждого крестьянина к определенной категории, частично полагаясь на статистические данные о стратификации[93]93
Доклады Пермской губернской земской управы очередной сессии 1894 г. Пермь, 1895. С. 433; Сборник Пермского земства. 1898. Т. 27. № 6. С. 66; Очерк 15-летней деятельности кустарно-промышленного банка Пермского губернского земства за период 1894–1909. Пермь, 1909. С. 210–240. О А.И. Васильчикове см.: Baker (Petersen) A. The Development of Cooperative Credit… P. 66–81.
[Закрыть].
Однако в 1880-е и 1890-е гг. подобное длительное вмешательство в дела деревни было невозможно. Это была эпоха, впоследствии получившая название «контрреформ», когда недавно пришедшая к власти когорта бюрократии закрепилась у трона и стала углублять идею личной власти царя, стоящую над всеми обособленными сословиями, в виде основной составляющей обновленной идеологии самодержавия. Небольшая часть бюрократии все же считала, что юридическая сословная обособленность закрывает крестьян и от благотворных влияний; но остальные решительно и упорно заявляли, что община и сословная система – это гарантия стабильности в деревне и надежная защита от дифференциации, стратификации и обнищания. Отсюда, между прочим, и шло усиление законоположений, запрещавших крестьянам закладывать или вообще как-либо отчуждать свои земельные наделы. Изменить эти базовые структуры, не согласовав вопрос относительно альтернатив, доказывали они, значило бы подвергнуть крестьян действию сил, им неведомых, и посеять смуту в российской деревне. Предложения Кахановской комиссии в начале 1880-х гг. – учредить мелкую земскую единицу и таким образом сблизить «общество» и деревню – были отвергнуты, что воспринималось многими (включая тех, кто их отверг) как очередная попытка оградить крестьянское сословие от новых внешних воздействий[94]94
Наиболее детальный анализ не получивших хода реформаторских предложений и идеологии контрреформ см.: Wcislo F. Reforming Rural Russia… Chs 2–3.
[Закрыть].
Обособленность, таким образом, была закреплена институционально. Функции земской администрации распространялись на уездный уровень, а ниже располагалась сфера крестьянского самоуправления волостного уровня, работа на котором для представителей других сословий была по определению невозможна. При наличии уездов размером с некоторые европейские страны и деревень, находящихся в сутках или более пути от городов по плохим дорогам или несудоходным рекам, даже просто добраться до некоторых крестьянских хозяйств было весьма непросто. Персонала также не хватало. Агрономы являлись очевидными кандидатами на роль консультантов при кооперативах (это было обычной практикой для Западной и Южной Европы), но лишь в 1877 г. Пермское земство впервые в России смогло нанять земского агронома на полную ставку. К 1895 г. в Российской империи работало всего 86 земских агрономов, а их административные функции довольно редко выводили их за пределы губернских или уездных городов; те же из них, что были наняты непосредственно министерствами, редко покидали Петербург[95]95
Брунст B.E. Земство и агрономия // Юбилейный земский сборник / Под ред. Б.Б. Веселовского и З.Г. Френкеля. СПб., 1914. С. 327; Труды первого Архангельского губернского агрономического совещания-конференции 15–21 декабря 1924 г. Архангельск, 1925. С. 31.
[Закрыть].
Вместо волостных земств или специалистов-профессионалов для пополнения «третьего элемента» правительство ввело на местах должность земского начальника – новый институт личной власти в деревне. Очень скоро эти земские начальники обрели репутацию лиц минимально образованных и злоупотребляющих военными методами управления; к тому же та огромная власть, какую они получили в делах деревни и чудом выживших кооперативах, стала cause celebre среди растущего числа земских и общественно-политических деятелей, призывавших к коренным внутриполитическим реформам в конце XIX в. Земские начальники символизировали скорее державную волю, чем компетентность правления, тиранию, а не разумную систему власти. В качестве местного представителя самодержавия институт земского начальника предполагал неправоспособность (illegitimacy) подконтрольного ему населения – оно подчинялось жестко выстроенной вертикали власти, замыкавшей его в обособленных сословиях[96]96
Wcislo F. Reforming Rural Russia… Ch. 3.
[Закрыть].
Ирония данной ситуации заключалась в том, что на рубеже веков некоторые предпосылки «контрреформ» стали общепринятыми среди тех, кто претендовал на то, чтобы оспорить их. Те самые люди, которые после 1900 г. активно обсуждали, а затем привносили в государственную жизнь новые «прогрессивные» формы организации – включая либеральных бюрократов, земских деятелей и новую когорту специалистов (теоретиков и практиков) по русской деревне и крестьянскому вопросу, – теперь использовали язык прогресса, просвещения и науки, чтобы закрепить традиционные положения: крестьяне слишком темны, чтобы самоорганизоваться перед лицом свободного рынка и его агентов; их невежество есть первопричина их неправоспособности, а значит, они не властны распоряжаться сами собой. Разница заключалась в том, что сторонники контрреформ использовали эти соображения для того, чтобы ратовать за закрытые общности и институты, а шедшие следом новые реформаторы заключали из тех же суждений, что крестьянская неправоспособность оправдывает и делает просто необходимым вмешательство в их дела посторонних, которые определят их интересы, защитят их от врагов и саморазрушительных тенденций. Кооперативы, выступавшие после отмены крепостного права как хороший способ для «свободных крестьян» помочь самим себе, теперь трансформировались в новый способ управления крестьянами.