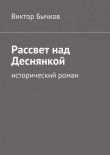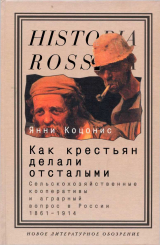
Текст книги "Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914"
Автор книги: Янни Коцонис
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Коцонис Янни
Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914
Посвящается Дионисиосу Стефану Коцонису и Элени Панопалис Коцонис, двум различным меж собою гуманистам


Предисловие к русскому изданию
Я был удивлен и польщен, когда глава издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова обратилась ко мне с предложением перевести мою книгу на русский язык. Я был польщен, поскольку репутация НЛО как издательства, выпускающего серьезную литературу высокого качества, включая переводы монографий, была мне хорошо известна. Подтверждая эту репутацию, редактор серии «Historia Rossica» Михаил Долбилов и переводчик Владислав Макаров приложили особые усилия, чтобы сделать точный и профессиональный перевод этой книги. Это было нелегкой задачей, учитывая, что оригинал написан на сложном английском языке. Я также благодарен г-ну Макарову за помощь в отыскании русскоязычных оригиналов многих цитат, приводимых в книге.
Я был удивлен предложением о переводе, ибо тема книги весьма специфична: аграрные кооперативы досоветского периода. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что наиболее важные проблемы, обсуждаемые в книге, вполне могут вызвать интерес и вне сферы историографии имперской России. Кооперативы, в конце концов, послужили мне поводом для включения в дискуссии по более широким и актуальным темам и проблемам. Среди них, в частности, можно назвать вопрос о способности общества интегрировать, аккультурировать или ассимилировать разнородное население в единую, унифицированную целостность. Может ли общество преодолеть существующие внутри него обособления (particularisms), могут ли культурные, классовые и национальные различия, разделяющие любое общество, уступить место объединяющей идеологии и окажется ли способно это новое общество ценить и уважать прежние различия – вот некоторые из крупных проблем, задававших вектор моих размышлений во время работы над книгой о кооперативном движении в России. Будь то в Европе или Северной Америке, в моей родной Греции или Соединенных Штатах, где я живу, эти вечно острые вопросы интеграции, ассимиляции, а также культурного многообразия занимают мыслителей, разрабатывающих политические, экономические, культурные и социальные проблемы. Сущностная диалектическая антиномия универсализма и партикуляризма была наиболее четко сформулирована Гегелем (и позднее Марксом), и мне казалось, что эта парадигма заслуживает переосмысления на основе изучения целой череды исторических акторов в России.
В постановке вопросов и поиске ответов на них я испытал влияние группы историков, которая была известна мне еще до личной встречи с ними как «ленинградская школа» и которую я связывал с именем П.А. Зайончковского. В России я имел удовольствие встречаться и работать со многими выдающимися представителями этой группы, включая покойного В.С. Дякина, Р.Ш. Ганелина и Б.В. Ананьича. Больше, чем какая-либо другая группа ученых, они повлияли на мое представление о долгосрочных тенденциях и моделях развития, типичных для истории России Нового времени. В России я познакомился и с другими слоями научного сообщества, в том числе с необычайно преданной своему делу когортой архивных работников Санкт-Петербурга, Москвы и Вологды. В Вологде, где я с удовольствием проводил архивные исследования, меня хорошо приняла и воодушевила замечательная команда аграрных историков, в частности ныне покойный П.А. Колесников и высоко ценимый мною коллега и друг В.А. Саблин.
Я глубоко благодарен всем им.
Янни Коцонис, город Нью-Йорк
Выражение признательности
Леопольд Хеймсон был моим наставником с самого начала моей академической карьеры. Я благодарен ему за дружбу и за попытку вывести это исследование за пределы сиюминутного и очевидного. Ричард Уортман своими справедливыми критическими замечаниями поощрял меня к дальнейшей работе над рукописью. Реджи Зелник прочитал рукопись, предложил несколько альтернативных вариантов осмысления приведенных данных и справедливо настоял на том, чтобы я их рассмотрел. Билл Розенберг и Роберта Мэннинг стали моими внимательными, ободряющими (и когда-то анонимными) читателями. Марк фон Хаген был моим строгим учителем в студенческие годы.
На историческом факультете Нью-Йоркского университета Молли Нолан и Джерри Сигел выступили с гораздо более детальной критикой моей работы, чем я мог ожидать. В результате их разбора рукопись потеряла в объеме, но приобрела большую осмысленность; на более поздней стадии работы критические замечания Херрика Чепмена и намеченная им перспектива для дальнейших исследований оказались очень полезными. Группа талантливых аспирантов Нью-Йоркского университета помогла мне уточнить и детализировать мои размышления. Я весьма благодарен факультету и университету за щедрую помощь в виде предоставления необходимых средств и времени для моих исследований. Совет по общественным наукам (SSRC) с самого начала поддерживал мои изыскания, предоставляя гранты для академических командировок. Первоначальное исследование стало возможным благодаря поддержке Комитета по Международным исследованиям и обменам (IREX), а также гранту от Fulbright-Hays. На стадии публикации мне очень помогли гранты Remarque Institute при Нью-Йоркском университете и Национального Совета по Евразийским и Восточно-Европейским исследованиям (NCEEER).
Я постоянно чувствовал поддержку моего хорошего друга Стива Смита, а атмосфера Эссекского университета чрезвычайно благоприятна для интеллектуальной работы. Фрэд Корни в течение ряда лет помогал мне пересматривать мое понимание взаимоотношений между политикой и методом; я с благодарностью вспоминаю наши бесчисленные беседы. В лице Кена Пинноу я нашел друга и неутомимого критика, вместе с которым мы весьма продуктивно размышляли над особенно сложными аспектами исследуемой проблемы. Дэвид Хоффман оказывал мне разнообразную дружескую и профессиональную помощь. Я всегда ценил вдумчивое отношение Питера Холквиста к моей работе. А Чак Стейнведел всегда поощрял меня высказываться, критиковал мои idees fixes о кастовости и национальности и вообще относился к исследованию с большим интересом.
Рэндал Пул, Кристина Уоробек и Кати Фрайерсон высказали чрезвычайно подробные замечания, побудившие меня к дальнейшей работе. Билл Вагнер и Лора Энгелыптейн в своих лаконичных комментариях к моей книге проявили глубокое понимание проблемы. Дэвид Мейси познакомил меня с историографией по аграрному вопросу. Я благодарен Жене Бешенковскому за постоянную готовность помочь реальным советом по работе с источниками. Среди тех, кто помогал мне в той или иной степени, обязательно следует поблагодарить таких замечательных людей, как Френсис Бернстайн, Лаура Биер, Линн Виола, Дмитрий Голобородько, Питер Гэтрелл, В.П. Данилов, Уолтер Джонсон, Р.У. Дэвис, Александр Китроев, Г.С. Кнабе, Стив Коткин, Кимитака Мацузато, Нелли Ор, Томас Орт, В.А. Саблин, Дэн Филд, Стив Хок, Рональд Шарбоно и Барбара Алперн Энгел. Я особенно признателен сотрудникам архивов в Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге и Вологде, сохраняющим замечательные исторические документы в очень трудных условиях.
Я также благодарен сотрудникам издательства «Макмиллан» Тиму Фармилоэ и Аруне Васудеран за отзывчивый и конструктивный подход к моей рукописи, а Кристине Заба – за тщательную корректорскую работу. Особая благодарность Лиз Вульф за помощь в составлении именного указателя.
Мои близкие и дальние родственники всегда поддерживали меня, в каком бы месте земного шара я ни находился и как бы далеко в прошлое я ни уходил в своих мыслях. Как бы ни менялись обстоятельства, я всегда чувствовал товарищескую поддержку Моник Луиз Улетт: plus да change, plus je m’en souviens. И, наконец, моя муза Кейт Уоррен будет рада наконец увидеть эту работу законченной – как, впрочем, и я сам.
Янни Коцонис
Введение
ОТСТАЛОСТЬ, ЛЕГИТИМНОСТЬ И ГОСПОДСТВО В РОССИЙСКОЙ И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
1. Значимость проблемы
Сельскохозяйственные кооперативы, выступая в качестве добровольных общественных учреждений, объединяли в пореформенной России больше населения, чем любые иные институты. В 1914 г. в 17 000 кооперативов входило от 8 до 9 млн. членов, то есть от 1/4 до 1/3 всех крестьянских хозяйств. Члены кооперативов могли помещать и хранить в них свои сбережения, получать ссуды, совместно выращивать, обрабатывать и продавать на рынке свою продукцию, а также закупать оборудование и товары, необходимые для аграрного производства. Привлекательность кооперативного движения заключалась в том, что оно давало возможность довольно быстро и реально улучшить материальные условия жизни сельского населения[1]1
Анализ этих и других данных см. в параграфе «Живые цифры» Главы 5 данной книги. О потребительских кооперативах в русских городах см.: Salzman С. Consumer Societies and the Consumer Cooperative Movement in Russia, 1897–1917. Ph.D. diss. Univ. of Michigan, 1977.
[Закрыть].
Количественные оценки в данном случае действительно имеют значение, поскольку современники вкладывали в кооперативное движение политический, социальный и культурный смысл; не отстают от них и историки, изучающие это движение (хотя не так уж усердно) в течение целых десятилетий. Российская империя была сословным государством, в котором за каждым подданным самодержавной власти закреплялся юридический наследственный статус, связанный с набором обязанностей и привилегий. В пору, когда затянувшаяся взаимная обособленность различных сословий стала предметом напряженных дискуссий, кооперативы оказались единственным организованным массовым движением, способным объединить все сословия на добровольных началах. В отличие от местной общинной администрации, исключительно крестьянской по составу, а также от земского самоуправления, избираемого на основе сословного и имущественного ценза, а потому контролируемого дворянами-землевладельцами, кооперативы объединяли людей на основе их совместного участия в делах деревни[2]2
Типичные примеры осмысления и описания этих понятий и ситуаций в эмигрантской литературе см.: Kayden Е., Antsiferov N. The Cooperative Movement in Russia during the War. New Haven, 1929; Бородаевский C.B. История кооперативного кредита. Прага, 1923. Примеры из исторической литературы: Давыдов А. Ю. Свободная кооперация в России (до октября 1917 года) // Вопросы истории. 1996. № 1. С. 24–40; Кабанов В.В. Кооперация, революция и социализм. М., 1996. Гл. 1–4; Крестьянская община и кооперация России XX века. М., 1997; Корелин А.П. Мелкий крестьянский кредит и его роль в развитии аграрного капитализма в России в конце XIX – начале XX века // История СССР. 1989. № 4. С. 53–70; его же. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX – начале XX в. М., 1988; Baker А.В. (Petersen). Community and Growth: Muddling through with Russian Credit Cooperatives // Journal of Economic History. Vol. 37 (March 1977). № 1.
[Закрыть].
В условиях политической и социальной фрагментации старого режима кооперативы к тому же казались одним из немногих поприщ, где группы, разобщенные в других обстоятельствах – особенно профессионалы недворянского происхождения, дворяне-землевладельцы и государственные чиновники, – могли бы на время забыть о своих столь различных политических и социальных программах и преследовать общие цели. Кооперативы являлись центральной темой в трудах ученых организационно-производственного направления, ярко представленного А.В. Чаяновым; влияние этой школы и сейчас продолжает сказываться в российском и зарубежном крестьяноведении. То, что теоретики предлагали на бумаге, агрономы пытались реализовать на практике с помощью кооперативов – к тому же эти учреждения давали им, несмотря на их недворянское происхождение, влияние в делах деревни[3]3
Наиболее влиятельным среди теоретиков организационно-производственного направления является Теодор Шанин, см.: Shanin Т. The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society, Russia, 1910–1925. Oxford, 1972. О месте кооперативов в трудах этой школы см.: Yaney G. The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia, 1861–1930. Urbana, Ill., 1982. Ch. 9.
[Закрыть]. Дворяне-землевладельцы, понесшие убытки вследствие освобождения крестьян 1861 г. и наученные опытом крестьянских восстаний 1905–1907 гг., обратились к кооперативам, стремясь получить новую роль в аграрных делах и по-новому выстроить отношения с крестьянами. Что касается правительственных чиновников, то, например, С.Ю. Витте – министр финансов и организатор индустриализации 1890-х гг. – рассматривал кооперативы как хороший способ помочь крестьянам приспособиться к тем экономическим изменениям, для проведения которых в жизнь он сделал столь много. П.А. Столыпин, по имени которого была названа земельная реформа, начавшаяся в 1906 г., и В.А. Кривошеин, который главным образом отвечал за аграрную политику после 1908 г., – оба видели в кооперативах союзы земельных собственников и реальную альтернативу «архаической» общине, и более того – предвосхищение будущей интеграции крестьян в качестве экономически активных индивидов. В.Н. Коковцов (преемник Витте на посту министра финансов с 1905 г. и Столыпина на посту премьер-министра с 1911 г.) использовал кооперативы как основной канал, через который крестьяне получали от государства кредиты и субсидии, в тот самый период, когда расходы на сельское хозяйство в государственном бюджете значительно выросли.
Несмотря на столь различные цели, а также на социальные и политические беспорядки, переросшие в революцию 1905–1907 гг. и разрешившиеся падением старого режима в 1917 г., кооперативы показали, что Российская империя в состоянии приспособиться к серьезным переменам и мобилизовать для этого людей и ресурсы поверх сословных границ; это позволило различным социальным группам делать общее дело и добиваться ощутимого экономического прогресса. В последующие годы в кооперативном движении, казалось бы, обозначилось то равновесие социальных интересов, которое могло бы быть достигнуто, если бы не подъем большевизма, выступившего за радикальное решение аграрного вопроса[4]4
Это утверждение проникло и в литературу общего характера. См.: Nove А. An Economic History of the USSR. London, 1992. P. 16, где масштаб кооперативного движения до 1917 г. оценивается как создававший возможность для скачков в сельском хозяйстве.
[Закрыть].
Именно в этом я видел суть проблемы, приступив к анализу источников и литературы на начальной стадии изучения аграрного кооперативного движения в Российской империи[5]5
Исторические труды Корелина и Бейкера касаются только кредитной кооперации; обзор Кейдена и Анциферова охватывает и период Первой мировой войны. В работах Кабанова рассматриваются разные стороны вопроса, но в целом достаточно схематично.
[Закрыть]. Очень скоро для меня стало очевидным, что во многих своих проявлениях болезнь, которую кооперативы предназначены были излечить, в действительности была привнесена в само это движение, причем в узнаваемых формах. Выяснилось, что современная литература о кооперативах, представлявшая их в столь благовидном свете, создавалась людьми, вовлеченными в далекую от гармонии полемику о настоящем и будущем России и крестьянства и о своей собственной роли в этом будущем. Кооперативы воплотили в себе противоборство за право авторитетно судить о крестьянах и говорить от их имени, столкновение различных стратегий действий в отношении крестьянства и притязаний на влияние в его среде. Все соглашались с тем, что кооперативное движение способствует возникновению динамичного государства, но природа и характер этого государства вызывали бесконечные споры. Вопрос о том, кто и на каком законном основании будет осуществлять в нем властные полномочия, привел к еще более существенной конфронтации вокруг природы режима. Все хотели видеть Россию сильной и единой, но на вопрос о том, чем же быть России – точнее (если использовать крайнюю и редко встречавшуюся формулировку), должна ли она стать нацией сограждан, а не империей верноподданных, – не находилось легкого ответа, и кооперативное движение скорее лишь отражало, нежели разрешало данную проблему.
Самое удивительное, как со всей определенностью показали источники, что во всех центральных и местных правительственных учреждениях, на всех профессиональных и кооперативных собраниях и съездах, где толковали о крестьянах, самих крестьян хотя иногда и видели, но никогда не слышали. Из этого стало понятно, почему все разнообразные антагонистические группы устроителей крестьянских судеб все же смогли работать вместе в кооперативах, нередко замалчивая взаимные разногласия. Их понимание крестьянства было поразительно схоже в одном: крестьяне бессловесны; именно такой образ крестьянства был основанием для их дебатов, согласия и расхождений.
Превращение крестьян в пассивный объект едва ли удивительно – такая тенденция скорее даже ожидаема в любом суждении конкретного лица о любой иной социальной группе, а уж крестьян это касалось, пожалуй, в наибольшей степени[6]6
Bourdieu Р. Une classe objet // Actes de la recherche en sciences sociales. 1977. № 17/18.
[Закрыть]. Всякое утверждение относительно социальной реальности требует сокрытия многообразия в обобщении, а также растворения личности в абстракции. Итоговое заключение, что «ничего делать не нужно», так же как и предположение, что «что-то сделать обязательно нужно», одинаково требовали абстракции и генерализации; таковыми, по сути, и были комментарии по поводу того, кем являются крестьяне, кем они не являются и как (если это вообще возможно) они могли бы измениться. Не было уникальным для какой-либо одной реформаторской программы или отдельной страны и настойчивое стремление найти дефиницию крестьянства in absentia и преобразовать крестьян на практике. В этом смысле понятие «придания инакости», «очужачивания» (othering), которое историки, литературоведы и социологи стали определять как грозное силовое упражнение того или иного носителя власти, применимо к каждому утверждению о реальности и изменениях; в своем широком значении «очужачивание» – это акт дефиниции и речи. Если мы только не намерены воздержаться от любых суждений или настаивать на том, чтобы исторические деятели оставили крестьян в покое[7]7
Как кажется, в этом заключается главный тезис работы: Yaney G. The Urge to Mobilize… – Впрочем, за аргументацией автора не так легко уследить. Критику положений данной книги и особенно «загадочного» использования понятия мобилизации см.: Macey D. Freedom, Progress, and Salvation // Journal of Peasant Studies. Vol. 11. (Fall 1983). № 1.
[Закрыть], то вопрос для нас будет заключаться в том, что существовали различные способы реформировать и править, и каждый из них подразумевал различные видения социального устройства и политической власти[8]8
Исторические трактовки, которые выходят за пределы первоначальной разработки Эдварда Саида (Said Е. Orientalism. New York. 1979), см. в контрастирующих с тезисом Саида работах: Malon F. Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Per. Berkeley, 1995; а применительно к русистике – в
Заключении книги: Slezkine Y. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, N.Y., 1994.
[Закрыть].
Ближайшая задача – понять, как каждая из этих групп понимала крестьян, как их предположения и взгляды раскрывались в массовом кооперативном движении до 1914 г., а также что в каждом из этих предложений содержалось для реального социального и политического устройства России. В этом отношении ключ к анализу столь различных групп отыскивается в том общем основании, на которое они опирались, – в представлении об «отсталости», т. е. в априорном утверждении, что крестьянство является «отсталым», и заключении, что «отсталость» делает необходимым вмешательство (или пассивное благодеяние) со стороны тех, кто «отсталым» не является. Это понятие «отсталости» и составляет главный предмет дискуссии в данной книге. «Отсталость» смешивалась с множеством различных социальных, экономических, политических и культурных программ в качестве настоящей идеологии и выступала как самодостаточная истолковательная структура, как способ ставить диагноз и осмысливать факты, как основание для решения – действовать или бездействовать. Если идеи «отсталости» и «прогресса» были широко распространены в образованном обществе, то они скорее составляли бинарную оппозицию и таксономию, чем прорисовывали траекторию, ведущую к универсальному «прогрессу». Понятие «прогресса» использовалось лишь для утверждения, что большинство населения является «отсталым», и вследствие того стало препятствовать появлению иной идеологии, которая признавала бы за крестьянами способность к пониманию самих себя и которая помогла бы им увидеть себя, наряду с другими группами, легитимными акторами в том или ином политическом устройстве.
2. Отсталость и прогресс как идеология и основа легитимности
Категория «отсталости» обычно связывается с понятием «модернизации», которая понимается как столкновение воплощенной «традиции» с динамичным «изменением», как универсальное шествие к «прогрессу»[9]9
Краткий историографический и критический обзор см.: Tipps D. Modernization Theory // Comparative Studies in Society and History. fol. 5 (1973). № 2. См. также принадлежащую Махмуду Мамдани характеристику модернизации как «истории по аналогии» – истории, где прошлое Запада принимается за будущее стран третьего мира: Mamdani М. Citizen and Subject: Colonial Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton, 1996 (особенно c. 12).
[Закрыть]. Термин «модернизация» теперь менее распространен в исторической литературе, чем в 1960-х и 1970-х гг., но многие базовые посылки этой школы прошли сквозь десятилетия, оставшись в той или иной степени неприкосновенными. Особенно это касается исследований по русской истории, где речь об отсталости идет постоянно, и это понятие используется для того, чтобы осмыслить факты, в свою очередь служащие иллюстрацией отсталости. В этом смысле «отсталость» в качестве истолковательной структуры составляет порочный круг. В истории экономического развития России отсталость одновременно выступает причиной и следствием, например, недостатка тракторов до 1930-х гг., низкого уровня товарно-денежных отношений, монетизации и накопления капитала, скажем, в 1913 г., ав более широком смысле – неспособности России к ускоренной или более равномерной и устойчивой по темпам модернизации и урбанизации. Но немногочисленные суждения об экономике помещаются в рамки узко понятой экономической теории[10]10
Woolf L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, 1994. P. 9—11. [См. перевод: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. – Примеч. ред.]
[Закрыть]. Как недавно заявил один исследователь: «Отсталость в новой и новейшей истории России не исключительно экономическая, а всеохватывающая категория, включающая в себя одновременно экономические, социальные, политические и культурные факторы»[11]11
Malta М. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia. New York, 1994. P. 56.
[Закрыть]. Культурная отсталость предстает здесь и причиной, и следствием низкого уровня грамотности, скажем, в 1914 г., необычно высокого уровня потребления алкоголя в любой период новой истории России и высокого уровня заболеваемости и смертности до 1950-х гг.[12]12
О взаимосвязи между отсталостью и медициной см. Введение к книге: Frieden N. Russian Physicians in the Age of Reform and Revolution. 1861–1905. Princeton, 1979; между отсталостью и алкоголем см.: Christian D. Living Water: Vodka and Russian Society on the Eve of Emancipation. Oxford, 1990; между отсталостью и грамотностью см. Введение и Заключение книги: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Culture. Princeton, 1985.
[Закрыть] Политическая отсталость выступает причиной (и одновременно следствием) репрессивности самодержавного государства в XIX в., советского – в XX в., а также явного отсутствия или слабости «гражданского общества» в новой истории России[13]13
О политической отсталости и гражданском обществе см.: Pipes R. Russia Under the Old Regime. New York, 1974 [См. перевод: Пайпс P. Россия при старом режиме. М., 2004. – Примеч. ред.], где «примитивные» отношения собственности и слабое гражданское общество выступают в виде обычных факторов отсталости и наоборот; Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. London, 1960 [См. перевод: Шапиро Л. Коммунистическая партия Советского Союза. Лондон, 1990. – Примеч. ред.] и его же. Origins of the Communist Autocracy. 2nd ed. London, 1977.
[Закрыть]. Социальная отсталость подается в виде причины и следствия незавидного положения этнических меньшинств и женщин в царской и советской России, не говоря уже о постсоветском периоде[14]14
Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Revised ed. Cambridge, Mass., 1997, где национальные группы характеризуются как готовые или неготовые к независимости соответственно степени «отсталости». Противоположный подход см. в книге: Slezkine Y. Arctic Mirrors… См. также недавнее исследование, которое убедительно показывает, что женщины также участвовали в общем проекте политической, экономической, социальной и культурной модернизации: Engel В.А. Transformation versus Tradition // Russia’s Women / Ed. by B.E. Clements, B.A. Engel, and C.D. Worobec. Berkeley, 1991 (особенно c. 136).
[Закрыть]. Любой из этих типов подкрепляется ссыпками на остальные, так что в итоге отсталость становится самодостаточной и автореферентной.
Многие работы, написанные в этой парадигме, остаются классическими в своей области. Ни один из фактов, приводимых в них, не является заведомо ложным. В России действительно было меньше тракторов на душу населения, чем в других крупных европейских государствах, и истинная правда, что большинство деятелей, когда-либо обсуждавших этот вопрос, считали, что Россия должна иметь больше тракторов. Это может дать нам основание трактовать отсталость как историческое явление скорее в терминах субъективного восприятия, чем эмпирической реальности. Но когда факт занимает свое место в бесконечном ряду других фактов, которые не только объясняют отсталость, но и объясняются ею, он становится частью целой идеологии, системы, предметом веры, истолковательной функцией и основанием для предписаний и оценок тех или иных действий и исторических феноменов[15]15
Понятием «прогресс» насыщены неприкрыто пристрастные концепции: Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge, Mass., 1975 [см. перевод: Ростоу B.B. Стадии экономического роста. Нью-Йорк, 1981. – Примеч. ред.]; NisbetR. History of the Idea of Progress. New Brunswick; New Jersey, 1994.
[Закрыть].
«Идеология» здесь понимается в широком смысле, так как «отсталость» не знает различий между левыми и правыми. Как те, так и другие, в конце концов, выросли из одного корня – Просвещения; которое и произвело на свет «прогресс» и «рациональность» в качестве стандартов для классифицирования стран, людей, культур, экономик и обществ[16]16
Общие критические исследования: Baker К. Condorcet: From Natural Philosophy to Social Mathematics. Chicago, 1975; Trouillot M.-R. Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston, 1995; исследования о Восточной Европе: Woolf L. Inventing Eastern Europe…; о Российской империи: Kingston-Mann E. In the Light and in the Shadow of the West: The Impact of Western Economics in Pre-Emancipation Russia // Comparative Studies in Society and History. fol. 33 (January 1991). № 1; о случаях России и СССР в европейском контексте см.: Malia М. The
Soviet Tragedy… Ch. 1. По советскому периоду см.: Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkeley, California, 1995. P. 6–9.
[Закрыть]. Марксисты и народники, равно как и классические либералы или консерваторы, исходили из предпосылки, что Россия страна отсталая, и с этого утверждения начинали спор о том, «что делать» с очевидной всем им отсталостью. Классической среди либеральных историков остается трактовка данной проблемы в книге Александра Гершенкрона «Экономическая отсталость в исторической перспективе». Она превращает оппозицию «отсталость – прогресс» в динамичный инструмент анализа исторического и современного мирового развития, используя промышленность как стандартное мерило прогресса, влияющее на оценку экономической системы, культуры, социального и политического устройства. «Иерархия отсталости» Гершенкрона усиливает и выражает в количественных показателях идею европейского географического противостояния – между Англией на крайнем Западе и Россией на крайнем Востоке. Автор подчеркивает емкий, символичный прием противопоставления Запада (поступательное развитие) и Востока (который понимается исключительно негативно, как удаление от прогресса). Россия выступает, по словам Теодора фон Лауэ, как «карикатурное отражение Запада»[17]17
Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Mass., 1962. P. 21; и Laue T. von. Why Lenin? Why Stalin? Philadelphia, 1964. P. 228.
[Закрыть]. Судя по недавним статьям в сборнике «Происхождение отсталости в Восточной Европе», исследователи-марксисты следуют именно этой традиции, так как указывают, что шествие исторического прогресса на Западе остановилось на рубеже Эльбы, Одера и Вислы. Все остальное – это уже не история, а ее отсутствие, т. е. история того, что не случилось. Поэтому по-своему логично помещение в сборнике статьи, которая описывает восточноевропейскую отсталость, исследуя не историю Восточной Европы, а «прогресса» Европы Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной[18]18
Brenner R. Economic Backwardness in Eastern Europe in Light of Developments in the West // Origins of Backwardness in Eastern Europe / Ed. by D. Chirot. Berkeley, 1989. Для Бреннера, как и для Малиа, «упрощенность» восточной социально-экономической организации есть симптом отсталости; с точки же зрения Пай-пса, Россию сделала «отсталой» сложность социальной системы.
[Закрыть].
Отвечая критикам, которые недооценивают западный триумфализм и ориенталистские обертоны всей этой конструкции, ряд видных историков справедливо отмечает, что отсталость не является западным изобретением, хотя и нуждается в идее Запада, чтобы иметь какой-то смысл. Как отметил Мартин Малиа, практически любой формально образованный русский согласится, что Россия исконно была «отсталой» и «неразвитой» страной, и это, в свою очередь, объясняет ряд феноменов русской истории – от крушения старого режима и гигантских трагедий Гражданской войны и сталинизма до бессмыслицы брежневской эпохи; или от сегодняшнего пришествия капитализма или «псевдокапитализма» в постсоветскую Россию до произвола властей и чиновничества в прошлом и настоящем[19]19
Это параллели, которые проводит Малиа в своем побуждающем к раздумьям и широком по охвату материала исследовании «The Soviet Tragedy…».
[Закрыть].
Отсталость не есть западное изобретение и тем более не продукт воображения историков. Многие из наших предпосылок мы вывели из русских первоисточников, и это помогает понять устойчивость и постоянную самовоспроизводимость данной конструкции. Анализируя тексты, оставшиеся после представителей имперской бюрократии, их критиков и ярых противников-революционеров, мы видим, как понятие отсталости пронизывает, предваряет и завершает большие и малые опусы, разработки политических стратегий и конкретные действия. Какие угодно темы раскрываются при помощи сравнительных таблиц и графиков, содержащих количественные показатели достижений России в сравнении с другими крупными европейскими странами. Наши источники подтверждают то представление о ступенчатом нисхождении от Запада к Востоку (East-West gradient), которое было столь захватывающе описано Гердером и Гегелем и еще больше развито марксистами, характеризовавшими Россию не иначе как «восточной деспотией» с господством «примитивного» или «азиатского» способа производства.
Очевидно, что отсталость имеет собственную историю, и стоит выяснить, что именно понимали под отсталостью те люди, которые пользовались этим понятием в повседневных размышлениях и деятельности. В этой связи весьма существенно, что антагонистические во всем остальном группы могли вести дебаты устно или в печати, обходясь друг с другом как «культурные люди» и становясь своего рода сообщниками, когда заходил откровенный разговор о тех, кто «культурным» не был. И тот факт, что очень немногие идут настолько далеко, чтобы назвать самих себя отсталыми, должен предупредить нас о некоторых риторических и легитимизирующих функциях данного термина. Человек, в чьем словаре этот термин занимает видное место, утверждает, что он сам «передовой» и способен высказывать свое мнение о тех, кто представляется ему неправоспособным (illegitimate)[20]20
По сути, закон признавал, что крестьяне невежественны, а потому не могут отвечать за свои поступки и поведение, а также то, что кулак обладает властью над другими крестьянами, причем действуя за их счет. Это низводило всех крестьян до состояния «неправоспособности» – любым их действиям всегда не хватало легитимности.
[Закрыть] из-за своей отсталости. Этих спорщиков занимал вопрос не о том, было ли крестьянство отсталым, а о том, кто из них более подготовлен к борьбе с крестьянской отсталостью. Следовательно, история отсталости предполагает и объяснение того, как этот термин развивался и, в конце концов, стал использоваться (с прямыми практическими последствиями) в стратегиях легитимизации, не говоря уже о непрекращающейся риторической борьбе.
В рамках той же структуры – культурной легитимности – можно подвергнуть критическому анализу множество терминов и бинарных оппозиций, которые использовались историческими деятелями как нечто само собой разумеющееся, как элементы понятного и прозрачного для всех языка. Случайная ссылка на чью-то «темноту» намекала на «просвещенность» писавшего об этом автора. Термин «общество» в значении, распространенном к 1914 г., редко обозначал население России в целом (как позже), но предполагал принадлежность к образованной и состоятельной элите, являвшейся «культурной» и «цивилизованной». Данный термин противопоставлялся «народу» или лишенным индивидуальности «массам»[21]21
Удачную характеристику «общества» в период освобождения крестьян см.: Wcislo F.W. Reforming Rural Russia: State, Local Society and National Politics, 1855–1914. Princeton, 1990. Ch. 1.
[Закрыть]. По крайней мере в знак отличия от масс «общество» было сопоставимо с интеллигенцией, которая – в минималистской версии термина – подразумевала формальную образованность, умение обобщать и абстрагировать и обладание критическими способностями, которыми обделены другие[22]22
О различных прочтениях и толкованиях понятия «интеллигенция» см.: The Russian Intelligentsia / Ed. by R. Pipes. New York, 1961.
[Закрыть]. Ссылки на «сознательного» фабричного рабочего или, гораздо реже, на сознательного крестьянина недвусмысленно намекали на многих других, которые были «несознательными» или «стихийными»[23]23
О «сознательном рабочем» см.: McDaniel Т. Autocracy, Capitalism, and Revolution. Berkeley, 1988. Эксплицитно критическую трактовку «сознательности» в отношении к хаосу см.: Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia. Ithaca, NY, 1992. Pt. 2. [См. перевод: Энгелыитейн Л. Ключи счастья: секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX вв. М., 1996. – Примеч. ред.]
[Закрыть]. На практическом уровне такие понятия, как «рациональность» и «организация», незамедлительно ставили вопрос: можно ли рационализировать иррациональное и организовать неорганизованное, а если можно, то каким образом.
Относящиеся к образованным группам термины – такие как «интеллигент», «общество», «дворянство», «чиновник», «партийность» – должны фигурировать в любом нарративе о той эпохе (включая настоящий), ибо они помогают объяснить очевидную фрагментацию политического влияния в Российской империи[24]24
Эта фрагментация первоначально охарактеризована Леопольдом Хей-мсоном как «дуальная поляризация» в его исследовании: Haimson L. The Problem of Social Stability in Urban Russia // The Structure of Russian History / Ed. by M. Cherniavskii. New York, 1970. Этот подход был впоследствии разработан Альфредом Рибером: RieberA. The Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / Ed. by E. Clowes, S. KasSow and J. West. Princeton, 1991.
[Закрыть]. В то же время эти признаки различия перекрывались общими для всего русского образованного общества исходными посылками: различные группы связывал уже тот факт, что они могли обсуждать одни и те же вопросы внутри общей для них структуры воззрений, несмотря на разницу в выводах, к которым они могли прийти[25]25
Сходное определение сообщества см.: Sabean D. Power in the Blood: Popular Culture and Village Discourse in Early Modem Germany. Cambridge, 1984. P. 29. Подобные аргументы, но применительно к реформе семейного права в тот же период, см.: Wagner W. Marriage, Property and Law in Late Imperial Russia. Oxford, 1994. Катерина Кларк изучала различные группы образованного населения как часть «экологии революции»: Clark К. St.Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, Mass., 1996 (особенно c. ix – x). Еще один автор признает, что чиновники, земство и отдельные профессионалы могли работать вместе в кооперативах, но не проясняет основы такого сотрудничества: Ким Чан Чжин. Государственная власть и кооперативное движение в России (СССР). 1905–1930 гг. М„1996.
[Закрыть].
Аграрный вопрос, в рамках которого обсуждалось множество экономических, политических, общественных и культурных тем, соединял, разделяя. Кооперативное движение, в частности, дает редкую возможность не только очертить эту общую сферу, но и проследить практические последствия дискуссий на местном уровне. Важно показать (там, где это возможно), как идеи могут отражать и реально отражают значимые социальные отношения и непосредственно влияют на миллионы людских судеб. Эти идеи переносились из области абстракции – статей или научных трудов, собраний, докладных записок, распоряжений и указов, бюджетных ассигнований, учебных планов и программ профессиональных съездов – в повседневные дела и мысли многих людей и в конечном итоге приводили к грандиозным переменам.