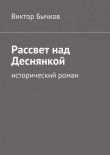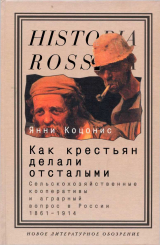
Текст книги "Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914"
Автор книги: Янни Коцонис
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
3. Модерность (modernity) и господство
Намеренное отступление от системы юридически приписанных идентичностей (ascribed legal identities)[26]26
Терминами «ascribed identity», «ascriptive category» и др. обозначается система социальной идентификации, при которой социальная категория не прилагается (в числе других) к индивиду как отражение конкретных и изменчивых характеристик его общественного положения и самосознания, а «приписывается» и зачастую юридически закрепляется, как это и было с большинством сословных категорий в императорской России. – Примеч. ред.
[Закрыть] в Европе XIX и XX столетий было распространенной моделью. Не составляла исключения и Россия. Историкам эта модель более всего знакома по воображаемой (и все же полезной) схеме перехода от сословия к классу, которая, помимо анализа разложения сословной системы, предположительно обозначает курс развития государства и социума[27]27
О сословности в России см.: Freeze G. The Soslovie (Estate) Paradigm in Russian Social History // American Historical Review. Vol. 91 (1986). № 1 [Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период / Сост. М. Дэ-вид-Фокс. Самара, 2001. С. 121–162. – Примеч. ред.]; о консервации сословности см.: Haimson L. The Problem of Social Identities in Early Twentieth Century Russia // Slavic Review. Vol. 47 (Spring 1988). № 1. О сословности и классах в Европе в целом см.: Mayer A.J. Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War. New York, 1981; в России – см. Заключение книги: RieberA. Merchants and Entrepreneurs in Late Imperial Russia. Chapel Hill, 1982.
[Закрыть]. В некоторых своих прочтениях данная схема привносит телеологию и задает стандарт для измерения «прогресса», достигнутого в России при старом режиме. Именно этот телеологический аспект, просматривающийся в эволюции и практике кооперативного движения, может вызвать затруднения у исследователя.
«Крестьянство» всегда было гибкой категорией даже для тех, кто воспринимал его не иначе как материализовавшийся бастион традиции. В любую эпоху принадлежность к «крестьянству» могла наполняться различным смыслом для одних и тех же людей. Юридическое единообразие было придано крестьянскому сословию только крестьянской реформой 1861 г., которая постановила, что крепостные более не зависят от дворян-землевладельцев и сливаются с другими полусвободными категориями населения, особенно государственными крестьянами. Законодательство 19 февраля, однако, не указало, могут ли освобожденные крестьяне развиться в иную, чем сословие, категорию, в чем многие увидели не освобождение, а новую форму зависимости. По этой причине даже распространенное представление о том, что сословность есть ключ к всестороннему пониманию крестьянства, долго не продержалось. С 1860-х по 1890-е гг. кооперативная политика была ориентирована на всех членов крестьянского сословия и стала причиной неожиданной динамики, которая обеспокоила инициаторов движения, открывших в крестьянстве социально-экономические различия. С конца XIX в. чиновники снова стали внедрять кооперативы среди крестьянства, которое они теперь видели дифференцированным и подлежащим описанию скорее в экономических и социальных, чем в одних лишь юридических терминах[28]28
Frierson C. Peasant Icons. Representations of Rural People in Nineteenth-Century Russia. New York, 1993.
[Закрыть].
Перемены в кооперативное движение были привнесены в 1890-х гг. политикой С.Ю. Витте, уделявшего главное внимание «трудовому крестьянству», которое определялось по экономическим критериям. Столыпин и Кривошеин ввели в кооперативы и аграрную политику принцип различия форм собственности как механизм селекции в крестьянской среде. Эти разграничения (в основу одних было положено трудовое начало, в основу других – критерий собственности) были после 1905 г. детально разработаны и снабжены научным, экономическим и социологическим базисом экономистами и теоретиками организационно-производственной школы, которым содействовали агрономы-практики. Не все современники согласились с тем, что сословность нужно отбросить, – дворяне-землевладельцы в земствах и такие бюрократы, как В.Н. Коковцов, сомневались в этом. Однако сословность все же была предметом дискуссии, а не исходной посылкой суждений, и даже самые упорные сторонники пытались сочетать этот принцип с альтернативными способами социальной категоризации.
Подобные перемены часто характеризовались как «прогрессивные», поскольку вели к более «подвижному обществу», в котором каждая категория населения определяется не по юридическим границам и обязанностям, а по своей социальной, культурной и экономической значимости и самостоятельно сделанному выбору. Особенно важно было то, что эти изменения предполагали (в той мере, в какой новые категории были достаточно гибкими) преодоление тех культурных барьеров, которые отделяли крестьянина от некрестьянина[29]29
Увлекательное и тонкое исследование расходящихся представлений о различиях, в данном случае этнических, см.: Knight N. Grigoriev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? Данная работа была представлена в виде доклада на межфакультетском семинаре по русской истории в Колумбийском университете, округ Нью-Йорк, в мае 1998 г. [и позже опубликована: Knight N. Grigoriev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. № 1. – Примеч. ред.]
[Закрыть]. Но преодоление это не обязательно предусматривалось, а в намерения некоторых деятелей и вовсе не входило. Скорее оно подразумевалось противоречием между замыслами и действиями множества сменявших друг друга образованных групп. Внедрение новых экономических, социальных и культурных категорий не обязательно клало конец сословной ментальности и сословности как основе общественного устройства, если даже они были несовместимы с юридическими нормами сословности. Новые категории могли быть не юридическими, а культурными, но при этом оставаться жестко приписанными (ascriptive) и ригидными[30]30
Примеры приписывания (ascription) модерных идентичностей в России и СССР см. в статье: Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // Journal of Modem History. Vol. 65 (December 1993). [Cm. перевод: Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // Американская русистика. Вехи историографии последних лет: Советский период. Самара, 2001. С. 174–207. – Примеч. ред.]; и два исследования вопроса о «паспортной национальности»: Brubaker R. Nationhood and the National in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia // Theory and Society. 1994. № 23; и Slezkine Y. The USSR as a Communal apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. Vol. 53 (Summer 1994). № 2. [См. перевод: Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность / / Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период. Самара, 2001. – Примеч. ред.]
[Закрыть]. Проблема, таким образом, заключается не только в том, менялись ли право и институты, но и в тех представлениях, которые пронизывали собою законы и придавали смысл институтам.
Противоречие вполне четко просматривается не только в культурной обособленности крестьян от некрестьян, но и в попытке сортировать крестьян по их экономическим и социологическим функциям (особенно по таким характеристикам, как «трудовой» и «нетрудовой» или «производительный» и «непроизводительный») и на основании этого вычленять и изолировать группы крестьян друг от друга законодательно и на практике. Если эти категории и отступали от юридической сословности, они все равно могли оставаться корпоратистскими (corporatist) в том смысле, что предполагали приписывание идентичности по критерию выполняемой функции и посредством принудительного обособления[31]31
См. определение корпоратизма (corporatism): Schmitter Р. Still the Century of Corporatism? // Review of Politics. № 36 (1974). О живучести корпоратизма вопреки исчезновению сословий в межвоенной Европе см.: Maier С. In Search of Stability: Explorations in Historical Political Economy. Cambridge, 1984; о том же в Восточной Европе: Janos A. The Politics of Backwardness in Hungary, 1825–1945. Stanford, 1982.
[Закрыть]. Кроме того, тем самым поднимался вопрос о власти. Постулировав, что крестьянские сообщества распадаются на антагонистические элементы, теперь наблюдатели доказывали, что перемены требуют вмешательства извне для утверждения порядка и согласия там, где они не видели ни того ни другого. Это был полный, безоглядный отход от представлений об однородной сельской массе, которой можно управлять, оставаясь вдали от нее: новая схема предполагала прямое участие государственных и местных агентов в делах деревни и впервые обещала внедрить «культурных людей» в местные сообщества на систематической, долгосрочной основе.
Вопрос состоял в том, могут ли сами крестьяне, какая бы дефиниция ни была им придана, участвовать в преобразовании своей жизни[32]32
Данный вопрос был поднят в исследовании: Kingston-Mann Е. The Majority as an Obstacle to Progress // Radical America. Vol. 16 (1982). № 4/5. P. 77.
[Закрыть]; со всей ясностью он вставал при обсуждении тесно связанных между собой проблем крестьянской общины и права собственности. Полемика вокруг общины известна нам прежде всего по столыпинской реформе 1906 г., которая формально отвергла общину как объект и основу аграрной политики. Но с наибольшей очевидностью дискредитация общины как исключительно крестьянского института, ограждающего крестьян от «культуры», выражалась в том, что в XIX в. община игнорировалась статистическими обследованиями[33]33
Darrow D. The Politics of Numbers: Statistics and the Search for a Theory of Peasant Economy in Russia, 1861–1917. Ph.D. dissertation, University of Iowa, 1996. Ch. 4.
[Закрыть], а с конца столетия фактически выпала из сферы правительственной политики[34]34
Macey D. Government and Peasant in Russia, 1861–1906: The Prehistory of the Stolypin Reforms. DeKalb, Ill., 1987.
[Закрыть]. Такое же пренебрежение к общине усматривается в писаниях и действиях местных аграрных специалистов вплоть до 1914 г. В результате в фокусе политики и практических мер осталось лишь «хозяйство» – изолированная единица, лишенная свойств социальной общности. Появление новой и «рациональной» формы сообщества связывали с кооперативами. Немалая часть споров о них представляла собой схватку вокруг вопроса о том, кто же подчинит своему влиянию и тем самым сплотит эти учреждения, коль скоро сами крестьяне этого сделать не могут.
Этим объясняется и важность, которая придавалась собственности как основе социальных и экономических связей, – вопрос, которым неотрывно занималась литература о кооперативах с 1860-х гг. до 1914 г. Общеизвестно, что именно Столыпин, постановив, что личная собственность должна вытеснить крестьянскую общинную собственность, подхлестнул ожесточенную полемику о коллективизме и индивидуализме русского крестьянства. Внимательное исследование этих споров открывает другой ряд вопросов – достаточно ли зрелы крестьяне, чтобы принять на себя ответственность и риск, сопряженные с правом собственности, сумеют ли крестьяне удержать власть, заключенную в собственности, и каким образом та или иная форма собственности расширит или сократит пределы власти государства и его местных представителей. С собственностью были связаны и капитализм, и общий антикапитали-стический этос, столь заметный, по точному наблюдению историков, в экономической политике пореформенной России[35]35
См. в особенности: RieberA.J. Merchants and Entrepreneurs…; Ruckman J.A. The Moscow Business Elite: A Social and Cultural Portrait of Two Generations, 1840–1905. DeKalb, Ill., 1984.
[Закрыть]. Однако в аграрных и кооперативных дискуссиях после 1906 г. тема «капитализма» влекла за собой более специальные вопросы: распространяются ли на крестьян «всеобщие законы» экономики, или они являются исключением, и смогут ли крестьяне участвовать в тех новых, более инклюзивных формах власти, которые нес с собой капитализм.
Крестьянство смогло приспособиться к кооперативам и перетолковать их значение, и это подтверждает тезис, который социальная история выдвигает вот уже ряд лет, – о том, что крестьяне и иные зависимые группы не являлись лишь пассивными созерцателями деятельности других (в частности, в наиболее жестоких и разрушительных эпизодах российской аграрной истории), даже если эти другие думали иначе[36]36
Scott J. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, 1985. Исследования тех же проблем применительно к России и СССР см.: Field D. Peasants and Propagandists in the Russian Movement to the People of 1874 // Journal of Modern History. Vol. 59 (September 1987); and Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York, 1994.
[Закрыть]. В таком взаимодействии крестьяне часто усваивали язык приезжавших к ним представителей власти, употребляя его для достижения собственных ближайших целей или для того, чтобы оспорить действия тех же агентов. Может быть, удобно признать, что крестьяне вели «негоциации» с властями, умоляя пощадить их бедность и убожество и указывая на свою беспомощность и невежество; но нужно принять в расчет и то, что они сами участвовали в своей собственной культурной делегитимизации и подтверждали обезличивающие их стереотипы крестьянской темноты и неразумности. Следует учесть и крайние пределы этого взаимодействия: ведь люди, с которыми сталкивались крестьяне, представляли правительственную власть и закон и легко могли применить различные меры принуждения, оправданные идеологией крестьянской отсталости.
Трудно сказать, могли ли крестьяне, находясь в сфере этой идеологии, действовать легитимно и при этом считаться какими угодно, но не отсталыми. Если модерность (modernity) (не путать с модернизацией) предполагает и внушение индивиду нового понимания основ власти[37]37
Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford, 1990.
[Закрыть], – а это, конечно же, включает Россию в сферу европейского опыта, – то надо заметить, что не во всех случаях власть означает одно и то же. Речь идет о взглядах и категориях мышления различных образованных групп: допускали и поощряли ли они вовлечение, легитимное участие и партнерство других в том или ином проекте политического устройства. Короче говоря, речь идет о гегемонии в том смысле, в каком это слово употреблял А. Грамши, – что, в свою очередь, провоцирует сравнение с «цивилизаторскими» миссиями в Европе и колониях европейских стран в тот же период[38]38
Неоднозначная трактовка гегемонии на Западе и в России в трудах А. Грамши рассматривается в статье: Anderson Р. The Antinomies of Antonio Gramsci // New Left Review. № 100 (Nov. 1976 – Jan. 1977).
[Закрыть].
4. Источники и методология
Наши источники могут быть использованы эффективно только с учетом обстоятельств, при которых они производились. Очень важна не только проблема их достоверности и точности, побуждающая исследователя отсеивать, перепроверять, подсчитывать и сверять (для историков это обыденная работа), но и сама причина их создания, равно как и намерения авторов[39]39
LaCapra D. Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, and Language. London, 1983 (особенно c. 339); Trouillot M.-R. Silencing the Past… P. 51 and Ch. 1; Comey F.C. Writing October: History, Memory, Identity, and the Construction of the Bolshevik Revolution, 1917–1927. Ph.D. dissertation, Columbia University, 1996. [См. перевод: Comey F. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca, NY, 2004. – Примеч. ped.
[Закрыть]. В частности, наше представление о крестьянах складывается из того, что написали о них некрестьяне, а представления и воззрения последних пронизывают практически все свидетельства, имеющиеся в нашем распоряжении. Более того, эти источники определяют собственно исторические вопросы, которые мы задаем.
Мы используем данные статистиков, с начала 1870-х гг. отправлявшихся в деревни за информацией в поисках ответов на вопросы, которые волновали их и их нанимателей в центральных и местных учреждениях, прежде всего – как могут (и могут ли вообще) крестьяне выживать и платить налоги. И вопросы, которые статистики задавали, и ответы, которые они подавали наверх, были оружием в их борьбе с теми же нанимателями[40]40
О политике статистики см.: Darrow D. The Politics of Numbers, Chs 4, 6; и Stanziani A. Staticiens, zemstva et Etat dans la Russie des annees 1880 // Cahiers du monde russe et sovietique. 1991. Vol. 32. № 4.
[Закрыть].
Мы рассматриваем и источники, оставленные учителями и врачами, самыми крупными из групп образованного общества, находившихся в постоянном контакте с крестьянством на рубеже XIX–XX вв. Их миссия состояла в том, чтобы тем или иным способом дать крестьянам образование, но понимание этой миссии было далеким от нейтрального: предполагалось, что с крестьянской культурой что-то не так (невежество, порождающее болезни; замкнутость, увековечивающая равнодушие к прогрессу; покорность по отношению к безнравственной власти и недоверие к власти честной). Лекарством, которое эти деятели прописывали, было сближение с их собственной городской культурой (наука, рациональность, грамотность, писаное право, осознание собственного места в общей системе государственного устройства)[41]41
Eklof B. Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture, and Popular Pedagogy, 1861–1914. Berkeley, 1986; Seregny S. Russian Teachers and Peasant Revolution: The Politics of Education in 1905. Bloomington, Ind., 1989; Hutchinson J. Politics and Public Health in Revolutionary Russia, 1890–1918. Baltimore, 1990.
[Закрыть].
То, что имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства исходят не от крестьян, – это не слабость или неизбежный недостаток, но соль моего исследования. В конце концов, понятие «крестьянин» подразумевает и определенные отношения с властью, и место в социуме, а не просто то или иное хозяйственное занятие или известную социологическую категорию; и наши источники создавались внутри этого контекста[42]42
Sabean D. Power in the Blood… P. 2–3. По вопросу о взаимовлиянии источников и историописания см. объемные работы: Urton G. The History of a Myth: Pacariqtambo and the Origins of the Inkas. Austin, Tex., 1990. Ch. 1; Malon F. Peasant and Nation… Pt. 2.
[Закрыть]. Вопросы, которые задавали современники, редко касались крестьян, как те понимали себя сами, но в гораздо большей степени относились к проблеме – как определить крестьян, оказать на них воздействие, получить с них причитающееся. Крестьяне отвечали на вопросы, и их слова записывались, фильтровались и отбирались другими; более того, крестьяне и говорили по-разному, в зависимости от слушателя. Именно поэтому я стремился видеть в источниках не путеводитель по «подлинному» крестьянскому мировоззрению или всеобъемлющую картину того, что значит быть крестьянином, а отклик на призыв или запрос, поступившие крестьянам от кого-то другого. Эта формулировка метода ставит перед нами извечную дилемму крестьяноведения и subaltern studies[43]43
Возникшее в 1980-х гг. направление в социальных и гуманитарных науках, изучающее подчиненные, зависимые, дискриминированные и прочие неэлитарные группы, преимущественно в колониальном контексте. – Примеч. ред.
[Закрыть] – как услышать глас безмолвствующих; мы ищем ответ, стараясь услышать их голоса как отклик, являющийся звеном в сложном процессе взаимодействия. Вопрос в том, с кем и зачем они говорили. И именно об этом взаимодействии, а не о статичной реальности крестьянской жизни мы можем и должны рассказывать.
Глава I
НА ПУТИ В ОБЩЕСТВО: ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ И РУССКИЕ КРЕСТЬЯНЕ.
1861-1895
Освобождение крестьян с землей сделало Россию в социальном смысле tabula rasa, на которой еще открыта возможность написать ту или другую будущность… Все сделанное теперь отзовется на всей будущей жизни России; всякий промах, всякое легкомысленное решение падет тяжелым проклятьем на теперешнее поколение». Так писал аристократ и общественный деятель А.В. Яковлев в 1872 г., то есть чуть более чем через 10 лет после освобождения крепостных в России. Это было типичное отражение того духа позитивизма, которым была пропитана эпоха Великих реформ 1860—1870-х гг.: вооружившись им, «общество» (термин, обозначающий слой населения, состоящий из людей формально образованных, как правило, благородного происхождения и общественно активных) подходило к решению важнейших проблем, выдвинутых на первый план, скомпонованных и, в сущности, порожденных самими реформами. Наиболее впечатляет у Яковлева его личная уверенность в том, что в данном направлении действительно возможно что-то сделать. Он призывал общественных деятелей сформулировать «законы» и «аксиомы» экономического и социального развития России и выдвигал свои предложения о рациональной политике в отношении процесса окультуривания примерно 50 млн. крестьян, освобожденных от различных форм крепостной зависимости и вошедших в единое крестьянское сословие[44]44
Яковлев А.В. Ассоциация и артель // Русские общественные вопросы / Под ред. П.А. Гайдебурова и Е.И. Конрада. СПб., 1872. С. 300.
[Закрыть].
Яковлев поднял один из центральных вопросов, логически вытекавших из освободительной реформы, – о месте крестьянства в социально-экономической структуре России. Данный вопрос своей сложностью пугал многих с тех самых пор, как бюрократические усилия и самодержавная воля, отменившие крепостную зависимость в 1861 г., так и не смогли подняться до ясного представления, какой порядок должен ее заменить[45]45
Об Освобождении крестьян в России см.: Field D. The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855–1861. Cambridge, MA, 1976; Emmons T. The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge, 1968.
[Закрыть]. Яковлев был удовлетворен тем, что экспроприации значительной части крестьянства (что было характерно для Европы) удалось избежать, поскольку почти все крестьянские хозяйства получили земельные наделы. «Представителям умственной жизни» оставалось учиться на «ошибках» и нововведениях Западной Европы. В частности, общественные деятели, по мысли Яковлева и его единомышленников, должны были поощрять рост кооперативов, стимулирующих самопомощь, экономическую независимость и высокую производительность крестьянского труда.
Кооперативные деятели, как и другие реформаторы, в первые десятилетия после Освобождения предполагали: крестьяне уже обладают всеми необходимыми навыками, чтобы действовать как свободные люди в обновленном обществе, а судебная реформа предоставит им нужные юридические гарантии для дальнейшего развития[46]46
Об уверенности в необходимости судебной реформы см.: Macey D. Government and Peasant… Ch. 1.
[Закрыть]. Яковлев даже пошел настолько далеко, что включил «народ» в число «элементов общества», указывая на новообретен-ную юридическую независимость крестьян от дворян, экономическую стабильность и новые реальные возможности, открывшиеся крестьянам для беспрепятственного развития в рамках новых экономических институтов. Для пореформенной России это не было обычным словоупотреблением: Яковлев распространял термин «общество» на все население страны, не ограничивая его лишь «культурной» элитой[47]47
Яковлев А.В. Ассоциация и артель… С. 300.
[Закрыть]. В начале 1890-х гг., когда первые эксперименты с кооперативами уже провалились, а позитивный характер перемен был едва различим, в тяжелый период интеллектуальной и идейной беспомощности в общерусском словаре слова «народ» и «общество» оставались двумя обособленными категориями, которые мало для кого были равнозначными.
Действительно, обособление стало центральной проблемой в возникшем именно тогда «аграрном вопросе», и это нашло свое отражение в спорах 1890-х гг. об особых юридических и структурных противоречиях, доставшихся России в наследство от эпохи Великих реформ. Наиболее существенным фактором была живучесть сословной системы, которая делила население на определенные категории с различными узаконенными привилегиями и обязанностями. С точки зрения общественных деятелей, требующих продолжения реформ, сословная система означала, что любая инициатива реформаторов будет переведена в обособленное правовое пространство и по-своему (многие настаивали, что весьма искаженно) интерпретирована крестьянством, которое издавна живет в мире совершенно других правил и обычаев. Обособленные сословия порождали обособленные управленческие учреждения, в том числе губернские и уездные земства, в которых доминировали дворяне-землевладельцы, а также столь же обособленные уникальные институты крестьянского самоуправления на волостном, общинном и сельском уровнях. У земств было явно недостаточно полномочий, чтобы выступать посредником между правительством и крестьянскими учреждениями, а нехватка подготовленного персонала сужала возможности длительных контактов между сословиями и властями различных уровней. Право собственности (которое современники расценивали как центральный параметр индивидуальной и групповой идентификации) было столь различным для представителей разных сословий, что порождало весьма многообразную социальную, экономическую и юридическую динамику развития для отдельных сословий.
Поэтому кооперативы были важны не своей многочисленностью (в XIX в. их было еще очевидно мало), а тем, что они были одним из немногих пореформенных институтов, сознательно создававшимся для вовлечения в совместную работу представителей всех сословий, но разрушенным многолетней обособленностью, которую новые учреждения не смогли преодолеть. Проследим, как образованные современники приспосабливали эти учреждения к данному историческому контексту: это предоставит нам отличную возможность выявить и изменения в процессе восприятия ими крестьянства, и реакцию самого крестьянства на этот процесс. Это удобный угол зрения для анализа изменений в восприятии реформаторами крестьян и в их подходах к изменению самих крестьян и решению крестьянского вопроса.
1. Из Делича в Дороватово: кредитные кооперативы, крестьянская община и вопрос о собственности
А. В. Яковлев принадлежал ко все более многочисленным в первые 30 лет после Освобождения общественным деятелям, которые изучали кооперативные учреждения Западной Европы и считали, что подобные будут полезны и в России. Дворяне В.Ф. Лугинин и Н.П. Колюпанов в 1863 г. посетили немецкий город Делич (близ Лейпцига) для изучения ссудо-сберегательных товариществ (ассоциаций), организованных по инициативе мэра этого города Франца-Германа Шульце. Они вернулись в Россию, находясь под большим впечатлением от трудолюбивых и независимых ремесленников, учреждающих собственные кооперативные банки, размещающих в них свои сбережения, покупающих паи и акции, получающих кредиты под залог собственного имущества на совершенствование своего ремесла, а также распределяющих доходы и убытки среди пайщиков пропорционально их вложениям[48]48
Подробнее о немецких кооперативных моделях, на примере которых русские организаторы основывали свои ассоциации, см.: Baker (Petersen) A. The Development of Cooperative Credit… P. 54–60.
[Закрыть]. В 1866 г. Лугинин учредил ссудо-сберегательное товарищество в деревне Дороватово Калужской губернии. Судя по всему, это и был первый открывшийся в России сельскохозяйственный кооператив, за которым вскоре последовали сотни других. Основной функцией товариществ, как объясняли их первые сторонники, было помочь бедному большинству крестьянства избегнуть хищных лап ростовщика или кулака[49]49
В 1860-х и 1870-х гг. слово «кулак» обычно означало ростовщика – владельца местной мельницы, трактира или торговца сельскохозяйственными товарами.
[Закрыть], удовлетворить его очевидную нужду в кредите и побудить недавно освобожденных крестьян стать независимыми производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции. Лугинин считал, что принципы кооперативных товариществ давно и глубоко укоренились в крестьянстве, и указывал на преобладание общинного землепользования и на периодические переделы земли в ряде регионов России. Однако община была исключительно крестьянским институтом, в отличие от кооператива – учреждения, открытого для представителей всех сословий на вполне законных основаниях. Сторонники кооперативов представляли их первым после Освобождения опытом институционализированного взаимодействия между сословиями, способного соединить крестьянский коллективизм с рациональностью, привнесенной образованными сословиями[50]50
См. статьи А.В. Яковлева и Н.К. Михайловского в кн.: Русские общественные вопросы / Под ред. П.А. Гайдебурова и Е.И. Конрада. СПб., 1872.
[Закрыть].
По крайней мере среди образованных групп населения кооперативы действительно стали популярным общественным явлением. Яковлев, Лугинин и Колюпанов наряду с князьями А.И. Васильчиковым и В.А. Черкасским учредили Санкт-Петербургское отделение Комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах (далее – Санкт-Петербургское отделение) при содействии и под эгидой Московского императорского общества сельского хозяйства. Они стремились убедить богатых и образованных людей содействовать росту аграрных кооперативов всех типов, причем сосредоточились преимущественно на дворянах-землевладельцах, доминировавших в земствах – учреждениях местного самоуправления, введенных в большинстве губерний и уездов Европейской России в 1864 г. Хотя и меньшая, но все же значительная часть губернских и уездных земств сочла нужным ответить на этот призыв выделением специальных средств на кооперативные цели размером от 6 тыс. до 20 тыс. руб.; вскоре к ним присоединилось Министерство финансов, выступившее с предложением ежегодно выделять по 15 тыс. руб. на нужды кооперативов[51]51
Прокопович С.Н. Кооперативное движение в России. Его теория и практика. М., 1903. С. 92–93; Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России… С. 97–98; Максимов Е.Д. (М. Слобожанин). Смотр кооперативным силам: По печатным материалам и личным впечатлениям на 1-м всероссийском съезде кооперативов. СПб., 1909. С. 56–57. О преобладании в земствах дворян-землевладельцев из-за системы выборов, основанных на сословных куриях и имущественном цензе, см.: Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 года. М„1957.
[Закрыть].
Для многих товариществ, получивших ссуды на 5 и 10 лет, срок возврата наступал в начале 1880-х гг. Тогда-то и стало очевидно, что многие из них прекращали свое существование сразу же, как только денежные средства распределялись между членами. Другие закрывались вскоре после наступления срока возврата ссуд, а третьи вообще не вели никаких операций. С.В. Бородаевский, специалист по государственным финансам и кооперации рубежа XIX–XX вв., подсчитал, что из 1586 ссудо-сберегательных товариществ, утвержденных Министерством финансов с 1866 по 1898 г., 230 никогда не открывались, 667 закрылись и только 689 (то есть 43 %) продолжали функционировать к 1900 г. Санкт-Петербургское отделение зарегистрировало 825 кооперативных товариществ, которые начали фактически функционировать в 1870-е гг.; к 1900 г. оно могло документально подтвердить закрытие 65 % из них[52]52
Бородаевский С.В. История кооперативного кредита… С. 145–146; Прокопович С.Н. Кооперативное движение… С. 107.
[Закрыть].
Первая проблема, возникшая в связи с этими неудачными опытами и требовавшая безотлагательного решения, заключалась в том, что кооперативное товарищество классического типа было совершенно новым явлением для крестьянской России, несмотря на на мнение о том, что общинные порядки предопределяют популярность кооперативных товариществ среди крестьян. Например, Пермское губернское земство в 1872 г. выделило для товариществ 18 тыс. руб., но прошло еще несколько лет, прежде чем крестьяне наконец сформировали кооперативы, для которых эти деньги предназначались, и обратились за ссудами. Возможно, им просто не объяснили, что такое кооператив, не растолковали, как подавать необходимые документы на рассмотрение Министерства финансов, как обращаться за ссудами в Государственный банк или даже в земство. Грамотность – необходимое условие функционирования кооператива с его уставом, конторскими книгами и годовыми отчетами – была в пореформенной России все еще на чрезвычайно низком уровне. Князь Васильчиков указывал в докладе Вольному экономическому обществу в 1872 г., что главное препятствие и трудность работы состоит в безграмотности и низком культурном уровне народа. Например, он получил из одной ассоциации сообщение, что из 188 ее членов только двое умеют читать, но и эти двое не знают даже четырех правил арифметики. Очевидно, что в руках таких людей кооператив нормально работать не мог[53]53
Об участии губернского земства в устройстве ссудо-сберегательных товариществ // Доклады Пермской губернской земской управы Пермскому губернскому земскому собранию очередной сессии 1900 г. Пермь, 1901. С. 365. См также: Baker (Petersen) A. The Development of Cooperative Credit… R 151.
[Закрыть].
Если бы даже члены товариществ умели читать и считать, принципы, проповедуемые кооперативными деятелями, все равно были бы им откровенно чужды. Пай, который каждый член должен был приобрести при вступлении в товарищество, имел значение гарантийного обязательства данного члена и увеличивал денежный фонд, необходимый для ссудных операций. Новоявленные кооператоры, однако, воспринимали паевой капитал как часть платы за получаемую ссуду из сумм, выделяемых центральными и местными властями на кредитование кооперативов, – то есть как бремя, которого нужно постараться избегнуть. В Смоленской губернии члены одного товарищества получили от местного земства ссуду в размере 75 руб. на человека и употребили ее, чтобы купить паи по 50 руб. Для членов крестьянских хозяйств, привыкших затрачивать свой труд и сразу получать конечный продукт, а не инвестировать деньги и получать с этого доход, эта операция означала получение дополнительного дохода в 25 руб. на человека. В тех случаях, когда члены товариществ вначале должны были приобрести пай на собственные средства, они чаще всего отправлялись к местному ростовщику и получали краткосрочную ссуду, покупали пай, брали ссуду в кооперативе и использовали ее, чтобы выплатить долг ростовщику с процентами. Опять-таки все, что оставалось после этой операции, они считали счастливо приобретенным дополнительным доходом[54]54
Мишель Конфино подчеркивает схожую борьбу мнений в России в конце XVIII в., когда землевладельцы пытались внедрить бухгалтерскую практику в своих имениях и в отношениях со своими крепостными. Confine М. Domaines et seigneurs en Russie vers la fin du XVIII siecle. Paris, 1963.
[Закрыть]. Инициаторы финансирования кооперативного движения и не догадывались о подобных операциях, пока земства и Государственный банк не приступили к возврату первоначально выданных ссуд, заставляя кооперативы выколачивать деньги из своих членов. Нередко пайщики вынуждены были выпрашивать новую ссуду у земств, чтобы отдать предыдущую. Все это вскоре привело в деревню земских уполномоченных, которые требовали от каждого члена «показать деньги» и тем подтвердить, что первой ссудой хозяин распорядился расчетливо и все его расходы уже компенсированы. На самом же деле все занятые средства были уже давно потрачены на повседневные нужды, так что заемщик брал в долг у соседа, «показывал деньги», а потом отдавал их соседу с процентами. Из всего этого земские деятели закономерно заключали, что вместо того, чтобы прижать ростовщика и кулака, они помогают им все успешнее вести свои дела[55]55
Прокопович С.Н. Кооперативное движение… С. 136, 139–140.
[Закрыть].
Тот механизм, который земцы обнаружили на местах, заставил кооперативных деятелей пересмотреть свое понимание социальных процессов, происходивших в русской деревне: вместо картины однообразной и всеобщей бедности они увидели пестрое полотно социальной эксплуатации, борьбы и дифференциации[56]56
Кати Фриерсон извлекла эти образы из различного рода источников и литературы 1860—1880-х гг. См.: Frierson С. Peasant Icons… Ch. 6.
[Закрыть]. Когда Яковлев в 1872 г. обрисовывал необходимую форму для ссудо-сберегательных товариществ, он утверждал, что «село или волость не представляют широкого разнообразия состоятельностей» и практически все хозяйства «подходят под один уровень одинаково нуждающегося населения». Он осознавал различия между крестьянскими хозяйствами, но указывал, что главное – это моральные качества, искренность и честность вовлеченных в дело индивидов, а не их материальное благосостояние[57]57
Яковлев А.В. Ассоциация и артель… С. 303.
[Закрыть]. Конечно, немного богатства можно было увидеть в русской деревне, если смотреть на нее из окон помещичьей усадьбы или из губернского города, но экономические различия между крестьянскими хозяйствами были вполне достаточными, чтобы спровоцировать неожиданный рост самой разнообразной активности действующих кооперативов. Уже в 1874 г. Санкт-Петербургское отделение обнаружило, что в некоторых случаях беднейшие крестьяне не допускались в кооперативы как не способные вернуть полученные ссуды. Для многих общественных деятелей понятие «богатый крестьянин» было оксюмороном, а концепция единообразия русской деревни не могла объяснить доступные наблюдению результаты развития аграрных кооперативов[58]58
Прокопович С.Н. Кооперативное движение… С. 125–126; Максимов Е.Д. (М. Слобожанин). Смотр кооперативным силам… С. 57.
[Закрыть].
Однако опыт с кооперативами подсказал реформаторам, что «богатые» и «сильные» не были чужаками или незваными гостями в бедной деревне; из этого следовал закономерный вывод, что богатые сами являются теми же крестьянами, элементом новой или по-новому воспринимаемой социальной стратификации, державшей в тисках русскую деревню с того момента, как Освобождение открыло ее для свободного рынка и новых «капиталистических» отношений. Оказалось, что кооперативы были не только весьма далеки от помощи жертвам этого процесса, но еще и помогали богатым, то есть тем, кто мог себе позволить купить пай в 50 руб. и возвратить ссуду в срок. Еще опаснее было другое обстоятельство. Московское уездное земство утверждало, что доминирующие в кооперативах крестьяне сами в ссудах не нуждаются, но берут их для того, чтобы ссудить их своим же односельчанам под большие проценты. Пермское губернское земское собрание с 1882 г. стало отклонять все прошения о новых ссудах на том основании, что они используются кооперативами в интересах богатого меньшинства деревни[59]59
Прокопович С.Н. Кооперативное движение… С. 137–138; Максимов Е.Д. (М. Слобожанин). Смотр кооперативным силам… С. 57–58; Об участии губернского земства… С. 367.
[Закрыть].
Но когда члены кооперативов распределяли полученные по ссудам деньги более справедливо, местные деятели жаловались, что это приводит к чрезмерному рассеиванию средств среди большого числа домохозяев, а это, в свою очередь, понижает шансы получателей на повышение продуктивности их хозяйств из-за малой величины денежных вложений. В такой ситуации вся деревня могла вступить в кооператив и успешно пересадить туда свои общинные обычаи. В крайних же случаях община и кооператив срастались, и тогда сельские старосты выступали в роли правления кооператива, а земские ссуды распределялись поровну между всеми членами наряду с другими ресурсами, принадлежавшими общине. В Пермской губернии в 1872 г. земство просто передавало деньги общинам с тем условием, что они образуют кооперативы[60]60
Там же. С. 364–365.
[Закрыть].