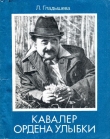Текст книги "Кавалер Ордена Золотого Руна"
Автор книги: Владислав Гурин
Соавторы: Альберт Акопян
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Управдом сердечно поблагодарил дворника, а через несколько минут на стенах дома, в подворотне и у детской песочницы появилось объявление:
Граждане жильцы!
Если кто обронил вчера на лекции зеленую книгу, или видел, кто ее читал и мог обронить (название не указывается с целью избежания присвоения), просьба безотлагательно сообщить управдому.
Граждане, проявите комсознательность! Построим новый быт!! Нам чужого не надо!!! Подпись: Управдом
Вечером, унылый и смиренный, Бендер вернулся домой.
– Остап Ибрагимович, где же вы пропадали? Меня приняли в "Приключенческое дело"!
– Жилец Изаурик, а вы читали объявление? – монотонно пробубнил Остап.
– Какое объявление, Остап Ибрагимович? – изумился Сеня.
Остап тряхнул головой.
– Тьфу, черт! Совсем крыша поехала… Ну ладно, рассказывай.
– Меня сразу же ввели в коллегию в проценте беспартийных дарований. Я через полгода еще и в безответственные редакторы пробьюсь…
– Что за галиматья, Сеня?!
– Не галиматья, Остап Ибрагимович, – обиделся новоиспеченный труженик пера, – а глубокое, можно сказать, профессиональное проникновение в тонкости, можно сказать, в закулисную сторону ремесла…
Журналы бывают толстые и тонкие.
Но это только в теории. На самом деле тонких уже давно нет. Они закрылись. Подписчикам обещали вернуть деньги, но не вернули. (Согласитесь, было бы просто бесхозяйственностью разбрасывать деньги направо и налево.)
Итак, остались толстые. Среди них есть более толстые и менее толстые. И чем тоньше толстый журнал, тем многочисленнее его редколлегия. В самом тонком толстом количество членов редколлегии достигает двадцати человек. Если бы этих людей собрать вместе, то получилась бы внушительная демонстрация, так сказать, боевой смотр литературных сил.
Но разве их соберешь! Их невозможно собрать. Большинство из них вообще не знает, что состоит в членах, а меньшинство к литературе никакого отношения не имеет, литературы не любит и занято на хозяйственной и профсоюзной работе. Тем не менее редколлегии разрастаются, и скоро уже вместо заседаний надо будет применять более совершенные методы собирания людей в одну кучу: "Объединенную конференцию членов редколлегии журнала "Будни пансионата", или "Всесоюзный слет членов и кандидатов в члены редколлегии журнала "Критик на стреме". Собираться можно в филиале Большого театра или в зале консерватории, только не в малом, а в том, который по-больше, там, где портреты розовощеких композиторов в ермолках и париках.
Редколлегия превращается в громадное учреждение, потому что при ее составлении не желают никого обидеть.
В коллегию обязательно входят:
1. Один ведущий писатель (лучше два ведущих или три; было бы, конечно, еще лучше человек семь ведущих, но столько не наберешь, нету).
2. Три ведущих критика.
3. Один неведущий критик.
4. Один завидущий критик (чтоб не обиделся).
5. Процент женщин.
6. Процент нацменов.
7. Процент братских писателей.
8. Процент оборонных писателей.
9. Процент беспартийных дарований.
10. Процент бывших рапповцев (чтоб не обиделись).
11. Представитель Оргкомитета (чтоб присматривал за бывшими рапповцами насчет групповщины).
12. Один писатель, недавно сброшенный со щита (он же тайный эмиссар бывших рапповцев, чтоб наблюдал за представителями Оргкомитета).
13. Процент детских писателей.
14. Один ведущий поэт с двумя приспешниками.
15. Один бывший внутрирапповский попутчик.
А дальше идут уже странности, сон, бред.
16. Тов. Булыжников (Стройнадзор).
17. Тов. Мизерник (Книгосбыт).
18. Тов. Клемансон (Мосоргвывод).
Все это так тонко обдумано, так внимательно учтены эти литературные интересы и нюансы этих интересов, что, казалось бы, работа редколлегии должна принести грандиозные плоды. Но все ухищрения пропадают даром. Никакие такие особенные плоды не вызревают. Члены редколлегии и не думают собираться. Однако, если их не включают в члены, они очень сердятся, принимают меры, хлопочут, даже плачут. Они обидчивы, как артисты летней эстрады.
И чтоб с ними не связываться, не вести лишних разговоров, их включают в различные списки. Таким образом, во всех толстых журналах существует почти одно и то же литературное начальство с небольшими вариациями: вместо одного завидущего критика иногда бывает два; иногда процент детских писателей бывает недостаточен, – например, вместо полутора процента детских включают только полпроцента (это дает возможность детским писателям поднять крик о том, что их затирают взрослые писатели в союзе с оборонными). А иногда забывают т. Клемансона (Мосоргвывод), и он попадает не в двенадцать редколлегий, а только в восемь.
Если к этому добавить, что ответственный редактор, как правило, не является ни взрослым писателем, ни детским, ни оборонным, ни женским, что он не пишет стихов, не сочиняет критических статеек, никогда не ходит в свою редакцию, а дома снимает телефонную трубку, чтобы к нему никак нельзя было дозвониться, что он к литературе вообще относится отрицательно, – то, как говорится, во весь рост встает вопрос о том, кто же все-таки делает журнал. Журнал-то ведь выходит. Раз в месяц или в четыре месяца, но выходит ведь.
Журнал делает молодой человек, так сказать, безответственный редактор.
В первый год своей деятельности он еще очень скромен, смотрит на писателей расширенными глазами, носит ковбойку с открытой грудью и штаны с велосипедными браслетками на щиколотках. От него еще пахнет фабзавучем, и он с почтением произносит слова: гранки, боргес, рамка, шмуцтитул, колонцифра.
К началу второго года у него на шее появляется галстук из универсального базара, писатели уже угощают его папиросами, и он звонким голосом кричит в телефон:
– Возьмите Гладкова на шпоны, тысячу раз вам говорил! Никулина оставьте в загоне, не входит. Ничего! Он уехал в Кисловодск, не узнает. Да, и не забудьте вставить в список сотрудников Булыжникова и обязательно инициалы поставьте – М.И. А то он обижается.
Покуда молодой человек еще руководится чисто техническими соображениями, но на третий год деятельности ему приходится самому приглашать авторов, читать рукописи и давать советы, потому что если это не сделает он, никто этого не сделает и журнал механически закроется. Это было бы еще полбеды. Но тогда он, молодой человек, потеряет службу. А это уже не годится.
И в то время, как сброшенный со щита интриган вступает в беспринципный блок с двумя ведущими критиками и процентом женщин против завидущего критика, объединившегося с бывшим внутрирапповским попутчиком и процентом беспартийных дарований, в то время как Клемансон (Мосоргвывод), прикрываясь именами ведущих писателей, тихо добивает Мизерника (Книгосбыт) и Булыжникова (Стройнадзор), – молодой энтузиаст типографского дела принимает на себя всю полноту власти в редакции.
Теперь на нем сиреневый костюм. Молодыми зубами он грызет мундштук вишневой трубки и кричит голосом леопарда:
– Слабо! Не пойдет! Надо короче! Учитесь у Габриловича. Фигура Перловского у вас получилась неубедительной. Нам нужен социалистический реализм, а у вас поздний романтизм на чистой сливочной лирике. Да, заходите, конечно. Только не в пятницу. В пятницу я на даче.
– Как вы думаете, командор, у меня когда-нибудь будет дача?
– Будет, Сеня, будет, – жестко проговорил Остап. – Дача, яхта, "кабриолет" с пальмочкой на капоте и шофер-китаец. Слева от вас будет блондинка с умопомрачительным бюстом, а справа – ящик с шампанским.
– А зачем пальма?
– Для красоты.
– Но ведь шоферу будет неудобно!
– Это его проблемы.
Сеня хотел пошутить насчет того, что проблемы шофера некоторым образом касаются и пассажиров, но, встретив взгляд командора, решил побыстрее спустить себя и товарища с небес на землю.
– Однако же в ближайший номер я должен сдать приключенческий рассказ, – Сеня извлек из стола стопку бумаг. – Остап Ибрагимович, может поможете выбрать что-нибудь из моих старых колоколамских.
– Я же вам говорил, Сеня, что меня интересуют только приключения миллионеров.
– Почему бы и нет? Есть один. О приключениях миллионера из Рио-де-Жанейро. Но… Остап Ибрагимович, что с вами?
– Что вы делаете, Сеня, что вы делаете? – Остап потер виски. – Вы разбиваете честное сердце советского управдома, передовика жилкомхоза.
Гость из Южной Америки
В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, невиданный доселе в Колоколам-ске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный галстук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая станционным носильщиком.
Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхитительный вид на город Колоколамск и обтекающую его реку Збрую, что розовый джентльмен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распространился удушливый запах водки.
В таком положении застал их через час председатель лжеартели "Личтруд" мосье Подлинник, проходивший через Членскую площадь по делам артели.
Остановившись за десять шагов от незнакомца, Подлинник с удивлением спросил:
– Пардон, где вы достали такой костюм?
– В Буэнос-Айресе, – ответил плачущий джентльмен.
– А галстук?
– В Рио-де-Жанейро.
– Кто же вы такой? – воскликнул Подлинник.
– Я колоколамец! – ответил джентльмен. – Я Горацио Федоренкос.
Восторгам председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы.
Через десять минут Подлинник знал все. Герасим Федоренко, тридцать лет тому назад уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуждая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной Колоколамск. И вот он здесь – рыдает от счастья.
Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевровую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик-Бугаевским. Во время неофициальной части торжества Федоренкос плясал русскую. Он вилял спиной и мягко притопывал каучуковыми подошвами. На рассвете расстрогавшийся Горацио принял решение увековечить приезд в родной город постройкой тридцатидвухэтажного небоскреба для своих сограждан.
– Брешет! – говорили колоколамцы, качая головой. – Что-что, а насчет дома брешет! Такие дома не могут существовать в природе.
Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и дюжины иностранных языков.
Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строящегося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воровали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка движется слишком медленно.
К концу второго месяца небоскреб был уже почти готов. Тридцать второй его этаж упирался в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах двадцать пятого этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километров.
Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоровые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закончены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становится невыносимой.
В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной площадке своего этажа.
Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал:
– Милициос!
Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и пребольно толкали Горацио Ивановича этажерками и топчанами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил.
В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными, учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома – на шестнадцатом этаже.
По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию, и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты, как самые емкие, были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз – на пастбище.
На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения: из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж – судиться и, наконец, в 29-й этаж – Этаж Заключения.
Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых квартир буржуйки.
Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые клозеты.
Никита Псов, житель 19-го этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморные лестницы и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала:
– Никита Иваныч! Отдай хоть ключ от квартиры! Войтить в квартиру нельзя!
Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение пало на пятый этаж, этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей слободкой.
Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов злобно простонал:
– Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентльмена!
Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все окна в ненавистной ему Вороньей слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали шубы и калоши.
На квартиру Подлинников, проживавших в глухом 32-м этаже с испорченной канализацией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков.
В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала.
Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера колоколамских окрестностей, и губернский город не отражался больше в окнах 25-го этажа.
– Не выношу трепа о загадочной русской душе, – только и сказал Остап. – Если человек оторвался от России на пару лет, ему нет дороги назад.
Глава 12.
Разговоры за чайным столом
Есть неумирающие темы, вечные, всегда волнующие человечество.
Например, наем дачи или обмен получулана без удобств в Черкизове на отдельную квартиру из трех комнат с газом в кольце "А" (телефон обязательно), или, скажем, проблема взаимоотношений главы учреждения со своей секретаршей, или покупка головки для примуса. Но поистине неумирающая тема – это "Отцы и дети".
В семье Ситниковых было три человека – папа, мама и сын.
Папа был опытный бухгалтер, мама – опытная домашняя хозяйка, а сын был опытный пионер.
Казалось бы, все хорошо.
И тем не менее ежедневно за вечерним чаем происходили семейные ссоры.
Разговор обычно начинал папа.
– Ну, что у вас нового в классе? – спрашивал он.
– Не в классе, а в группе, – отвечал сын. – Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс – это реакционно-феодальное понятие.
– Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?
– Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.
– Ладно, что же прорабатывали?
– Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.
– Вот как! Лассальянство? А задачи решали?
– Решали.
– Вот это молодцы! Какие же решали задачи? Небось трудные?
– Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.
Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.
– Ну, а по-русскому языку что сейчас уч…, то есть прорабатываете?
– Последний раз коллективно зачитывали поэму "Звонче голос за конский волос".
– Про лошадку? – с надеждой спросил папа. – "Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?"
– Про конский волос, – сухо повторил сын. – Неужели не слышал?
Гей, ребята, все в поля
Для охоты на
Коня!
Лейся, песня, взвейся, голос.
Рвите ценный конский волос!
– Первый раз слышу такую… м-м-м… странную поэму, – сказал папа. – Кто это написал?
– Аркадий Паровой.
– Вероятно, мальчик? Из вашей группы?
– Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый член профсоюза…
– Не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали – "Влияние творчества Парового на западную литературу".
– А тебе не кажется, – осторожно спросил папа, – что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?
– Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.
– Ненужного?
– Абсолютно ненужного.
– А конские уши вы не предполагаете собирать? – закричал папа дребезжащим голосом. – Поэзия!.. "Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост!"
– "Рвите ценный конский волос", – снисходительно поправил сын.
– Да не все ли равно?! "Лейся, взвейся, конский голос!" Вы Пушкина читали?! Лермонтова?! Фета?! Кто написал "Мертвые души"? Не знаешь? Гоголь написал. Гоголь!
– Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик… – процедил мальчик.
– Два с минусом! – ударил по столу кулаком папа. – Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии лет через десять. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк.
– Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, – запел Коля, – выявляются капиталистические противоре…
– Это я сам знаю. Ты мне расскажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?
Сын молчал.
– Сколько там населения?
– Не знаю.
– Где протекает река Ориноко?
– Не знаю.
– Кто была Екатерина Вторая?
– Продукт.
– Как продукт?
– Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали… Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита…
– Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?
– Этого мы не прорабатывали.
– Ах, так! А каковы признаки делимости на три?
– Вы кушайте, – сказала сердобольная мама. – Вечно у них эти споры.
– Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров, – кипятился папа. – Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?
– Да ешьте же, ешьте, – чуть не плакала мама. – Вечно у них эти споры.
Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку.
– Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?
– Мы не развлекались. Некогда было.
– Что же вы делали?
– Мы боролись.
Папа оживился.
– Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Браруле, тур-де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука – французская борьба.
– Почему французская?
– А какая же?
– Обыкновенная борьба. Принципиальная.
– С кем же вы боролись? – спросил папа упавшим голосом.
– С лебедевщиной.
– Что это за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?
– Один наш мальчик.
– Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?
– Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.
– Это какой-то кошмар!
– Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдали на борьбу. Вчера был политаврал.
Папа схватился за голову.
– Сколько же ему лет?
– Кому, Лебедеву? Да, немолод. Ему лет восемь.
– Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?
– А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?
Негромкий, но уверенный стук в дверь и голос хозяйки: "Пожалуйте, Остап Ибрагимович, к чаю!" – спора не прекратили.
– Вот, товарищ Бендер, полюбуйтесь! – кричал Ситников-старший. – Это же верхоглядство, схематизм, начетничество, шельмование, наконец! Поэму какого-то Паровозова прорабатывают: "Гей, ребята, на охоту, надрывайте конский голос"! Мальчишку восьмилетнего махновцем обьявляют, а где находится Нью-Йорк не знают! Невероятно!
На стене висела средних размеров географическая карта Европы. Взгляд Бендера скользнул по Средиземному морю, рука легла на плечо мальчика:
– Видишь ли, товарищ Коля, как писал товарищ Маркс, мировой революции без знания географии не сваришь.
– В каком томе? – сразу же поинтересовался опытный пионер.
– Писал, писал, мой юный ортодокс. В четвертом классе гимназии, до того как взялся за полное собрание сочинений и писем.
Нужно было форсировать развязку.
– А сколько нам открытий чудных готовит марксистский анализ русских фамилий! – Остап искоса наблюдал за бухгалтером. – Суворов-Рымникский! – он ткнул кулаком куда-то в район Измаила, где протекает неотмеченная на карте речка Рымник. – Римский-Корсаков! – пятерня управдома раздавила дворец Муссолини. – Граф Средиземский! – палец Бендера уперся в испанскую Картахену, взгляд – в "кандидата".
Ситников-старший смотрел на карту непонимающе, но с надеждой…
Глава 13.
Как создавался Робинзон
– Командор, знаете, кого я встретил вчера в редакции «Похождения – в жизнь!»? – спросил Сеня за ужином. – Ошейникова. Очень скользкий тип.
В редакции еженедельника "Похождения – в жизнь!" ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.
Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.
В конце концов решили заказать роман с продолжением.
Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Ошейникову, и уже на другой день Ошейников сидел на купеческом диване в кабинете редактора.
– Вы понимаете, – втолковывал редактор, – это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.
– Робинзон – это можно, – кратко сказал писатель.
Вообще-то, Ошейников мечтал стать великим поэтом, но Институт Стихотворных Эмоций, где он когда-то обучался, прихлопнул Главпрофобр, прежде чем великий поэт понял, что в конце фразы необходимо ставить точку.
– Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.
– Какой же еще! Не румынский!
Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.
И действительно, роман поспел к условленному сроку. Ошейников не слишком отклонился от условленного подлинника. Робинзон так Робинзон.
Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: "Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!"
– Очень хорошо, – сказал редактор, – а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.
– Борьба человека с природой, – с обычной краткостью сообщил Ошейников.
– Да, но нет ничего советского.
– А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Советское радио, – добавил Ошейников многозначительно.
– Попугай – это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?
Ошейников вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.
– Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?
– Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть. Я не художник слова, но на вашем месте я бы ввел. Как советский элемент.
– Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита…
Тут Ошейников случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние, такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромис.
– А ведь вы правы, – сказал он, подымая палец. – Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.
– И еще два освобожденных члена, – холодно сказал редактор.
– Ой! – пискнул Ошейников.
– Ничего не ой. Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.
– Зачем же еще сборщица? У кого она, будет собирать членские взносы?
– А у Робинзона.
– У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается.
– Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Ошейников. Это абсолютно недопустимо. Председатель месткома не должен размениваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой.
– Тогда можно и сборщицу, – покорился Ошейников. – Это даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того же Робинзона. Все-таки веселей будет читать.
– Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу.
Ошейников заерзал на диване.
– Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!
Редактор призадумался.
– Стойте, стойте, – сказал он, – у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами месткома волна выбрасывает на берег разные вещи…
– Топор, карабин, буссоль, бочку рома и бутылку с противоцинготным средством, – торжественно перечислил писатель.
– Ром вычеркните, – быстро сказал редактор, – и потом, что это за бутылка с противоцинготным средством? Кому это нужно? Лучше бутылку чернил! И обязательно несгораемый шкаф.
– Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?
– Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? А освобожденные члены? А ревизионная комиссия?
– Разве она тоже спаслась? – трусливо спросил Ошейников.
– Спаслась.
Наступило молчание.
– Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?! – ехидно спросил автор.
– Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну, там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно алую, можно малиновую или бордовую. Я не стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь – это показать массу. Широкие слои трудящихся.
– Волна не может выбросить массу, – заупрямился Ошейников. – Это идет вразрез с сюжетом. Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех.
– Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха, – вставил редактор, – никогда не помешает.
– Нет! Волна этого не может сделать.
– Почему волна? – удивился вдруг редактор.
– А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый?!
– Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну и все.
– А Робинзон? – пролепетал Ошейников.
– Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Не то чтобы фамилия идеологически не выдержанная. Знаете ли, Робинзон, Керзон. Просто, нелепая, ничем не оправданная фигура нытика. Выбросьте его совсем.
– Теперь все понятно, – сказал Ошейников гробовым голосом, – через неделю будет готово.
– Ну, всего. Творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней. Правильно? Ну и хорошо. Будьте здоровы!
Оставшись один, редактор радостно засмеялся.
– Наконец-то, – сказал он, – у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение.
Поздно ночью Ошейников, сжав голову руками, сидел за столом.
Надо сказать, что Ошейников был плодовитым писателем. На его столе в творческом беспорядке были разбросаны рукописи – оперетты: "В волнах самокритики", "Фокс на Полюсе"; сельские частушки: "Мой миленок не дурак, вылез на акацию, я ж пойду в универмаг, куплю облигацию"; романсы: "Пылали домны в час заката, а ты уехала в ландо", "Ты из ландо смотрела влево, где высилось строительство гидро". Из-под романсов высовывалась историческая пьеса "Столетняя война", начинавшаяся ремаркой: "Граф опрокинул графиню на сундук и начал от нее добиваться".