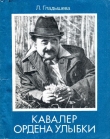Текст книги "Кавалер Ордена Золотого Руна"
Автор книги: Владислав Гурин
Соавторы: Альберт Акопян
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
В ближайшем номере "Приключенческого дела" появилась развернутая статья "Пробка – наше будущее", которая заканчивалась призывами "вынем миллионы из мусорных ящиков" и "отдерем миллионы у дикой природы". Подписана статья была главным редактором товарищем Икапидзе.
Предложение имело успех. Один очень видный хозяйственный руководитель высказался в том смысле, что пробку действительно не худо бы собирать. С этим согласились все.
Но произошло совсем не то.
Первой откликнулась киноорганизация. Там зорко следят за прессой и торопятся все что ни на есть немедленно отобразить в художественных произведениях. Вскоре было обнародовано сообщение, что сценарист Мурузи приступил к работе над сценарием (название еще не утверждено), в котором ставятся вопросы сбора пробки в свете перерождения психики отсталого старьевщика-единоличника. Через два дня последовало новое сообщение. Оказывается, Мурузи сценарий уже окончил (условное название "Золото в пыли"), создана крепкая съемочная группа и составлена смета на девяносто четыре тысячи ориентировочных рублей.
И все закипело.
В отделе "Над чем работает писатель" можно было прочесть, что писатель Ошейников заканчивает повесть, (условное название "Пробка зовет!") трактующую вопросы сбора пробки, однако уже не в свете перерождения психики какого-то жалкого старьевщика, а гораздо шире и глубже – в свете преодоления индивидуалистических навыков мелкого кустаря, подсознательно тянущегося в артель.
Главы из своей новой повести Ошейников уже читал на районном слете водолазов-спасателей. Водолазы нашли, что повесть заслуживает пристального внимания, но что автор плавает по поверхности и ему не мешает углубить свое мировоззрение. Автор обещал слету мировоззрение подвинтить в декадный срок.
Решительно пробка захватывала все большие участки жизни. Странные колебания эфира показали, что радиообщественность тоже не дремлет. Были отменены утренние концерты. Вместо них исполнялась оратория. Дружно гремели хор и оркестр:
Мы были пробкой не богаты,
Богаты пробкой станем мы.
Давай, валяй, смелей, ребяты,
Штурмуй кавказские холмы!
На всякий случай отменили и дневные концерты, чтобы размагничивающей музыкой Шопена не портить впечатления от оратории.
Жару поддала смелая газетная статья. В ней горизонт необыкновенно расширялся. Автор статьи утверждал, что обыкновенная пробка есть не только затычка для закупоривания бутылей, банок и бочек, не только материал, идущий на спасательные пояса, изоляционные плиты и тропические головные уборы, но нечто гораздо более важное и значительное. Ставился вопрос не голо практически, но принципиально, а именно – о применении в сборе пробки диалектико-материалистического метода. Автор всячески клеймил работников, не применявших до сих пор этого метода в борьбе за пробку. В качестве примера недиалектического подхода к пробке приводился киносценарий, сочиненный торопливым Мурузи.
Мурузи ужаснулся и картину стали переделывать на ходу. Заодно увеличили смету (сто шестьдесят три тысячи ориентировочных рублей).
Юмористы пустили в ход старый каламбур насчет пробки бутылочной и пробки трамвайной.
Вышел в свет первый номер литературного альманаха "Голый дуб".
Взору уже рисовались большие прохладные склады, наполненные пахучими пробками, как вдруг произошел ужасный случай.
Редакции нескольких газет опубликовали открытое письмо, подписанное шестнадцатью эпидемиологами и двадцатью пятью ботаниками. Эпидемиологи утверждали, что очистить пробку, бывшую в употреблении, практически невозможно. Если же срезать верхний слой, то это будет слишком дорого, к тому же такой пробкой можно будет затыкать только клистирные трубки. Ботаники же напоминали, что пробку с пробкового дуба снимают один раз в десять лет, начиная с пятнадцатилетнего возраста деревьев. А саженцы на Кавказе еще слишком молоды.
Когда Сеня ввалился в квартиру со стопкой свежих газет, Остап сидел у стола, мечтательно закатив глаза.
– Чем вы занимаетесь?.. – замогильным голосом спросил Сеня.
– Составляю перечень припасов для Кавказской экспедиции. Знаете, Сеня, очень приятное занятие. Поэтому так захватывает книга о путешествии Стэнли в поисках Ливингстона. Там без конца перечисляются предметы, взятые Стэнли с собой для обмена на продовольствие. Мы для обмена на продовольствие возьмем казенные деньги. А вот из предметов, я тут прикинул… – Остап зашелестел своими листочками.
– Остап, – грубо прервал его Сеня, – экспедиции не будет. – И бросил газеты на стол.
Бендер пробежал глазами броские заголовки.
– Ну и что? Эка беда. Поедем искать что-нибудь другое.
– Что? Что другое?!
– Ну что-нибудь вечное, скажем, Швейцарию или, вот…
– Что вы несете?! Остап Ибрагимович! Мы потеряли уйму времени, командировочные. Икапидзе грозит оторвать мне голову!
– Зачем она ему? Все, все. Объясняю. Человеческое тщеславие, Сеня, имеет замечательный парадокс. Очень хочется прославиться и при этом, заметьте, спрятаться в чью-то великую тень. Ленинград – "Вторая Венеция", Тянь-Шань– "Вторая Швейцария". Сколько их по свету! Ведь еще испанцы назвали индейский поселок на озере Маракайбо Венесуэллой – "Маленькой Венецией". А своя "Швейцария", есть даже в Подмосковье. То же и с людьми. Как-то в ресторане жаловался мне один общепризнанный батько киевского оперного куреня: "Кажется, все сделал. И куражился, и с оркестром ругался, и морду бил кому попало. Почему же я все еще не второй Шаляпин? Нет, понимаешь, этого шаляпинского пианиссимо. Черт возьми, нет и фортиссимо…"
– Остап Ибрагимович!!! Что же делать?!
– Я же сказал, – обиделся Остап. – Поедем искать Аджарскую Швейцарию за свой счет.
Глава 18.
Ной и Антоша Чехонте
Человек внезапно просыпается ночью. Душа его томится. За окном качаются уличные лампы, сотрясая землю, проходит грузовик; за стеной сосед во сне вскрикивает: «Сходите? Сходите? А впереди сходят? А вы у них спрашивали? А что они вам ответили?» – и опять все тихо, торжественно.
Уже человек лежит, раскрыв очи, уже вспоминается ему, что молодость прошла, что за квартиру давно не плачено, что любимые девушки вышли замуж за других, как вдруг он слышит вольный, очень далекий голос паровоза.
И такой это голос, что у человека начинает биться сердце. А паровозы ревут, переговариваются, ночь наполняется их криками – и мысли человека переворачиваются. Не кажется ему уже, что молодость ушла безвозвратно. Вся жизнь впереди. Он готов поехать сейчас же, завернувшись в одно только тканевое одеяло. Поехать куда попало, в Сухиничи, в Севастополь, во Владивосток, в Рузаевку, на Байкал, на озеро Гохчу, в Жмеринку. Сидя на кровати, он улыбается. Он полон решимости, он смел и предприимчив, сейчас ему сам черт не брат. Пассажир – это звучит гордо и необыкновенно!
Но… Вот он трусливой рысью пересекает Каланчевскую площадь, стремясь к Рязанскому вокзалу. Тот ли это гордый орел, которому сам черт не брат! Он до тошноты осторожен. На вокзал пассажир прибегает за два часа до отхода поезда, хотя в мировой практике не было случая, чтобы поезд ушел раньше времени.
К отъезду он начинает готовиться за три дня. Все это время в доме не обедают, потому что посуду пассажир замуровал в камышовую дорожную корзину. Семья ведет бивуачную жизнь наполеоновских солдат. Везде валяются узлы, обрывки газетной бумаги, веревки. Спит пассажир без подушки, которая тоже упрятана в чемодан-гармонию и заперта на замок. Она будет вынута только в вагоне. На вокзале он ко всем относится с предубеждением. Железнодорожного начальства он боится, а остальной люд подозревает. Он убежден, что кассир дал ему неправильный билет, что носильщик убежит с вещами, что станционные часы врут и что его самого спутают с поездным вором и перед самым отъездом задержат.
Вообще он не верит в железную дорогу и до сих пор к ней не привык.
Железнодорожные строгости пассажир поругивает, но в душе уважает, и, попав в поезд, сам не прочь навести порядок.
Поезд "Москва-Минеральные Воды" вышел и прибыл по расписанию. Никто не отстал от поезда, не высовывался из окон, не родил в дороге, не сорвал тормоз Вестингауза и не совершил других мелких и крупных нарушений.
Накануне поездки Остап заявил, что из принципа хотел бы перейти румынскую границу, но поскольку западная граница теперь неприступна, как Инга Зайонц после разлада с другом его детства Колей Остен-Бакеном, то начать придется сразу с Закавказья. Этот театр военных действий был, по словам Остапа, ему хорошо знаком. В случае неудачи предполагалось десантироваться через Каспийское море в Среднюю Азию, которая, опять же по словам командора Бендера, была им рекогносцирована во время плавания на кораблях пустыни.
Возможность расширения театра военных действий далее на восток, несмотря на уговоры Сени, Остап рассматривать отказался. Во-первых, он не любит лазить через стены, особенно через Великую Китайскую, во-вторых, панически боится уссурийских тигров и в-третьих, у него, как у турецкого янычара, психологическая несовместимость с японскими самураями.
Едва сойдя с поезда, Остап предложил Сене зайти в уютный кабачок, точного названия которого он никак не мог вспомнить. То ли "Араратский аромат", то ли "Ароматный Арарат".
– Знаете, Сеня, в чем беда русского человека? – говорил он по дороге. – Для нас, русских, "хорошо провести вечер" означает истратить кучу денег и напиться как свинья. А ведь можно спокойно, душевно посидеть в прохладном полумраке, с интимной музыкой, за рюмочкой настоящего, доброго вина, вспомнить день минувший, обсудить день грядущий…
…Процесс воспоминаний и обсуждений затянулся до позднего вечера. Следующего дня.
– Остап Ибрагимович, ну нельзя же столько пить! – Сеня бережно вел Бендера по дорожке парка. – Арарат! Арарат! Ной нашелся…
– Сеня, друг! Это девятимесячное "стояние на Угре", то бишь "сидение в Москве" меня вконец истощило. Ну что поделаешь, если Минводы оказывают на меня такое воздействие, – Остап икнул. – Кругом себя оправдывают. Я просто омолодился!
– Смотрите, не умрите от скарлатины, – Сеня с трудом усадил командора на садовую скамейку.
Мимо прошла рослая девица. Остап вскочил и бросился за ней неверной походкой, декламируя нараспев:
За ней, как тигр, шел матрос.
Вплоть до колен текли ботинки.
Являли икры вид полен,
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен…
– Что же вы молчите? О-хо-хо! Она знала все языки но после тифа забыла!
Девица развернулась, влепила потомку трапезундских императоров пощечину и пошла дальше.
– Пардон! – кричал Остап, сидя на дорожке. – Я перепутал страницу. Подождите!
Я как ворон по свету носился,
Для тебя лишь добычу искал,
Надсмеялся над бедной девчонкой,
Надсмеялся, потом разлюбил.
– Остап Ибрагимович, опомнитесь! Денег осталось только до Владикавказа.
– Так много?! Давайте их сюда! Мне срочно нужна дамочка "Скорая помощь". Я болен любовью:
Наша жизнь – это арфа.
Две струны на арфе той.
На одной играет счастье,
Любовь играет на другой…
– Денег я вам не дам! – отрезал Сеня. – Где будем ночевать?
Остап вздохнул и начал подниматься задом на манер одногорбого корабля пустыни:
Кончен, кончен день забав,
Стреляй, мой маленький зуав.
Он выпрямился. Взгляд приобрел осмысленность.
– Что деньги, Сеня! Они валяются на дороге. Вернее, на книжном развале. Прыгнула тут на меня одна идейка, когда проходили мимо. А насчет ночлега не беспокойтесь. Есть один подходящий скверик около картинной галереи.
– Шикарно, – ухмыльнулся Сеня. – Галерея-то хоть интересная?
– Галерея как галерея. Берут.
– Вы деградируете, Остап Ибрагимович. Ну да ладно. Мы еще увидим небо в алмазах, как сказал Антон Павлович Чехов.
– Чехов? – тускло спросил Остап. – Кому сказал?
– В "Дяде Ване". Стыдно, командор, не знать этого.
Командор вдруг как-то странно посмотрел на Сеню и сказал:
– А вот завтра и проверим, какой вы знаток Чехова.
Утром Бендер долго и придирчиво выбирал на книжном развале нужное издание. Он был стеснен в средствах. Предусмотрительный Сеня уже сбегал на вокзал и купил билеты до Владикавказа. Так что оперировать великому комбинатору приходилось в пределах сумм, выделенных на питание. Он торговался как испанец с индейцами и наконец остановил свой выбор на тоненькой книжке, одном из первых массовых изданий Чехова. Особенно ему понравились чистые листы "Для заметокъ" в конце книжки. Остап с еле поспевавшим за ним Сеней бросился на Главпочтамт, обмакнул ручку в чернильницу и вывел на форзаце книги по всем правилам дореволюционной каллиграфии: "Дорогому другу Георгию Валентиновичу Плеханову от Антоши Чехонте".
– Что вы делаете?! – сдавленно прошептал Сеня.
– Прокладываю мостик от передовой российской интеллигенции к вождям революционного пролетариата. Пусть я сдохну, если местный краеведческий музей не выложит за это пару сотен. А теперь освежите-ка мне память насчет главных вех в творчестве друга Плеханова.
Пока Сеня рассказывал, Остап что-то быстро писал на страницах "Для заметокъ", изредка требуя подробностей.
Через двадцать минут Сеня прочел:
"…Хорошо бы пьесу написать из жизни помещика…"
"…Помещика зовут дядей Ваней. Это ясно…"
"…Героиня – тоскующая девушка:
– Мы еще увидим небо в алмазах. Мы отдохнем, дядя Ваня, мы отдохнем…"
"…Хорошо бы рассказ написать из жизни врача…"
"…Чудное название для рассказа: "Палата № 6"…"
"…Фамилия: Навагин…"
"…Фамилия: Пересолин. Чиновник. Его жену чиновники называют – Пересолиха…"
"…Хорошее название для пьесы: "Вишневый сад"…"
"…Думаю съездить на Сахалин. Говорят – интересно…"
"…Не купить ли дачку в Ялте. Знакомые советуют…"
"…Только что написал "Чайку". Знакомые одобрили…"
– Ну что, похоже? – спросил Остап.
– Свинья вы, Остап Ибрагимович, – ответил Сеня, – самого бы вас за это на Сахалин. Знакомые одобрят.
Он брезгливо отвернулся, как кот, которому пьяный шутник сует в нос дымящуюся папиросу. Он даже фыркнул от отвращения.
– Ой, какой реагаж! – Остап долго смеялся.
– Ладно уж, Сеня. Я уверен, Антон Павлович нас простил бы и даже посмеялся за компанию. Бога ради, займите очередь за пивом, голова просто раскалывается.
Сеня ушел.
Бендер подумал немного, чиркнул пару строчек и вышел следом.
По дороге он заметно волновался и несколько раз повторил, что деньги валяются на дороге и надо только не лениться их подобрать.
В краеведческий музей великий комбинатор зашел один, Сеня сопровождать его наотрез отказался. Через несколько минут дверь музея распахнулась и в проеме показалась спина Бендера. Его теснили к выходу несколько старушек и козлобородый профессор. Профессор норовил ударить Остапа клюкой и только приговаривал: "За Антона Павловича! За Николая Васильевича!"
– Вы что думаете? – орал Бендер, – если они жили до революции, значит у них не было творческого обмена?! Вы негибкие, товарищи!
Споткнувшись на крыльце, Остап полетел вниз. Вслед ему полетела поруганная книга. Дверь музея захлопнулась.
Пока Бендер вставал и отряхивался, Сеня открыл "записную книжку друга Плеханова". Последним перлом в ней было:
"…Эх, тройка! Птица-тройка! Кто тебя выдумал?…"
– Вы с ума сошли! – воскликнул Сеня. – Это же Гоголь!
– Теперь и я вспомнил, что это Гоголь… Но какой русский не любит быстрой езды?! Ладно, пора на вокзал… Как там наш граммофон в камере хранения поживает?
Давно уже Колоколамск не видел Никиту Псова в таком сильном возбуждении. Когда он проходил по Малой Бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два последних дня вовсе не пил. Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость:
– Конец света. Потоп. Разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Светопреставление начинается. Довели большевики до ручки! Поглядите-ка.
И Псов дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии. Впечатлительный гражданин Петцольд из дома № 17 значительно развил сообщение Псова. По полученным им, Петцольдом, сведениям, Москва была уже затоплена, и реки повсюду вышли из берегов, в чем он, Петцольд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан, тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте и заявила, что потоп ожидается уже давно и об этом на прошлой неделе говорил ей знакомый коммунист из центра, в городе началась паника.
Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть во цвете лет. Посыпались проекты, клонящиеся к спасению города от потопа.
– Может, переедем в другой город? – сказал Никита Псов.
– Лучше стрелять в небо из пушек, – предложил мосье Подлинник, – и разогнать таким образом тучи.
Но оба эти предложения были отвергнуты. Первое отклонили после блестящей речи Петцольда, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда. Вторым, довольно дельным, предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием артиллерии.
И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделением обратились на капитана Ноя Архиповича Похотилло, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно крутил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же нашелся.
– Ковчег! – сказал он. – Нужно строить ковчег!
– Ной Архипович! – застонала толпа в предвкушение великих событий.
– Считаться не приходится, – отрезал капитан Похотилло. – Благодарить будете после избавления.
На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло решение колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь лесоматериал, какой только нашелся в городе. Рабочим чертежом служил рисунок Доре из восемнадцатифунтовой семкиной Библии, которую принес дьякон живой церкви отец Огнепоклонников. К вечеру дождь усилился, пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом.
– Считаться не приходится, – говорил капитан Похотилло. На нем был штормовой плащ и зюйдвестка. Редкий дождик шел всю ночь. На рассвете в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает странное выражение капитана "Считаться не приходится".
Считаться приходилось все время. Ной Архипович брал за все: за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше качать.
С первых пассажиров, в числе которых были: мосье и мадам Подлинники, Петцольд и Сицилия Петровна, сменившая утренний капот на брезентовый тальер, расторопный капитан взял по 80 рублей. Но потом Ной Архипович решил советских знаков не брать и брал царскими. Никита Псов, наименее умный из граждан, разулся перед ковчегом и вынул из сапога "катеньку", за что был допущен внутрь с женой и вечнозеленым фикусом.
У ковчега образовалась огромная пробка. Хлебнувший водки капитан заявил, что после потопа денежное обращение рухнет, что денег ему никаких поэтому не надо, а даром спасать колоколамцев он не намерен. Ноя Архиповича с трудом убедили брать за проезд вещами. Он стоял у входа на судно и презрительно рассматривал на свет чьи-то диагоналевые брюки, подбрасывал на руке дутые золотые браслеты и не гнушался швейными машинками, отдавая предпочтение ножным.
Посадка сопрововождалась шумом и криками. Подгоняемые дождем, который несколько усилился, граждане энергично напирали. Оказалось, что емкость ковчега ограничена двадцатью двумя персонами, включая сюда кормчего Похотилло и его первого помощника Долой-Вышневецкого.
– Ковчег не резиновый! – кричал Ной Архипович, – защищая вход своей широкой грудью.
Граждане с надрывом голосили:
– Пройдите в ковчег! Впереди свободнее!
– Граждане, пропустите клетку с воронами! – вопил председатель общества "Геть неграмотность" Баллюстрадников.
Когда вороны были внесены, капитан Похотилло увидел вдали начальника курсов декламации и пения Синдик-Бугаевского, за которым в полном составе двигались ученики курсов.
– Ковчег отправляется! – испуганно закричал капитан. – Граждане! Сойдите со ступенек. Считаться не приходится!
Двери захлопнулись. Дождь грозно стучал о глазетовую крышку. Снаружи доносились глухие вопли обреченных на гибель колоколамцев.
Три дня и три ночи просидели отборные колоколамцы в ковчеге, скудно питались, помалкивали и с тревогой ждали грядущего.
На четвертый день выпустили через люк в крыше ворону. Она улетела и не вернулась.
– Еще рано, – сказал Псов.
– Воды еще не отошли! – разъяснил капитан.
На пятый день выпустили вторую ворону. Она вернулась через пять минут. К левой ее ножке была привязана записочка:
"Вылезайте, дураки". И подпись: "Синдик-Бугаевский".
Отборные колоколамцы кинулись к выходу. В глаза им ударило солнце. Ковчег, весь в пыли, стоял на месте его постройки – посреди Малой Бывшей, рядом с пивной "Арарат".
– Позвольте, где же потоп? – закричал разобиженный Петцольд. – Это все Псов выдумал.
– Я выдумал? – возмущенно сказал Никита Псов. – А кто же говорил, что реки вышли из берегов, что Москва уже утонула? Тоже Псов?
– Считаться не приходится! – загремел Похотилло.
И ударил Никиту вороной по небритому лицу.
Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи.
Когда друзья вышли из Владикавказа на Военно-Грузинскую дорогу, Остап вдруг остановился и спросил:
– Сеня! Так как же называется тот кабачок: "Араратский аромат" или "Ароматный Арарат"?
Глава 19.
«Кавказ подо мною…»
– Ага! Километровый столбик, – обрадовался Бендер. – Граммофон ваш.
Дальше он шел, пританцовывая.
– Не волнуйтесь, товарищ Изаурик, семь лет назад я преодолел этот маршрут в паре с сумасшедшим стариком, и должен сказать, в первый день мы прошли даже больше, чем вчера с вами. Причем тогда наш основной и оборотный капитал исчислялся двугривенным, а сейчас у нас целая пятерка и граммофон… Вы посмотрите, какая красота! Какие пидкрутизны! Ни пером описать, ни гонораром оплатить. Безусловно, Кавказский хребет создан после Лермонтова и по его указаниям.
– Вы имеете в виду эти параксизмы надписей на скалах, барьерах и прочих видах дикой и недикой природы? – угрюмо отозвался Сеня.
– О! "Коля и Мика"! Старые знакомые! Где-то здесь поп-кладоискатель украл колбасу у предводителя дворянства.
– Остап Ибрагимович, вы переутомились, – Сеня поставил граммофон на барьер.
– Да-да, Сеня, привал. – Бендер сел рядом с граммофоном. Черт с попом и предводителем. Сейчас я думаю об этих двоих. Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Разжирели, наверное, постарели? Небось теперь и на четвертый этаж не подыметесь, не то что под облака – имена свои рисовать? Где же вы теперь, Коля, служите? Плохо служится, говорите? Золотое детство вспоминаете? Какое же оно у вас золотое? Это пачканье ущелий-то вы считаете золотым детством? Коля, вы ужасны! И жена ваша – Мика, скорее всего, противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак! Да, да, все вы такие, ползуны по красотам! Печорин, Печорин, а там, гляди, отчета сбалансировать не можете!
– Остап Ибрагимович, а вон тот "Ося", который с "Кисой", к вам, случайно, отношения не имеет?
– Что за глупости?! Вставайте, граф! Вас ждут великие дела. Не забудьте граммофон. Деньги, как я говорил, валяются на дороге. А дорога, Сеня, это не инженерное сооружение. Дорога – это именно движение, со всеми его…
– В Минводах они тоже валялись на дороге, – прервал его Сеня.
– Минводы, – казалось, Остап нисколько не смутился, – это нелепая случайность, одна из тех, что дает хлеб писакам-биографам. Согласитесь, кому было бы интересно читать биографию Достоевского, если бы он в молодости не проигрывался в карты дотла? А Капабланка, рассказывают, проиграл в гаванском кабачке какому-то пьяному матросу.
– Врете! – воскликнул Сеня с таким возмущением, как будто сам выиграл у Капабланки не менее трех партий и проигрыш последнего пьяному матросу умалял его, Сенины, шахматные достоинства.
– Кстати, Сеня, что вы будете делать, когда окажетесь за границей?
– Куплю костюм. Мне надоело маскировать свой возраст студенческими курточками. Я морально устал без костюма. Обойдя выступ скалы, друзья увидели группу горцев, шумно обсуждавших достоинства небольшого, в полдюжины голов, стада баранов. Место для устройства импровизированного базара объяснялось тем, что здесь к Военно-Грузинской дороге выходила менее знаменитая, из горного аула.
Остап тут же увлек Сеня обратно.
– Вот они, денежки на дороге, – зашептал он. – Выйдите минут через десять и будете играть роль восторженного зрителя, удивленного легкостью выигрыша. Давайте граммофон. Я просто обязан оплодотворить это средневековое торжище теорией современного маркетинга.
Бендер подошел к горцам, завел граммофон, поставил "Арию Фигаро", сел по-турецки на свой собственный походный пиджак, достал колоду карт и закричал:
– Красненькая выиграет, черненькая проиграет!
Перед собравшейся толпой ингушей и осетин в войлочных шляпах Остап бросал рубашками вверх три карты, из которых одна была красной масти и две черной. Любому гражданину предлагалось поставить на красненькую карту любую ставку. Угадавшему командор брался уплатить на месте.
– Красненькая выиграет, черненькая проиграет! Заметил – ставь! Угадал – деньги забирай!
Сеня легко выиграл три рубля мелочью.
Горцев пленила простота игры и легкость выигрыша.
Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево, и не было никакого труда угадать, куда она легла.
Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и Остап для блезира проиграл и им копеек сорок. К толпе присоединился всадник в коричневой черкеске, в рыжей барашковой шапке и с обычным кинжалом на впалом животе.
– Красненькая выиграет, черненькая проиграет! – запел Остап, подозревая наживу. – Заметил – ставь! Угадал – деньги забирай! А ты, кацо, что стоишь? – обернулся Остап к Сене. – Выиграл трешка – иди аул, хлеб, брынза покупай.
Он сделал несколько пассов и метнул карты.
– Вот она! – крикнул всадник, соскакивая с лошади. "Трешка, хлеб и брынза" раззадорили его. – Вон красненькая! Я хорошо заметил!
– Ставь деньги, кацо, если заметил, – сказал Остап.
– Проиграешь! – сказал горец.
– Ничего. Проиграю – деньги заплачу, – ответил Остап.
– Десять рублей ставлю.
– Поставь деньги.
Горец распахнул полы черкески и вынул порыжелый кошель.
– Вот красненькая! Я хорошо видел.
Игрок приподнял карту. Карта была черная.
– Еще карточку? – спросил Остап, пряча выигрыш.
– Бросай.
Остап метнул.
Горец проиграл еще двадцать рублей. Потом еще тридцать. Горец во что бы то ни стало решил отыграться. Толпа шумела. Всадник пошел на весь проигрыш. Остап, давно не тренировавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию, передернул на этот раз весьма неудачно.
– Отдай деньги! – крикнул горец.
– Что?! – закричал Остап. – Люди видели. Никакого мошенства!
– Люди видели, не видели – их дело. Я видел, ты карту менял, вместо красненькой черненькую клал! Давай деньги назад!
С этими словами горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенес первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. Вспыльчивые ингуши били недолго. Они остыли так же быстро, как остывает ночью горный воздух. Граммофон, исходя из законов гостеприимства, ингуши не тронули. Через десять минут горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой аул, толпа вернулась к своим баранам, а Бендер, элегантно и далеко сплевывая кровь, сочившуюся из разбитой десны, отковылял в сторону и стал дожидаться Сени.
Через минуту после того, как последние горцы покинули рынок-ристалище, погоняя измученных баранов, на дорогу вышел Изаурик. В руках он держал хлеб, брынзу и пучок лука.
– Ай-яй-яй! Нам опять не повезло? – почти искренне посочувствовал он.
Остап сплюнул в бурный поток.
– Увы, Сеня, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Особенно в Терек. А вы, я вижу, юноша инициативный. Про лук я ничего не говорил.
– Не цените вы меня, Остап Ибрагимович, – Сеня сунул руку за пазуху и достал оттуда задушенного цыпленка.
Остап посмотрел на него расширенными от ужаса глазами:
– Боже мой! Наверное, с такого же птенчика начинал гусекрад Паниковский. Если бы вы знали, как ужасно он кончил. Что вы наделали! – вдруг завизжал он. – У ингушей цыплята дороже баранов. Они уже хватились! Выбросьте его немедленно!
Бурный Терек подхватил золотого петушка и понес в сторону Владикавказа.
Остап крякнул:
– Посмотрите, как он бьет крыльями по волнам. Вам не кажется, что он ожил? Может быть, он к нам еще вернется? Я ведь пошутил насчет привилегированного статуса ингушских хохлаток.
– У вас, Остап Ибрагимович, плебейские шутки.
– А у вас, Сенечка, плебейское воображение. Вы что, верите, что горские курочки-рябы несут золотые яйца? Оставьте эти фантазии для своего Колоколамска. И давайте же жрать наконец!
Минуты две друзья ели молча.
– Остап Ибрагимович, – нарушил тишину, вернее грохот Терека, Сеня. – Вы бы умерили аппетит. Да нет, я не в прямом смысле! – спохватился он и похлопал Бендера по спине. – Я верю в ваш гений, но, по-моему, то, что случилось здесь, на Военно-Грузинской дороге, – это, так сказать, военно-полевые цветочки…
Послышался шум мотора. Друзья выскочили на дорогу и вскинули руки. Мимо проехал автобус, везший не менее сорока туристов и не более ста двадцати чемоданов.
– Кланяйтесь Казбеку! – крикнул Остап вдогонку машине. – Поцелуйте его в левый ледник!
Автобус затормозил и, грозно заурчав, подал назад.
– Две драки в один день – это уже оргия, – Остап попятился к аульскому аппендиксу.
Но из автобуса высунулся милейший тип в матерчатой шляпке с пуговкой и пригласил путников "влезать", не забыв присовокупить при этом, что это именно он упросил шофера остановить автобус "его старым друзьям".
– Правда, Лелечка? Это ведь я попросил подвезти наших старых друзей? – вопил он, радуясь своему хитроумию.
– А ну подвинься, самаритянин, – Остап грубо оттолкнул благодетеля, протискиваясь в салон. – Граждане! – скомандовал он. – Чемоданы вниз, баулы и мешки наверх! – И уже мягче добавил, обращаясь к Сене: устраивайтесь, Ваше сиятельство, с подобающим комфортом.
Впрочем, он тут же занял место получше.
– А правда, на Кавказе прекрасные дороги? – решил развить знакомство "со старыми друзьями" душечка в кепочке, но, не получив ответа, повернулся к жене:
– А знаешь, Лелечка, на Кавказе прекра…
Но тут случился ухаб, и пассажиры с перекошенными лицами, как гуси, взлетели к потолку.