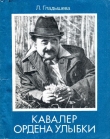Текст книги "Кавалер Ордена Золотого Руна"
Автор книги: Владислав Гурин
Соавторы: Альберт Акопян
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
По мужской линии род Подлинника восходил к Степану Разину, а по женской – к Фердинанду Лассалю.
Из этого же древа явствовало, что пра-пра-пра-пра-дедушка мосье в свое время был единственным в Киеве полянином, который протестовал против захватнической политики Аскольда и Дира.
Это был пир генеалогии, знатности и богатства.
О холодном сапожнике, продавшем свое происхождение, все забыли. Но сам Досифей Взносов страдал невыразимо. Позднее раскаяние грызло его душу. Он не спал по ночам, похудел и перестал пить.
И однажды все увидели, как Досифей прошел через город, неся в правой руке дымящуюся тарелку супа-пейзан, а в левой – рюмку водки. Он шел, как сомнабула, шел выкупать свое пролетарское происхождение.
Он вошел в дом Подлинника и с дарами в руках остановился на пороге. Рот его открылся и оттуда глянули давно не чищенные с горя и тоски зубы.
Мосье-пролетарий сидел за безбрежным письменным столом. На мизинце его левой руки блистал перстень с бриллиантовыми серпом и молотом. Стена была увешана редчайшими портфелями. Они висели, как коллекция старинного оружия.
– Вы пришли к занятому человеку, – сказал Подлинник.
– Вот суп, – робко сказал Досифей, – а вот и водка. Отдайте мне назад мое пролетарское происхождение.
Подлинник встрепенулся.
– Тронутое руками считается проданным, – сказал он ясным голосом. – Происхождение в последнее время поднялось в цене. И я могу обменять его только на партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет?
Но у Досифея Взносова билета не было. Он был безбилетный.
Медленно он вышел от Подлинника и удалился в свою Зазбруйную часть. Переходя реку по льду, он остановился у проруби, с тоской оглянулся и бросил в воду тарелку с уже остывшим супом и рюмку с водкой.
Вечером у Молоковичей гремела музыка.
Все пировали.
Пировали с той же ошеломляющей дремучей тоской, с какою служили в различных конторах и объединениях.
Уже давно они ходили друг к другу на ассамблеи, года три. И все знали про всех все.
Знали, что у Молоковичей всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Петькина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, норовят не дать ужина и ограничиться светлым чаем и бисквитами "Баррикада", а девица Быкова вообще никогда к себе не приглашает, хотя ее приглашают все. Вынуждены приглашать. У Быковой чудесные пластинки: вальс-бостон "Нас двое в Бунгало", чарльстон "Обезьянка" и старый немецкий фокстрот "Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара", что, возможно, значит: "Я уезжаю с моей Кларой в ту Сахару". Самое же главное, у Быковой есть чудесный заграничный граммофон без трубы.
Надо заметить, что дамы ненавидели друг друга волчьей ненавистью и почти не скрывали этого. В продолжение всего пира хозяйка ударными недомолвками давала понять гостям, что таких шпрот и такого вина никак не найти на вечеринках, кои устраиваются враждебными ей гуриями.
Пока мужчины под звуки "Нас двое в Бунгало, и больше нам не надо никого" выпивали и тревожили вилками зеленую селедку, жены с изуродованными от злобы лицами сидели в разных углах, как совы днем.
Зубврач Петькин продолжал извечный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл их сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от врача нельзя было добиться.
– Ну вот-с, – иронически сказал Вздох-Тушуйский, – вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки… Ну, а дальше что?
– Дальше? А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью… Ну, вот. Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку… Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.
Вздох-Тушуйский раздраженно хмыкнул.
– Ну, а зайцы то? Стреляли вы по ним крупной дробью?
– Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Донников, а у него целый "гусь" запрятан, четвертуха вина…
Петькин захохотал, обнажив светлые десны.
– Вчетвером целого "гуся" одолели и легли спать, тем более – на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем. Темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное… Ну, у меня полшишки нашлось. Выпили. Чувствуем – не хватает. Драманж! Баба двадцатку донесла. Была там в деревне колдовница такая – вином торгует…
– Когда же вы охотились-то, позвольте полюбопытствовать?
– А тогда ж и охотились… Что с Григорием Васильевичем делалось! Я, вы знаете, никогда не блюю… И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. "Не расходитесь, – говорит, – ребята. Я сейчас еще кой-чего довезу". Ну, и довез, конечно. И все сороковками – других в "Молоте" не было. Даже собак напоили…
– А охота?! Охота! – закричали все.
– С пьяными собаками какая же охота? – обижаясь, сказал Петькин.
Вдруг хозяйка взвизгнула, выбежала в соседнюю комнату и через пару минут вернулась оттуда в новом костюме. На ней была голубая куртка с белыми отворотами. Такие же отвороты украшали ее голубые брюки. Сшито все было из ткани, употребляющейся на теплую подкладку к папахам.
Лица женщин позеленели.
Мужчины задумались о нелепом аристократизме мадам Молокович и погрустнели.
Лишь затюканный Молокович-муж на несколько секунд преобразился. Его глаза засверкали сумасшедшим огнем. Он победоносно поглядывал на гостей. Сама же мадам Молокович поглядывала на Остапа. Но так как она при этом вертелась, то вскоре потеряла равновесие и упала на колени к пьянице Петькину.
– Почему же никто не танцует? – заорал Петькин. – Где пиршественные клики? Где энтузиазм?
Но так как кликов не было, Петькин схватил мадам Молокович за плечи и потащил ее танцевать.
На танцующую пару все смотрели с каменными улыбками. Гражданка Петькина соорудила улыбку Горгоны-Медузы.
– Скоро на дачу пора! – сказал Дартаньянц, подумав.
Все согласились, что действительно пора, хотя точно знали, что до отъезда на дачу еще оставалось месяца два-три.
К концу вечера, когда водка была вся выпита, Вздох-Тушуйский, как всегда, подпортил настроение разговором на политическую тему. И, как всегда, выдав новость десятилетней свежести.
– Ну как вам нравится Китай? Они скоро всю Хэнань себе заберут, эти кантонцы. Не хотел бы я теперь оказаться в этом английском сеттльменте.
– Англичане же сволочи, – буркнул Петькин, – так им и надо. Они всегда Россию продавали.
Дартаньянц сочувственно пожал плечами, как бы говоря: "А кто Россию не продавал?"
– Ой! – воскликнула девица Быкова. – Я ничегошеньки не понимаю. Какое все же у нас интеллигентное общество!
Молокович-муж в политических прениях принципиально не участвовал, и это Остапу в определенном смысле понравилось.
– В наш век, – грустно сказала мадам Молокович, – интеллигентного человека редко встретишь.
– Да, уж не часто, – подтвердил зубврач Петькин, потирая руки и как будто желая спросить то ли: "На что жалуетесь?", то ли: "Может быть что-то осталось выпить?"
– Встретишь редко, – заметил Вздох-Тушуйский.
– Редко, – мотнул головой Дартаньянц.
– Встретишь, – вздохнула Быкова, устремив страстный взгляд на Бендера. Ее серьги, похожие на большие колокола, призывно закачались.
– А может быть, сыграем во что-нибудь? – вдруг спросил Остап. – во что-нибудь интеллигентное?
– Сыграем, сыграем! – все оживились. Лица покрылись задорным румянцем. Глаза засверкали, как звездочки. – А во что?
– Ну, например… – Бендер на секунду задумался, а потом быстро объяснил ассамблее нехитрую "Угадайку".
– Дартаньянц, выйдите из комнаты, – скомандовала мадам Молокович. – Да смотрите, не подслушивайте у двери.
Киноаспирант гордо пожал плечами и удалился.
Ассамблея долго шушукалась. До Бендера долетали слова: "Сократ, Наполеон, Чайковский". Потом Петькин торжественно открыл дверь.
– Войдите. Смотрите только, не больше десяти вопросов.
– А он в самом деле известный человек? – подозрительно осведомился аспирант. – Я не обязан знать каких-нибудь химиков.
– Не беспокойтесь. Даже грудные дети знают. Но имейте в виду, мы отвечаем только "да" и "нет". Ну, задавайте.
– Могу вам сказать сразу, – торжественно заявил Дартаньянц. – Иисус Христос.
Петькин захохотал и, как дитя, захлопал пухлыми руками.
– А вот и не угадали. Осталось девять вопросов.
– Русский?
– Нет.
– Француз?
– Нет.
– Немец?
– Нет.
Дартаньянц побледнел.
– Англичанин?
– Нет.
– Ит…итальянец?
– Нет.
Дартаньянц с отчаянием посмотрел на потолок.
– Он вел войны?
– Д-да. То есть нет. Не вел.
Осталось только три вопроса.
– В таком случае, это Иисус Христос. Вы меня обманываете.
Он не русский, не француз, не немец, не англичанин и не итальянец. Войн не вел. Значит, ясно – Иисус Христос. А вы мне голову морочите.
– Да говорят вам, что никакой не Иисус Христос. Что вы прицепились к нам со своим Иисусом Христом! Осталось два вопроса.
Дартаньянц напрягся.
– Грек?
– Грек, – ответил Петькин упавшим голосом.
Дартаньянц схватился за голову. Победа была близка.
– Поз-звольте, – бормотал он, – какой же есть знаменитый грек? Гм… Знаю! Гаргантюа!
– Нич-чего подобного! Спиноза.
– Спиноза?
– Спиноза.
– Значит, по-вашему, Спиноза – грек?
– Грек. Древний грек.
– А я вам говорю, что древний римлянин.
– Опомнитесь, Дартаньянц. Он типичный грек. Вы всегда так, когда проигрываете. Или жилдите или придираетесь.
– А может быть еще скажете, что Спиноза – еврей?! – не унимался Дартаньянц.
– Будет, будет, господа, – примиряюще сказал Остап. – Еврей – это почти араб, араб – почти турок, турок – почти грек, грек – почти одессит, а одессит – это москвич. Все мы братья. Позвольте мне сыграть с хозяином дома. Задумайте имя, Анастасий Филиппович.
– Помилуйте, Остап Ибрагимович, я ничего не понял.
– Неважно. Задумали? – в голосе управдома появились стальные нотки. – Он бразилец?
– Н-нет.
– Буддист?
– Нет, – Молокович явно волновался.
– Ну-ка, ну-ка. Смотрите мне в глаза… Граф Средиземский?
– Нет, – Анастасий Филиппович недоуменно хлопал ресницами.
– Значит, это Лермонтов, – устало произнес Бендер, вставая. – Разрешите откланяться. Дела.
Глава 10.
Королевская лилия
В пятницу, в то самое утро, когда Протокотов решал животрепещущую купоросную дилемму, Остап и Сеня бежали по бывшей Оберполицмейстерской в поисках редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело». Солнце светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях выдавали полумесячное жалование. Все шло и ехало на службу.
У маленького магазинчика с большим картонным конвертом в витрине толпилось человек пятьдесят. Не дождавшись открытия помещения они уже предались любимому занятию. У каждого из них была лупа, какие обычно употребляют часовщики, никелированный пинцет, зубцемер (предмет, похожий на продкарточку образца 1920 года), походный альбом и каталог Ивера или Джиббонса.
Чуть в сторонке нервно прохаживался толстяк в каракулевом пальто, перешитом из волосатой кавказской бурки.
– Стоп, машина! – скомандовал Бендер, сворачивая в проулок. – "Кандидат" на горизонте.
– Остап Ибрагимович, это же Вайнторг из четвертой квартиры!
– Вот именно, Сеня, вот именно. Так, во-первых, редакция не волк – из Москвы не убежит, во-вторых, новую жизнь приятно начинать с понедельника, а в-третьих, во мне проснулась ностальгия по любимому занятию детства, – Остап выглянул из проулка. – "Ай уандер", так кажется по-английски "хотел бы я знать", что он там делает без зубцемера и каталога.
– Ни за что не подумал бы, – ухмыльнулся Сеня, – что вы коллекционировали марки.
– Почему же? Я человек увлекающийся. А коллекционирование это страсть. Могучая и всесжигающая, – Остап внимательно разглядывал коллекционеров. – Посмотрите, по большей части это люди почтенные, семейные, люди с положением в обществе, по старомодному выражению. Посмотрите, как грустно и снисходительно они взирают на филателистическую молодежь. Вон, школьник хватает марку пальцами. Старый филателист так никогда не пос-тупит, он осторожно берет ее пинцетом. Собиратель-мальчик не считает числа зубчиков на марке, но опытный человек сейчас же измеряет марку зубцемером. Иногда совершенно одинаковые марки имеют разное число зубчиков. Тогда они считаются разными. Начинающий филателист собирает все марки подряд. В его альбоме есть и Гваделупа, и Мадагаскар, Монако и Австралия. Филателисты, умудренные опытом, специализируются на какой-нибудь одной теме или стране. Есть и настоящие пуритане. Они собирают уже не марки, а одну и ту же марку, напечатанную на разных сортах бумаги или имеющих в разных выпусках тончайшее различие в цвете.
Был у меня однажды компаньон, бывший предводитель уездного дворянства Иполлит Матвеевич Воробьянинов. Лет под сорок он начал собирать земские марки. Ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным в мире собранием русских земских марок.
Превосходство англичанина сильно волновало Иполлита Матвеевича и он подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Иполлит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.
В ответном письме мистер Воробьянинов написал латинскими буквами только два русских слова: "Nakosja vykusi".
Марки он после этого забросил.
Впрочем, здесь не только филателисты. Вон у того, который ближе к дверям, видите, рулончики? Это трамвайные билеты разных городов.
В это время Вайнторг подбежал к какому-то отставному военному в долгополой шинели, вылезшему из таксомотора. Минут пять Степан Соломонович бегал вокруг военного и заглядывал ему в глаза, затем радостно пожал милостиво протянутую руку и убежал. Двери филателистического храма отворились и толпа ввалилась внутрь.
– Пора! – скомандовал Бендер и друзья вошли в магазин.
Вместе с ними вошел гражданин чрезвычайно достойного вида. Он был немолод. Время окрасило его усы в уксусный цвет. Он осмотрел собравшихся светлыми стариковскими глазами и прошамкал:
– А здесь кто-нибудь собирает спичечные коробки?
За шумом торга старика не расслышали.
– Кто-нибудь собирает здесь спичечные коробки? – повторил он сердито.
Продажа серии греческих марок от 5 лепт до 25 драхм на минуту приостановилась. Из толпы выдвинулись два собирателя и с интересом подступили к старику.
– А какие вы собираете коробочки? Целые?
– Нет, только крышечки.
– Как, только крышечки? Это же вандализм!
Старик пошевелил своими уксусными усами и что-то забормотал. Но его не уже слушали.
– Вы испортили свою коллекцию. Она ничего не стоит. Нужно собирать целые коробочки!
Все отвернулись от собирателя сосудов из-под спичек, и торг на греческие марки с изображениями Коринфского канала, белой башни в Салониках и крейсера "Георгий Аверов" возобновился с новой силой.
Остап пробился поближе к отставному военному, но тот был занят беседой с отставным инженером в фуражке с зеленым кантом. Рядом с ними толкался старичок, пытавшийся продать несколько старых номеров "Советского филателиста".
Остап взял один "посмотреть" и, стоя позади отставников, раскрыл журнал: "По-прежнему свирепствуют в колониях империалистические страны, наводняя филателистический рынок марками.
На первом месте опять стоит империалистическая Франция, закончившая покорение непокорного Марокко. За ней следует лицемерно-хищническая Англия, которая по метрополии не выпустила за год ни одной новой марки, раздавив преданных вождей Генерального Совета Профсоюзов углекопов и разорвав дипломатические отношения с Советским Союзом, в то же самое время выпустив на рынок по всем своим колониям 95 новых марок".
Из разговора двух отставников Остап понял, что бывший военный коллекционирует десертные вилочки и зовут его Модестом Гавриловичем.
Едва инженер попрощался с военным, Бендер вернул журнал старику.
– Модест Гаврилович, здравствуйте! Степан Соломонович посоветовал мне обратиться к вам…
– Что коллекционируете? – с подозрением в голосе спросил собиратель столовых орудий.
– Э-э-э… то же, что и Степан Соломонович.
– То же, что?! – вдруг заорал отставник. – Товарищи, вы слышали? Всеядный Вайнторг начал коллекционировать что-то! Молодой человек! – обратился он к Бендеру. – Вы можете держать в одной коробочке рыбные вилочки вместе с десертными, но не называйте, слышите, не называйте это коллекционированием!
Отставник достал пенсне, чтобы лучше разглядеть молодого человека из породы всеядных коллекционеров.
Вокруг смеялись. Остап растерялся. Он шагнул к отставнику и зло зашептал:
– Слушай, ты, военспец паршивый. Мы еще разберемся, кто провалил то наступление в девятнадцатом.
Старик побледнел. Малахитовые жилки расползлись по лицу. Глаза, постаревшие лет на двадцать, как бы говорили: "За что? Ведь уже давно разобрались…"
Наступила тишина. Бендер оглянулся. Все отвернулись и не глядя друг другу в глаза продолжили торги и обмены. На душе было скверно.
– Командор! – окликнул его Сеня. – Не одолжите пятерку? Чудесный альбом фотографий.
" Как хорошо, что он не назвал меня по имени. Умный малый", – Бендер сунул руку в карман.
– Посмотрите, Остап Ибрагимович, какой замечательный канделябр, – Сеня не закрывал альбом, даже когда они вышли из магазина. – А эта шкатулка! А здесь почему-то пустое место. Надо приклеить фотографию какой-нибудь вещицы.
Остап остановился как вкопанный. Несколько секунд он смотрел на пустой розоватый прямоугольник в альбоме. Лицо его прояснилось.
– Спасибо, Сеня. Ты мне здорово помог.
Богатые врачи и бывшие присяжные поверенные любят искусство.
Не думайте, что это вредное обобщение. Здесь нет желания произвести выпад, бросить тень или, скажем, лить воду на чью-то мельницу. Это просто невинное наблюдение.
Врачи (и бывшие присяжные поверенные) двигают искусство вперед. Да, да, и обижаться тут нечего!
Было бы смешно, если бы все женщины вдруг обиделись, узнав, что в немецкой научной книге "Уголовная тактика" имеется следующая формула: "Женщины никогда не сознаются".
Конечно, обидно читать такое решительное утверждение, но уголовная практика показала, что женщина, совершившая какой-нибудь антиобщественный поступок (кража, хипес, притонодержательство), действительно, никогда не сознается на допросе.
Так что иногда можно делать обобщения, если они подкрепляются многолетним опытом.
Итак, еще раз. Врачи обожают искусство. Главным образом врачи-гинекологи. И главным образом живопись. Она им необходима для себя, для приемной, для пациентов.
"Пока живы врачи-гинекологи, живопись не умрет".
Этот блестящий афоризм сказан был одним иконописцем, позже пролеткультовским художником, который, собственно, не художник, а такой, что-ли, своеобразный переводчик. Он делает "юберзецен". Он переводит. Одним словом, он изготовляет фальшивых Рубенсов, Айвазовских, Куинджи и других мастеров кисти. Написать какой-нибудь морской вид, пир полубогов или ядовитый натюрморт с рябчиком ему не трудно. Потребитель, в общем, больше разбирается в медицине, чем в живописи. Трудно придать полотну старинный вид. Но и эта задача в наши дни значительно упростилась.
Просохшая картина сворачивается в трубу. Рубенс-Айвазовский вскакивает в трамвай, и уже через полчаса шумной трамвайной жизни полотно приобретает все необходимые следы памятника искусства XVI или XVII веков – трещины, пятна, оборванные края.
И долго потом врач стоит среди своей плюшевой бамбучьей мебели, смотрит сквозь кулак на новое приобретение и шепчет:
– Наконец-то, наконец у меня есть настоящий Веронезе. Ах, как я люблю именно Веронезе! Сколько воздуха!
За свои деньги эстет требует, чтобы в картине было очень много воздуха. И иконописец, ныне пролеткультовский художник, знает это. Он дает столько озона, сколько врачу нужно, даже больше, чем дал бы сам Веронезе.
Если заказчиков не было, то юберзеценмахер не унывал и штамповал картины с общеизвестным русским пейзажем. Низкое лохматое небо, скошенные поля, по левую руку – роща, избы, церковь, а дальше лес – ну, словом, сборный пейзаж из Третьяковской Картинной галереи. Процентов сорок Левитана, процентов сорок Шишкина. Были и другие передвижники, помельче, процентов на двадцать.
Вообще, наклонность к изящному немножко ослепляет эстета. Главным образом его магнетизирует великая подпись на картине, выведенная шкодливой рукой юберзеценмахера.
Ведь так хочется жить среди статуэток, золотого багета, книжных переплетов, среди перламутра и металлопластики.
И эстет реконструктивного периода делает, как говорят французские и одесские коммерсанты, усилие. Он покупает в антикварном магазине четыре рюмки и одну перечницу с баронскими гербами.
На этом путешествие в прекрасное, однако, не кончается. Полумесячное жалование уходит на большую компотницу эпохи Манасевича-Мануйлова и специальную вилку для омаров, коими кооперативы, как известно, не торгуют. Таким образом, вилка доставляет только лишь моральное удовлетворение и вызывает аппетит к новым покупкам.
На стенах появляются акварельные портретики различных красавиц из созвездия Наталии Гончаровой и другие миниатюры времен, так сказать, Дантеса и Аллигиери.
Тогда меняются и обои. Появляются новые, синие – стиль декабрист. А на синих обоях как-то сами по себе возникают портреты баронессы фон Гаубиц с огромной грудью, находящейся в полужидком состоянии, и чужого прадедушки, генерала с отчаянными баками и с кутузовским бельмом на глазу.
Риск ужасный! Чужого дедушку могут посчитать за родного и вычистить примазавшегося внука со службы. Но эстет идет на все. Он обожает искусство.
Вслед за баронской перечницей, рюмками, компотницей, вилкой и портретами неизбежно приходит первый томик издательства "Preludium".
Это пир роскоши и тонкого вкуса.
Что бы в книге ни было напечатано (воспоминания ли крепостного кларнетиста, антология ли испанских сегидилий и хабанер, стихи древнегреческой поэтессы Антилопы Тифосской) – все равно сатиновый переплет, сделанный из уцененных толстовок, украшен золотыми королевскими лилиями.
Покупатель очень доволен. Настоящие бурбонские лилии! Не какие-нибудь пчелы узурпатора Бонапарта, а настоящие лилии Людовика-Солнца (того самого – "после меня хоть делюж-потоп").
Ах, однажды в Версале! Ах, Тюильри! Ах, мадам Рекамье на бамбуковой скамье!
Ах, если бы Маркса издавали с такими лилиями, в суперобложке художника Лошадецкого, с фронтисписом XVIII века, с виньетками, где пожилые девушки склоняют головы на гробовые урны, с гравюрами на дереве, на меди, на линолеуме, на велосипедных шинах! Стоило бы купить!
Роскошь магнетизирует. Золото и серебро тиснения ослепляют. Так хочется иметь под рукой предметы красоты, что советский виконт охотно принимает толстовочную обложку за атласную, не замечает, что стихи Антилопы Тифосской отпечатаны на селедочной бумаге, из которой торчат какие-то соломинки и древесная труха, что самые лилии осыпают свое золото уже на третий день, что никакой роскоши нет, а есть гинекологический ампир второй сорт, попытка выдать ситро за шампанское.
В воскресенье, через день после происшествия на Никитской, Бендер сидел за столом в квартире Вайнторга. Перед хозяином лежал раскрытый альбом.
– Вот, Степан Соломонович, рекомендую. Афродита верхом на кентавре. Мрамор. Почти задаром. А вот кольцо с масонскими знаками. Смотрите, череп и кости. Имеется отделение для яда.
– А вот, – Остап перевернул страницу, – испанский орден Золотого Руна. Интересуетесь? Могу хоть завтра и недорого.
– Нет-нет, – замахал руками Степан Соломонович. – Хватит с меня и этого с его орденами, – гинеколог мотнул головой в сторону одноглазого генерала.
Глава 11.
История российской дипломатии
Когда в полном соответствии с указаниями календаря «Светоч» солнце высовывается из-за горизонта, оно уже застает не улицах дворников, размахивающих своими метлами, словно косами. Дворники – народ по большей части весьма меланхолический. Может быть, причина здесь та, что им приходится собирать остатки прожитого дня: все бумажки, ломаные папиросные коробки, тряпье, слетевшую с чьей-то ноги рваную калошу – весь мусор и конские яблоки, оставленные за день на улицах двумя миллионами московского населения и многими тысячами лошадей…
Второй существенной чертой Афанасия, дворника кооперативного дома на Шаймоновской улице, помимо меланхоличности, была вопиющая безынициативность. Будучи помноженной на патологическую честность, она давала обильную пищу для культурного веселья скучающих в нерабочее время жильцов. Дело в том, что всякий валяющийся на вверенном ему пространстве предмет, представляющий, по мнению Афанасия, высокую материальную или духовную ценность, тотчас отправлялся на дознание в кабинет управдома.
"Что сыскал, Афанасий?" – ехидно осведомлялся, бывало, старик Нимурмуров, поглаживая огромную пыльную бороду, похожую на детские штанишки. (Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.) Денно и ношно он смолил самокрутки на завалинке, которую собственноручно соорудил у родного подъезда. На вопрос Нимурмурова из окон, предвкушая развлечение, высовывалось не менее полудюжины жильцов. Афанасий останавливался, собирался с мыслями, долго кряхтел, затем предъявлял зрителям смятый лист из "Огонька" с репродукцией "Данаи". "Вот – женщина красивая, потерял кто-то". "Что ж ты Остапа Ибрагимовича тревожишь, неси сразу в Третьяковку", – предлагал бухгалтер Ситников. "Дак ведь вечер уже", – отвечал простодушный Афанасий. "Тогда предложите Вайнторгу", – советовала Протокотова.
Но тут старик Нимурмуров, не отрывая переливающегося взгляда от полнотелой Данаи изрекал что-то совершенно непотребное:
– Жила у нас в поселке одна красавица, полная такая. К ней ходил один горбун, совсем негодный для этого человек. Он семьсот рублей жалования получал. Пищу она всегда ела знаете какую? Швейцарский сыр, кильки. Ну, тут приехал один француз. На нем желтые сапоги, – Нимурмуров вытянул ногу и показал ребром ладони сапоги гораздо выше колена, – рубашка чесучовая. Горбун, конечно, все понял, приходит и спрашивает ее: "Пойдешь со мной?" Она говорит: "Не пойду". Тут он ее застрелил. Потом побежал на службу, сдал все дела и сам тоже застрелился. Стали ее вскрывать – одна сала!
После этого лица у жильцов перекашивались и окна с треском закрывались.
Служебное помещение Остапа находилось в полуподвале. Сначала он хотел превратить свой кабинет в оазис культуры. Но затем решил следовать неписанному стандарту: портрет за спиной, искусственная пальма справа, несгораемый шкаф слева, мягкое кресло для себя и жесткие неудобные стулья для посетителей. Табличку "Чувствуйте себя как дома" он заменил на "Не курить, не сорить", а от былой роскоши осталась только картинка с видом Рио-де-Жанейро.
Остальную часть полуподвала занимала красная комната, в которой к сегодняшнему дню было проведено свадеб – одна, поминки – одни, общих собраний жильцов – три, летучих собеседований – пятнадцать, лекций – одна, прочих видов групповых работ – восемьдесят четыре.
Лекция имела место вчера. Но вот уже 15 минут Бендер озабоченно чесал затылок и никак не мог занести в журнал культпросветработы ее тему. Сам он на лекции не был. До его кабинета из соседней красной комнаты лишь однажды донеслись слова лектора: "На сегодняшнее число мы имеем в Германии фашизм", и звонкий голос Сени: "Да это не мы имеем фашизм! Это они имеют фашизм! Мы имеем на сегодняшнее число советскую власть".
Лектор, Попугаев Никанор Павлович, был Остапу знаком и противен.
… Когда Бендер, ворвавшись в кабинет председателя жилтоварищества, товарища Годунова, принялся убеждать последнего в необходимости наложения давно назревших и перезревших резолюций, он вдруг услышал за спиной тусклый голос:
– Ваш папа случайно не был стекольщиком?
От неожиданности Остап уронил пресс-папье, которым поигрывал перед лицом председателя жилтоварищества, и медленно обернулся.
У стены сидел рыжеусый человек с оловянными глазами. На коленях у него стоял огромный рыжий портфель с оловянными застежками.
– Вот что, любезный, – Остап вразвалочку двинулся к рыжеусому, – если вы любите наблюдать интимные сцены, то так и скажите: вы, мол, мне мешаете, отодвиньтесь. Что же касается вашего вопроса, то отвечаю: мой папа не был стекольщиком. Он был прямым потомком трапезундских императоров по происхождению и контрабандистом по призванию. Когда я родился, он уже рубил камни на каторге в сирийской пустыне и я не привык, чтобы всякие…
– Не беда, – ошалевший от страха Попугаев выпалил давным-давно заученную на "не привык" реплику. – Потерпите сорок лет, а там привыкнете.
Остап потянулся за стулом.
Отдышавшийся наконец от пресс-папье председатель жилтоварищества бросился между ними.
– Познакомьтесь, Остап Ибрагимович. Это наш районный лектор, Попугаев Никанор Павлович. Он у нас первый весельчак, – нервно сказал председатель, – похлопывая Попугаева по плечу. – Зубастый. Так и режет.
– Ну уж и весельчак, – потупился Попугаев, – так. Середка на половинку.
– Хотите чаю, товарищи? – примиряюще предложил хозяин кабинета.
– Нет, спасибо, я уже отчаялся. Я вот лучше папироску возьму. Люблю, знаете ли, папиросы фабрики Чужаго… Хе-хе… – казалось, Попугаев мог говорить только затасканными остротами. Остапу захотелось вскрыть этого человека, как арбуз. Захотелось узнать, есть ли у него что-нибудь там, за рыжими усами и оловянными глазами.
– Ну, Никанор Павлович, выпейте все-таки чаю. Вы ведь любите вприкуску.
– Лишь бы не вприглядку, – вяло отозвался Попугаев.
– Ну так вали отсюда! – бросил Остап и потащил товарища Годунова к столу.
– Наше вам с кисточкой, – залепетал Попугаев, пятясь к выходу. – Бувайте здоровеньки, как говорят хохлы.
…Потуги Остапа прервал деликатный стук в дверь. На пороге появился Афанасий и у Остапа заныло там, где и положено заныть.
– Вот, кто-то обронил вчерась на лекции, – Афанасий осторожно положил на стол книгу. Это была "История российской дипломатии". Недавно, наткнувшись с Сеней на книжный развал, Остап видел точно такую же, но его внимание отвлек "Новейший справочник управдома". Когда он оглянулся, книги уже не было.
"Предусмотрительный жилец, – подумал Остап, увидев закладку, – полкниги одолел за лекцию. Ай уандер, кого же еще, кроме меня, может интересовать история российской дипломатии?"
Благодаря толстой картонной закладке книга открылась еще до того, как предчувствие успело оформиться в подозрение: "Вечером того же дня российский посол граф Средиземский потребовал безотлагательной встречи с посланником ее величества…" Фамилия "Средиземский" была едва заметно подчеркнута карандашом.