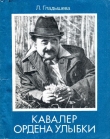Текст книги "Кавалер Ордена Золотого Руна"
Автор книги: Владислав Гурин
Соавторы: Альберт Акопян
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Остап еще находился на борту "Нормандии" и буксиры только втягивали пароход в нью-йоркскую гавань, как два предмета обратили на себя внимание. Один был маленький, зеленоватый – статуя Свободы. А другой – громадный и нахальный – рекламный щит, пропагандирующий "Чуингам Ригли" – жевательную резинку. С тех пор нарисованная на плакате плоская зеленая мордочка с громадным рупором следовала за компаньонами по всей Америке, убеждая, умоляя, уговаривая, требуя, чтобы они пожевали "Ригли" – ароматную, бесподобную, первокласную резинку.
Первую неделю Остап держался стойко. Он не пил "Кока-колу" из принципа. Он продержался до самого Спрингфилда. Но все-таки реклама взяла свое. На завтраке у мэра он отведал этого напитка. И почувствовал, что "Кока-кола" действительно освежает гортань, возбуждает нервы, целительна для пошатнувшегося здоровья, смягчает душевные муки и сделала его гениальным, как Лев Толстой.
Еще страшней, настойчивей и визгливей реклама сигарет. "Честерфилд", "Кэмел", "Лаки Страйк" и другие табачные изделия рекламируются с исступлением, какое можно было найти разве только в плясках дервишей на уже не существующем празднике "шахсей-вахсей", участники которого самозабвенно кололи себя кинжалами и обливались кровью во славу своего божества. Всю ночь пылают над Америкой огненные надписи, весь день режут глаза раскрашенные плакаты: "Лучшие в мире! Подсушенные сигареты! Они приносят удачу! Лучшие в солнечной системе!"
Собственно говоря, чем обширнее реклама, тем пустяковее предмет, для которого она предназначена. Однажды, проезжая через какой-то маленький городок, компаньоны увидели за проволочной решеткой белую гипсовую лошадь, которая стояла на зеленой травке, среди деревьев. Сперва Остап подумал, что это памятник неизвестной лошади, героически павшей в войне Севера с Югом за освобождение негров. Увы, нет! Эта лошадка с вдохновенными глазами молчаливо напоминала проезжающим о существовании непревзойденного виски "Белая лошадь", укрепляющего душу, освежающего мозг, питающего науками юношей и подающего отраду старцам. Более подробные сведения об этом, поистине волшебном, напитке потребитель мог найти в "Белой таверне", помещающейся здесь же, в садике. Здесь он мог узнать, что этим виски можно напиться допьяна в пять минут; что тому, кто его пьет, жена никогда не изменит, а дети его благополучно вырастут и даже найдут хороший "джаб" – "работу".
Машина тронулась и через полмили из-за поворота вылетел плакат с большим желтым верблюдом "Кэмелом". Некурящий Арчибальд облегченно вздохнул, морщины его разгладились.
В полной темноте, тихие и умиротворенные, компаньоны прибыли в очередной стандартный городок с Мейн-стритом, аптекой, газолиновой станцией и двумя отелями: "Мэйфлауэр" – подороже, и "Калифорния" – попроще.
Они остановились в туристском кэмпе, который, видимо, и был достопримечательностью сам по себе, потому что ничего другого, могущего привлечь туристов, не было в радиусе ста миль.
К удивлению Остапа, туристов в кэмпе оказалось довольно много, и вскоре он понял, почему.
После ужина постояльцам, собравшимся в небольшом зале кэмпа, сложенного из гигантских бревен, показали кинокартину. После картины был дан концерт.
На сцену вышел толстый мальчик с банджо. Он независимо уселся на эстраде и стал щипать струны своего инструмента, изо всей силы отбивая такт ногами в ковбойских сапожках. На публику он смотрел высокомерно, и сразу было видно, что людьми он считает только ковбоев, а всех остальных – просто трухой. За ним появился очень высокий, худой и носатый ковбой с гитарой. Он посмотрел на публику и сказал:
– Слушайте, тут мы должны были петь втроем, но остальные, как видно, не придут, так что я буду петь один… А то, может быть, не надо петь? Я-то, вообще говоря, петь не умею.
У него было красивое насмешливое лицо. В маленьких черных глазках так и было написано: "Ну, чего мы будем валять дурака? Пойдем, лучше выпьем где-нибудь. Это гораздо интереснее. Не хотите? Ну, тогда я все-таки буду петь. Вам же хуже будет".
Толстый мальчик по-прежнему гремел на банджо. Гитара звучала негромко, и ковбой пел, скорее выговаривал свои песенки, иногда переходя на тирольский фальцет. Песенки были простые и смешные. Вот что рассказывалось в одной из них:
"Когда я мальчиком купался в реке, у меня украли сложенную на берегу одежду. Идти голым домой было неудобно, и, дожидаясь темноты, я развлекался тем, что вырезал на стволе старой яблони свои инициалы. Прошло много лет с тех пор, я выбрал себе красивую девушку и женился на ней. Представьте себе, что случилось, когда мы в первый раз вошли в спальню. Моя красивая жена спокойно вынимает изо рта искусственные челюсти и кладет их в стакан с водой. Потом она снимает с себя парик и открывает свою лысую голову. Из лифа она вынимает громадные куски ваты. Моя красотка на глазах превращается в огородное пугало. Но это еще не все. Это чучело снимает с себя юбку и хладнокровно отвинчивает свою деревянную ногу. И на этой ноге я вижу внезапно свои инициалы. И, черт меня побери, если это не те самые инициалы, которые я вырезал когда-то на стволе старой яблони, когда в детстве у меня украли одежду".
Все хохотали. Это было очень старомодно, наивно и смешно. Ковбой по-прежнему сатирически улыбался. По-прежнему у него в глазах сверкало приглашение зайти куда-нибудь за угол, чтобы хлопнуть несколько больших стопок виски. Но насчет того, что петь он не умеет, ковбой соврал. Пел он хорошо и долго смешил всех.
После него вышел негр. Здесь не было конферансье и никто не объявлял имен артистов. Да они и не были артистами. Все выступавшие были служащие и давали концерт по совместительству.
Негр был отчаянно молодой и длинноногий. Ноги у него, казалось, начинались от подмышек. Он танцевал и выбивал чечетку с истинным удовольствием. Руки его как-то замечательно болтались вдоль тела. Он был в штанах с подтяжками и рабочей рубашке. Закончив танец, он весело взял метелку, стоявшую в углу, и ушел, скаля зубы.
Арчибальд хлопнул рюмку виски и, не попрощавшись, ушел спать. Бендер заказал себе бокал рейнского вина.
– Вы, я вижу, иностранец? – спросил бармен, протягивая заказ.
– Я же сказал всего два слова, – удивился Остап. – Что, такой сильный акцент?
– Нет, просто вы сегодня первый, кто заказал вино.
– ?
– Вы давно в Америке?
– Две недели.
– И вы до сих пор не обратили внимания, что американцы пьют мало вина и предпочитают виски? Понимаете, бутылка хорошего вина предусматривает хороший разговор. Люди сидят за столиком и разговаривают, и тут одно дополняет другое, – без хорошего разговора вино не доставляет удовольствия. А американцы не любят и не умеют разговаривать. Вы заметили? Они никогда не засиживаются за столом. Им не о чем говорить. Они танцуют или играют в бридж. И предпочитают виски. Выпил три стопки – и сразу опьянел. Так что и разговаривать незачем. Да, сэр, американцы не пьют вина.
Бармен помолчал, рассматривая командора.
– Вы – грек? – спросил он.
– Скорее, русский, – вопрос оказался непростым.
– Видел я, как пьют русские, – задумчиво протянул бармен. – Впрочем, это большое заблуждение, что русские – пьяницы. Русские, как раз-таки, в отличие от американцев, не пьют. Они общаются, они очищают души, они беседуют. Как это по-русски: "Po dusham", – произнес он старательно.
– Ты чертовски прав, приятель, – поддержал Остап. – Это то, чего мне очень не хватает.
– Скоро все разойдутся, – сказал бармен в заключение. – Посидим, – и еще раз повторил: "Po dusham".
Остап проснулся очень рано. Перевернулся на другой бок и попытался заснуть. Но что-то мешало. И он понял, что. Он не слышал мерного посапывания Арчибальда, к которому привык за все время путешествия. Остап сел. Арчибальда не было.
Он быстро оделся и вышел. Во дворе он увидел вчерашнего негра. Тот подметал аллею. И подметал он чуть ли не с таким же удовольствием, как танцевал вчера. И казалось даже, что он продолжает танцевать, а метла – только оформление танца. Негр раздвинул свои большие серые губы и пожелал Остапу доброго утра.
– Послушай, дружище, ты не видел моего друга? – спросил командор.
– Это такой высокий и суетливый? Я видел его на почте пять минут назад. Он куда-то звонил.
– В Нью-Йорк?! – воскликнул Остап.
– Мне показалось, что в Гренландию, – усмехнулся в ответ негр. – Он все время дрожал и заикался.
– Спасибо, – сказал Бендер и направился в бар.
Знакомого бармена за стойкой не было. Вместо него там крутился полный мальчик, который вчера играл на банджо.
Следом вошел Арчибальд. Он сел за стойку рядом.
– Виски, – сказал Остап.
– Виски, – сказал Арчибальд.
Выпили.
– Повторить, – снова сказал Остап.
– Повторить, – эхом отозвался Арчибальд.
– Третью, – сказал Бендер через несколько минут.
Арчибальд молчал.
– В чем дело? – обернулся к нему Остап.
– Нам надо ехать, – ответил Спивак, подбирая интонацию. – Предлагаю по Южной дороге, – он упорно смотрел перед собой. – Вдоль мексиканской границы. На плато Колорадо большие дорожные работы. Слишком много детуров, как это сказать, объездов… Кроме того, – голос Арчибальда звучал непринужденно и неубедительно, – я прочитал в газете, в Хуареце, это в Мексике, но у самой границы, будет замечательный бой быков, там…
– Ну, довольно, – перебил его Остап. – Поехали.
Глава 36.
Хич-хайкер Робертс
«Форд» ехал через громадные поля «джайэнт кэктус» – кактусов-гигантов. Кактусы живут, как жили когда-то индейские племена. Там, где живет одно племя, другому нет места.
Отростки кактусов похожи на руки.
Одни кактусы молятся, воздев руки к небу, другие обнимаются, третьи – нянчат детей. А некоторые просто стоят в горделивом спокойствии, свысока посматривая на проезжающих.
Мимо пролетел плакат: "Если вы не видели закат в Нью-Мексико, вы не видели Америки!"
– Закат, закат, – грустно подумал Остап. – И кактусы стоят, и жизнь, кажется, пропала.
Два ковбоя гнали стадо маленьких степных коровок, лохматых, как собаки. Громадные войлочные шляпы защищали ковбоев от резкого солнца пустыни. Большие шпоры красовались на их сапогах с фигурными дамскими каблучками. Ковбои гикали, на полном скаку поворачивая своих коней. Это казалось немножко более пышным и торжественным, чем нужно для скромного управления коровьим стадом. Но что поделаешь! Это Техас! Тексас, как говорят американцы. Уж тут знают, как пасти коров!
На дороге стоял человек с поднятым кверху большим пальцем руки. Хич-хайкер, тот, кто просится в попутчики. Арчибальд взял чуть влево, собираясь объехать "препятствие".
– Остановите, – резко сказал Остап.
Арчибальд неохотно повиновался.
Хич-хайкер сел в машину. Он был в овероле, из-под которого выбивались наружу расстегнутые воротнички двух рубашек. Поверх оверола на нем была еще светлая и чистая вельветовая куртка.
– Довольно теплый денек, – сказал Остап, обернувшись к попутчику и указывая глазами на его воротнички. – Не так ли?
– Да, но в вагоне было очень холодно, – ответил хич-хайкер.
– Можете подать в суд на компанию, – подал голос Арчибальд.
– Это был товарный вагон, – пояснил хич-хайкер.
Остап представился.
– Мы с компаньоном едем в Мексику, – сказал он безразлично. – Нас там поджидают…
В размеренном реве двигателя проскользнула истерическая нотка – дрогнула нога на педали.
– Быки и матадоры, – закончил командор. И тут же добавил: кажется, по-испански "матадор" означает – "убийца"?
Двигатель снова хрюкнул.
– Куда направляетесь? – просто спросил Остап.
Хич-хайкер тоже представился, положил свою черную шляпу на колени и охотно принялся рассказывать о себе.
"Хорошая черта американцев, – подумал Остап, – они общительны".
Его звали Робертс. Друг написал ему, что нашел для него работу по упаковке фруктов, на восемнадцать долларов в неделю. Надо проехать семьсот миль, денег на такую длинную дорогу у него, конечно, нет. Всю ночь он не спал: ехал в товарном вагоне, и было очень холодно. В вагоне было несколько бродяг. Робертсу было совестно ехать зайцем, и он на каждой станции выходил помогать кондукторам грузить багаж. Но бродяги спали, несмотря на холод, и никаких угрызений совести не испытывали.
Робертс ехал из Оклахомы. Там лежит в больнице его жена.
Он вытащил из кармана газетную вырезку, и показал фотографию молодой женщины, полулежащей в белой больничной кровати, и заголовок: "Она улыбается даже на ложе страданий".
– Я читал об этом в "Нью-Йорк таймс", – важно подтвердил Арчибальд.
Несколько часов подряд Робертс рассказывал историю своей жены.
Он говорил не торопясь, не волнуясь, не набиваясь на жалость или сочувствие. Его просят рассказать о себе – он рассказывает.
Он родом из Техаса. Работал на маленькой сельской консервной фабрике и сделался мастером. Женился на замечательной девушке. Это был очень счастливый брак. Молодые супруги все делали вместе – ходили в кино, к знакомым, даже танцевали только друг с другом. Она была учительница, очень хорошая, умная девушка. Детей она не хотела – боялась, что они отнимут у нее мужа. И дела у них шли отлично. За четыре года совместной жизни они скопили две тысячи долларов. У них было восемнадцать породистых коров и свой автомобиль. Все шло так хорошо, что лучшего они не желали. И вот в феврале произошло несчастье. Жена упала с лестницы и получила сложный перелом позвоночника. Начались операции, лечение, и за полтора года доктора забрали все – и наличные деньги, и деньги, вырученные от продажи всех восемнадцати коров и автомобиля. Не осталось ни цента. Первый госпиталь брал по двадцать пять долларов в неделю, оклахомский берет теперь по пятьдесят. Жене нужно сделать металлический корсет – это будет стоить еще сто двадцать долларов.
За один год он потерял все. Жена стала навсегда калекой, хозяйство и деньги расхватали медицинские работники. Сам он стоит у дороги и просится в чужую машину. Единственное, что у него еще осталось – это поднятый кверху большой палец правой руки.
На упаковке фруктов он будет получать восемнадцать долларов в неделю, а жить на шесть-семь. Остальные будет тратить на лечение жены. Бедняжка хочет все-таки работать. Она думает преподавать дома латинский язык. Но кто в Оклахоме захочет брать домашние уроки латинского языка? Это маловероятно.
Сумрачно улыбаясь, Робертс снова показал газетную вырезку. Под фотографией значилась оптимистическая подпись:
"Она знает, что парализована на всю жизнь, но с улыбкой смотрит в будущее. – Ведь со мной мой Робертс! – сказала бедная женщина в беседе с нашим сотрудником".
Робертс спрятал вырезку.
– Ничего не поделаешь, – сказал он очень спокойно. – Мне не повезло.
– Не повезло?! – взвился Арчибальд. – Вот такие, как вы, Робертс, никогда не пытаются найти корни постигшего вас несчастья. О да! Это не в характере американцев. Конечно, когда ваши дела идут хорошо, вы не скажете, что вас кто-то облагодетельствовал. Вы сами сделали себе деньги, своими руками. Вы не замечаете, что экономика страны на подъеме, что законы действуют, даже то, что на вас работает человек 10–15. И это прекрасно. Но вы не хотите ничего понять, даже когда с вами случается беда. Вы не станете никого винить, вы скажете: "Мне не повезло". Кстати, простите мою бестактность, но в том же номере газеты, где говорилось о вашей жене, буквально на следующей странице писали об одном парне, который сиганул с тридцатого этажа и оставил записку: "Мне не повезло"!!!
Робертс задумался.
– Знаете, неважно, бог создал человека или он произошел от дарвиновской обезьяны, – ответил он серьезно. – В любом случае первые люди были равны. У них не было ни начального капитала, ни родственничков в Вашингтоне. Если вам не нравится слово "везет" – подберите другое, я не шибко грамотный. Я знаю одно: мне не нравится сидеть в дерьме и, значит, я из него выберусь.
– Ты прав, парень, – поддержал Остап. – Тот, кому нравиться сидеть в дерьме, уж точно не выберется.
Арчибальд что-то пробурчал себе под нос.
На вид Робертсу было лет двадцать восемь. Спокойный молодой человек с мужественно красивым лицом и черными глазами. Нос с небольшой горбинкой придавал ему чуть-чуть индейский вид.
Когда их пути разошлись и Робертс вышел из машины, Остап решил нарушить обет молчания.
– Вы, Арчибальд, поспешили уехать из СССР, – мягко заметил он. – Там очень любят заботиться о других: о трудовом коллективе, о подрастающем поколении, о пролетариях всех стран. Там настолько стыдно заботиться о себе, что диву даешься, когда видишь опрятно одетого, улыбающегося гражданина. Видимо, некоторые отдельные, не изжитые еще элементы больше думают не об общественном строе и счастье человечества, а о себе и своей семье. Не кажется ли вам, что рядом с такими людьми чувствуешь себя спокойнее, комфортнее?
– Вы, ваше сиятельство, – ответил Ачибальд с нескрываемым презрением, – наиподлейший тип эгоиста: философствующий.
– Возможно, возможно, – Бендер нисколько не смутился. – Хотя я предпочел бы слово "эгоцентризм". Так или иначе, раз уж вы изволили разделить эгоистов на категории, то логично предположить, что и их противники – альтруисты тоже неоднородны. Некоторые из них, например, подбирают хич-хайкеров по зову души, другие – по приказу.
– Я не заметил. У меня было плохое настроение. Вы придираетесь к частностям. Таких как Робертс – миллионы, сотни миллионов. Решать проблемы каждого по отдельности, это, выражаясь в вашем стиле, – разгребать гору дерьма чайной ложечкой. Нужны кардинальные решения. Когда вы это поймете?!
– Ну да, взорвать, как вы выразились в моем стиле, гору дерьма, и все сразу окажутся в белых фраках.
– Не паясничайте!
– Видите ли, Арчибальд, давным-давно я выпросил у Людовика-Солнце его лозунг: "Государство – это я!" Можете наклеить мне ярлык анархиста или монархиста, но я действительно независимое государство со своей конституцией, территорией и валовым доходом.
– Территорией?! – деланно возмутился Спивак. – Это моя машина!
– Успокойтесь, – Остап даже не повернул головы. – Моя территория – это я сам… Континенты дрейфуют. Земля вертится вокруг Солнца. Светило носится вокруг центра Галактики. Галактика летит черт знает куда в глубины Вселенной. Почему же я – малюсенькое государство Остап Бендер – не могу переместиться на одну сотую световой секунды? – великий комбинатор победоносно взглянул на компаньона. Тот подавленно молчал.
Командор вздохнул.
– Не могу сказать, что быть государством очень приятно: ответственность большая. И если я когда-нибудь встречу государство побольше, с которым смогу договориться о честном распределении обязанностей, то я с удовольствием это сделаю. А пока… как говорил один знакомый лектор: "Что касается баранов, то таковые передвигаются стадами". Но я не хочу. Понимаете? Я – не хочу. Демонстрации, митинги, политпосиделки – это не для меня. Никогда, слышите, никогда Остап-Сулейман Бендер-бей не протягивал руки "за" и "против"! Все "за" и "против" я взвешиваю на одной чаше. Когда вы это поймете?!
Если я когда-либо возьму в руки оружие, то только в том случае, если лично я объявлю войну этому государству. Никто, слышите, никто не погонит меня в бой! Ни в последний, ни в решительный! Ни в обмотках по грязи, ни на вороном коне под знаменем: "Даешь Варшаву!" Не далее, как месяц назад я завоевал Варшаву. Во всяком случае, дети были без ума от моих фокусов с веревочкой. Красивые аллеи, чудесные кафе, прекрасные девушки. Хорош бы я был в компании барышни за уютным столиком и с винтовкой за спиной! А куда прикажете деть лошадь?!
– Привяжите на аллее, – огрызнулся Арчибальд.
– Ну да, чтобы охраняла тачанку с пулеметом и ароматизировала окрестности. И это вы называете меня эгоистом!
Навстречу "форду" несся гигантский плакат: "Белая Лошадь" – лучшее виски в мире!"
Пустыня кактусов сменилась песчаной пустыней, настоящей Сахарой, с полосатыми от теней или рябыми дюнами, но Сахарой американской: ее пересекала блестящая дорога с оазисами, где вместо верблюдов отдыхали автомобили, где не было пальм, а вместо источников текли бензиновые ручьи.
Глава 37.
Хуарец, округ Чи-Хуа-Хуа
Эль-Пасо, город на самом юге Техаса, воспринимается словно какой-то трюк. После неимоверной по величине пустыни, после бесконечных и безлюдных дорог, после молчания, нарушаемого только гулом мотора, вдруг – большой город, сразу сто тысяч человек, несколько сотен электрических вывесок, мужчины, одетые точь-в-точь как одеваются в Нью-Йорке или Чикаго, и девушки, раскрашенные так, словно рядом нет никакой пустыни, а весь материк заполнен кинематографами, маникюрными заведениями, закусочными и танцклассами.
Но ведь Остап только что проехал эту пустыню! Двигался по ней со скоростью шестидесяти миль в час, поддался ее очарованию и иногда бурчал себе под нос что-то вроде "пустыня внемлет богу". Но в Эль-Пасо о величии пустыни даже не думалось. Здесь занимались делами. Скрежетали автоматические кассы и счетные машины, мигали рекламные огни, и радио тяжело ворковало, как голубь, которому подпалили хвост.
Оставив машину на стоянке и подкрепившись в ресторане толстенькими кусочками мяса, называвшимися "беби-биф", компаньоны пошли пешком в Мексику. Она находилась тут же, в двухстах метрах, на окраине Эль-Пасо. Надо было только перейти мост через полузасохшую в это время года Рио-Гранде, а там была уже Мексика – город Хуарец.
Арчибальд вдруг вспомнил, что забыл удостоверение в машине и, сказав, что догонит Остапа на том берегу, пошел обратно к стоянке. "Подстраховывается, гнида. Собирается возвращаться один", – подумал Бендер.
Близость Мексики давала себя чувствовать удручающим эвакозапахом – не то карболки, не то формалина, – которым было все пропитано в небольшом помещении пограничников. Иммиграционный чиновник, перекладывая сигару из одного угла рта в другой, долго рассматривал паспорт Остапа. Все было продумано и просчитано, но идти в Мексику вдруг расхотелось. Подозрительность чиновника вселяла некоторую надежду.
Но тот неожиданно оказался доброжелателен. Так же неожиданно такой чиновник может оказаться придирчивым. У них никогда не разберешь! Профессия эта, как видно, всецело построена на эмоциях, настроениях и тому подобных неуловимых оттенках. На всякий случай Остап спросил, а не получится ли так, что по возвращении из Мексики в Соединенные Штаты ему скажут, что правительство Соединенных Штатов Америки считает долг гостеприимства выполненным и больше не настаивает на том, чтобы он был его гостем. В ответ чиновник разразился громкой речью, из которой явствовало, что русский джентльмен из Парижа может совершенно безбоязненно идти в Мексику. Виза сохранит свою силу. Русскому джентльмену совершенно не надо об этом беспокоиться. После этого он вышел вместе с Остапом на мост и сказал человеку, сидевшему в контрольной будке:
– Это русский джентльмен из Парижа. Он идет в Мексику. Пропустите его.
Все же Остап спросил, будет ли его покровитель здесь, когда он будет возвращаться в Соединенные Штаты.
– Да, да, – ответил чиновник, – я буду здесь весь день. Пусть русский джентльмен ни о чем не тревожится. Я буду здесь и впущу его назад в Соединенные Штаты.
Идти в Мексику по-прежнему не хотелось. Командор собирался уже спросить, сможет ли он вернуться в том случае, если к вечеру между Североамериканскими Соединенными Штатами и Мексикой разразится война, когда взгляд его упал на газету, лежавшую на столике в будке таможенника: "128 граждан Окла-сити записались на латинские курсы миссис Робертс", "Денег хватит на операцию в клинике Йохансона", "Америка не любит давать милостыню, она дает шанс".
В голову сразу пришли понятные и приятные мысли. "Дурак ты, Арчибальд", – громко сказал Остап и пошел по мосту.
На мексиканской стороне моста тоже находился пограничный пункт, но там никого ни о чем не спрашивали. Возле будки стоял, правда, шафраннолицый мужчина, одетый в ослепительный мундир цвета темного хаки, с золотыми кантиками. Но на лице у мексиканского пограничника было начертано полнейшее презрение к возложенным на него обязанностям. На лице у него было начертано следующее: "Да, горькая судьбина вынудила меня носить этот красивый мундир, но я не стану пачкать свои изящные руки, контролируя какие-то грязные бумажки. Нет, этого вы не дождетесь от благородного Хуана-Фердинанда-Христофора Колбахоса!"
Едва пройдя мимо благородного идальго, Остап заметил, что за ним увязался невеселый молодой человек с бачками на худом лице, в зеленых брюках и малиновой рубашке. Сначала Остапа удивил этот яркий наряд, но вскоре он понял, что традиционный серый шпик был бы очень заметен в колоритной толпе.
Привыкнув за долгое время к запаху бензина, господствующему в Соединенных Штатах, командор был смущен хуарецовскими запахами. Здесь пахло жареной едой, пригоревшим маслом, чесноком, красным перцем, пахло сильно и тяжело. Его нагнал Спивак и молча зашагал рядом.
Множество людей наполняло улицу. Медленно двигались праздные, неторопливые прохожие. Проходили молодые люди с гитарами. Сверкали оранжевые ботинки и разноцветные шляпы. Калеки громко вымаливали милостыню. Прелестные черноглазые и сопливые дети гонялись за иностранцами, выпрашивая монетку. Сотни крошечных мальчиков бегали со щетками и ящичками для чистки ботинок. Это уж, как видно, правило, что чем беднее южный город, тем большее значение придается там зеркально-чистым ботинкам. Прошел отряд солдат, мордатых, начищенных, скрипящих боевыми ремнями, отряд возмутительно благополучных вояк.
Бой быков был назначен на три часа, но начался с опозданием на сорок минут. За это время компаньоны успели многократно осмотреть и арену, и публику, собравшуюся в небольшом числе. Среди зрителей было несколько американцев, судя по оглушительным "шурли", которые время от времени слышались совсем рядом.
Арена была окружена амфитеатром без крыши, очень красивым и грубо построеным. Здание было по характеру народным, простым, совершенно лишенным украшений. Зрителям, которые боялись простудиться на цементных сидениях, давали напрокат плоские соломенные подушечки в полосатых наперниках. Большой оркестр из мальчиков, наряженных в темные пиджаки, зеленые галстуки, фуражки с большими козырьками и серые панталоны с белыми лампасами, громко и фальшиво трубил испанизированные марши. Круглая арена была засыпана чистым песочком.
Наконец за деревянными воротами началось движение, и показались люди, человек восемь-десять. Впереди шли две девушки в костюмах тореадоров. Сегодня был особенный бой. Из четырех быков, значившихся в программе, двух должны были убить сестры-гастролерши из Мексико-сити – Мария, по прозвищу "La Cordobestita", и Мерседес, по прозвищу "La Citanita". Оркестр гремел во всю мочь. За девушками шли мужчины в потертых, шитых золотом костюмах. У них был деловой вид, и на приветствия публики они отвечали легкими поклонами. Девушки-матадоры были взволнованы и низко кланялись. Шествие заключала пара лошадей в упряжке. Лошади были предназначены для того, чтобы увозить убитых быков.
По рядам ходили продавцы, разнося в ведрах бутылки с фруктовой водой и крошечные флакончики виски.
Маленький худощавый бык выбежал на арену. Игра началась.
Первого быка убивали долго и плохо.
Зрелище стало мучительным с самого начала, потому что сразу же обнаружилось желание быка уйти с арены. Он явно понимал, что здесь ему приготовили какую-то пакость. Он не хотел сражаться, он хотел в хлев, на пастбище, хотел щипать жесткую мексиканскую травку, а не кидаться на людей.
Напрасно его раздражали, втыкая в шею крючья с цветными лентами. Надо было долго мучить быка, чтобы вызвать в нем злость. Но даже когда он пришел в ярость – и тогда он немедленно успокаивался, как только его оставляли в покое.
Во всем этом зрелище самым тяжелым было то, что бык не желал умирать и боялся своих противников. Все-таки его разгневали, и он напал на девушку-тореадора. Она не успевала увертываться, и бык несколько раз толкнул ее своим сильным боком. Девушка делала гримасы от боли, но продолжала размахивать красным плащом перед глазами быка. Он толкнул ее рогами, повалил на песок и прошел над ней. Внимание быка отвлекли опытные спокойные мужчины. Тем временем девушка встала и, потирая ушибленные места, направилась к загородке, где находился хранитель шпаг. Она тяжело дышала. Ее бархатный тореадорский жилетик лопнул по шву. На скуле была царапина. Она приняла из рук хранителя шпагу, немножко отошла от барьера и, обратившись лицом к балкону, где сидело городское начальство, сняла шапочку. С балкона махнули платком, и девушка, по-детски глубоко вздохнув, пошла к быку.
Наступил решительный момент. "La Citanita" нацелилась и воткнула шпагу в шею быка, сейчас же за рогами. Шпага, ловко нацеленная и вошедшая на достаточную глубину, убивает быка. Говорят, это эффектно. Один удар – и бык падает к ногам победителя. Но девушка не могла убить быка. Она колола слабо и неумело. Бык убежал, унося на шее качающуюся шпагу. Девушке пришлось пережить несколько унизительных мгновений, когда бандерильеры гонялись за быком, чтобы извлечь из него шпагу. Так повторилось несколько раз. Бык устал, девушка тоже. Розовая пена появилась на морде быка. Он медленно бродил по арене. Несколько раз он подходил к запертым воротам. Остап услышал вдруг мирное деревенское мычание, далекое и чуждое тому, что делалось на арене. Откуда здесь могла взяться корова? Ах, да, бык! Он сделал несколько заплетающихся шагов и стал опускаться на колени. Тогда на арене появился здоровенный человек и зарезал быка маленьким кинжалом.
Девушка заплакала от досады, стыда и боли. Публика была недовольна. Только потом, когда вторая сестра, "La Cordobestita", убивала следующего быка, первой дали возможность реабилитироваться, и она довольно ловко несколько раз пропустила быка мимо себя на сантиметр от бедра, обманув его красным плащом. Раздались аплодисменты, девушка снова расцвела и отвесила публике несколько балетных поклонов.
Худющий мексиканец деловито вытирал тряпкой окровавленную шпагу, которая вернулась к нему. Лошади уволокли мертвое животное, и на арену выпустили третьего быка, такого же небольшого и черного, как и первый. И этот бык знал, что с ним хотят сотворить что-то недоброе. Его тоже было жалко. "La Cordobestita" резала его тоже мучительно долго и неловко, и в конце концов его тоже добили кинжалом. Ужасен момент перехода от жизни к смерти. Внезапно бык падает, что-то внутри его грубого тела произошло, пришел ему конец, но еще несколько мгновений его полуослепшие глаза внимательно и строго смотрели на все это крупное рогатое человечество.