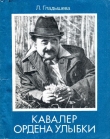Текст книги "Кавалер Ордена Золотого Руна"
Автор книги: Владислав Гурин
Соавторы: Альберт Акопян
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
– Знаешь что, – сказала она мне на улице, – ты меня любишь, и я тебя люблю. Ты не ханжа, и я не ханжа. Будем жить так.
Действительно, если вдуматься, то с милым рай и в шалаше.
Стали жить "так".
Но с милым рай в шалаше возможен только в том случае, если милая в шалаше прописана и занесена шалашеуправлением в шалашную книгу. В противном случае возможны довольно мрачные варианты.
Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она могла получить только как моя жена. Моей женой она не была. Но загс мог признать ее женой только по предъявлении московского паспорта. А московский паспорт ей не давали потому, что мы не были зарегистрированы в загсе. А жить в Москве без прописки нельзя. А…
Таким образом, рай в шалаше на другой же день превратился в ад. Люся плакала и при каждом стуке в дверь вздрагивала – вдруг появятся косматые дворники и попросят вон из шалаша. "Лучший друг" Отто Юльевича Шмидта представлял собой жалкое зрелище. Я был небрит. Глаза светились, как у собаки. Где ты, теплая черноморская ночь, громадная луна и первое счастье?!
Наконец я схватил Люсю за руку и привел в милицию.
– Вот, – сказал я, показывая пальцем на жену.
– Что вот? – спросил делопроизводитель, поправляя на голове войлочную каску.
– Любимое существо.
– Ну и что же?
– Я обожаю это существо и прошу его прописать на моей площади.
Произошла тяжелая сцена. Она ничего не добавила к тому, что уже было известно.
– Какие же еще доказательства вам нужны? – надрывался я. – Ну, я очень ее люблю. Честное слово, не могу без нее жить. И могу ее поцеловать, если хотите.
Не отводя льстивых взоров от делопроизводителя, мы поцеловались дрожащими губами. В милиции стало тихо. Делопроизводитель застенчиво отвернулся и сказал:
– А может, у вас фиктивный брак? Просто гражданка хочет устроиться в Москве.
– А может быть, не фиктивный? – уже застонал я. – Об этом вы подумали? Вот вы за разбитое стекло берете штраф, а мне кого штрафовать за разбитую жизнь?
В общем, я взял высокую ноту и держал ее до тех пор, пока не выяснилось, что счастье еще возможно, что есть выход. Достаточно поехать к месту жительства любимой, снова в Ялту, всего только за тысячу пятьсот километров, и все образуется. С московским паспортом загс зарегистрирует мои порывы, и преступная любовь приобретет наконец узаконенные очертания.
Я прибежал в трест, чтобы выпросить дополнительный отпуск для устройства семейных дел. Все от меня шарахались, а когда я оказался около стенгазеты, вдруг замерли. В заметке говорилось, что Арсений Изаурик продолжает свою антиобщественную деятельность, в трудный для страны момент разъезжая по курортам и устроив в служебной комнате притон, по причине чего комната, занимаемая им, должна быть очищена в течение 24 часов. А сам гражданин Изаурик подлежит увольнению. Из отпущенного до прихода милиции срока у меня оставалось часа четыре, я бросился домой, отвез Люсю на вокзал, что-то наобещал и отправил ее, горемычную, в Ялту.
Сеня глубоко вздохнул и продолжил:
– Насколько я знаю, она уже вышла замуж и вполне счастлива.
Я устроился на железную дорогу обходчиком. Жил в будке. Жил неплохо.
А в начале прошлого года в том же юмористическом журнале появилась фотография наркома просвещения. Он читал журнал и заразительно хохотал. Ниже приводились его слова: "Побольше бы таких рассказов, как "Синий дьявол". Поддерживать надо молодых авторов". Журнал поступил в киоски в 7 утра, а уже в десять часов в моей будке появился директор треста цветных металлов тов. Аблакуев и доложил, что состоялись экстренные заседания правления треста, парткома, месткома, комсомольской организации и совета бывших политкаторжан, на которых принято постановление: немедленно восстановить меня на работе с повышением, выдать путевку в ялтинский дом отдыха, устроить торжественный бал-заседание по поводу годовщины моей безупречной деятельности, уволить редактора стенгазеты, опорочившего честного человека. На возвращение комнаты директор просил двадцать четыре часа в связи с необходимостью выселения многодетного шофера. Я от всего отказался и добавил, что посоветуюсь с читателями журнала о том, за чей счет я должен получить квартиру. Директор сразу же дополнил протоколы еще одним пунктом: о выделении тов. Изаурику квартиры в кооперативе "Жилец и бетон" за счет треста цветных металлов. На том и сошлись. В редакцию я не пошел. А работа обходчика мне понравилась. Маневровые паровозы свистят, стрелки гремят… Тихо, спокойно. И деревце под окном будки… А истерики и подмасленное пальтецо – это так, камуфляж для жилкооператива. Потому что имел неосторожность раньше времени подписать бумажку, что не имею к тресту претензий.
Сеня умолк.
– Ну что ж, действительно веселая история, – подытожил Бендер и крепко сжал Сенино плечо. – А теперь пора спать. Завтра трудный день: принимаем жильцов. Долгонько я их ждал, – промурлыкал он, засыпая.
Глава 8.
Разбитая скрижаль
Новый кооперативный дом был чист и свеж, как невеста. Сверкали стекла. Одуряюще пахли краской перила. Партия полотеров оставляла за собой длинные охряные следы сияющей мастики. Монтеры вправляли последние лампочки в патроны. А с дверей и плинтусов не успели еще сойти известковые брызги.
Первыми вселились Протокотовы.
Протокотову удалось вырвать прелестную трехкомнатную квартирку, окнами на юг, с газовой плитой, ванной и комфортабельной уборной.
Когда Протокотов втискивал в дверь первый стол, душа его наполнилась чувством гордости и умиления.
– Наконец-то, – сказал он жене, – наконец-то мы заживем, как люди. В совершенно отдельной квартире! Одни, совсем одни!
В глазах жены стояли слезы.
– Здесь будет спальня, – заметил Протокотов. – Комната, правда, не особенно большая, но зато очень хорошенькая и теплая. А вот это столовая и мой кабинет. Здесь мы сможем принимать гостей. Правда, милая?
Жена тихо плакала.
– А вот здесь, – сказал Протокотов с благородной дрожью в голосе, – в этой малюсенькой комнате мы поместим нашего дядю Силантия.
– Бедный дядя, – вздохнула жена, – наконец-то и он сможет зажить, как человек.
Дядя Силантий Арнольдыч жил в огромной и пыльной, как канцелярия воинского начальника, квартире на Плющихе, совместно с тридцатью пятью другими жильцами. Занимал дядя бывшую ванную – крохотную, совершенно темную комнату без окон.
В течение целого дня Силантий Арнольдыч таскал в квартиру племянницы вещи. Таскал сам, надрываясь под тяжестью облезших этажерок и винтовых табуретов красного дерева.
– Зачем это, дядя? – поморщился Протокотов, столкнувшись с пыхтящим дядей в дверях. – Почему вы мне не сказали про этот комод? Я бы нанял носильщика, и дело с концом.
– Что ты! Что ты! – зашептал дядя, прикрывая хилым старческим телом допотопный комодик. – Какие теперь носильщики!
Испуганно оглядываясь, дядя Силантий впихнул комодик в свою новую комнату и заперся на ключ.
– Странный какой-то дядя Силантий, – сказал Протокотов жене, ложась спать. – Впрочем, обживется, привыкнет.
Но Силантий Арнольдыч не привык.
Утром Протокотов увидел в чистенькой уютной уборной большое, написанное крупным ровным почерком объявление. Начиналось оно следующими словами: ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ НЕ ОДНИ! ЛЮДИ ЖДУТ!
Дальше предлагалось не засорять унитаз бумагой и не бросать на пол окурков. Всего было пунктов восемь. Объявление кончалось угрозой, что если "граждане жильцы" не будут исполнять правил, уборную придется закрыть.
Протокотов улыбнулся и сорвал объявление.
В полдень в уборной появилось новое объявление, написанное тем же почерком. Первые слова были такие: ПРОШУ В ОБЩЕСТВЕННОЙ УБОРНОЙ НЕ ХУЛИГАНИТЬ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ НЕ ОДИН!
Протокотов подумал, вытащил автоматическую ручку и написал в конце большими буквами слово "дурак".
В ответ появилось: "От дурака слышу!"
Переписка продолжалась целый день.
Победил дядя, повесив на стену очень длинную, талантливо составленную инструкцию.
Дядя Силантий работал не покладая рук.
На следующий день Протокотов обнаружил в дивной эмалированной ванне старый матрац, примус и пыльную клетку из-под попугая.
А на входных дверях появилась бумажка:
ЗВОНИТЬ:
М.И. Протокотову – 8 р.
С.А. Ушишкину – 14 р.
Рядом с бумажкой Силантий Арнольдыч пробил глазок, а с внутренней стороны приладил чугунный засов, толстую ржавую цепочку и длинную железную штангу.
Внизу, у дворницкой, Силантий вывесил воззвание, начинавшееся словами: "Граждане держатели кошек!"
Дядя требовал от граждан держателей, чтобы они надели на кошек намордники, обещая пожаловаться на ослушников управдому.
Коридорчик протокотовской квартиры покрылся аккуратно приклеенными гуммиарабиком четвертушками бумаги.
"Не топайте ногами, – требовал дядя, – вы не один". "В общественной кухне петь воспрещается". "Громкий разговор приравнивается к пению". "Не бросайте окурков, бумажек и мусору. За вами нет уборщиц".
– Это ужасно! – сказал Протокотов жене. – Все стены изгадил клеем твой дядя.
– Раньше ты его называл "наш дядя", – обиделась жена.
– Неважно, дорогая. Главное, что теперь придется красить всю квартиру.
После этого началось то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшой, выражаясь официально, текущий ремонт.
Опустим описание того, как после хорошо организованной слежки Протокотову удалось встретить мрачную фигуру с кистью и ведром и при помощи посулов и грубоватой лести затащить ее к себе.
Фигура неторопливо и значительно оглядела объект работы и после долгого кряхтения заявила:
– Что ж, купоросить надо. Без купоросу никак нельзя. Купорос, он действие оказывает. Кругом себя оправдывает. Тут, значит, если не прокупоросишь, колеру правильного не будет. А можно и не купоросить.
– Так как же все-таки лучше? – подобострастно спросил наниматель. – С купоросом или без купороса?
– Ваше дело, хозяйское. Одни любят с купоросом, другие без купороса.
– Тогда на всякий случай прокупоросьте. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет, знаете, такой веселый, канареечный, солнечный. Может, и на дядю действие окажет, – сказал Протокотов, незаметно переходя на жаргон маляра.
– Кроном, значит? – степенно отозвался маляр. – Это можно. Возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так возьмем и как есть покрасим. Кроном. Отделаем уж как полагается, хозяин.
Другую комнату договорились выкрасить в светло-зеленый цвет. При этом маляр произнес непонятную речь о каком-то стронции, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает.
Переговоры длились два часа. Бесконечно повторялось одно и то же. Маляр, задрав голову, подолгу смотрел на потолок, будто ждал, что оттуда пойдет дождь, цокал языком и сокрушенно взмахивал руками.
– Ну, кажется, все, – нервно сказал Протокотов. – Во сколько же это обойдется?
И тут начался Художественный театр. Маляр закатил получасовую качаловскую паузу. У хозяина начало щемить сердце.
– Вот карточки отменили, – сказал наконец маляр.
– И очень хорошо, – оживился хозяин. – Какая же будет цена?
– Что ж, сделаем как следует. Значит, с твоим купоросом?
– Как с моим купоросом? Где же я вам возьму купорос?
– Этого мы, маляры, не знаем.
И все началось сначала. Маляр опять бродил из комнаты в комнату, вздыхал, мекал, хмыкал, чесался. В конце концов выяснилось, что он все может достать – и проклятый купорос, и крон, и белила, и даже загадочный стронций.
Но вот он назвал цену. Триста рублей. Цена ни с чем не сообразная, неестественная, глупая, обидная. Начался длительный, базарный азиатский торг. Попутно выяснилось, что маляр может работать только по вечерам.
Хозяин согласился на все. По вечерам так по вечерам, двести пятьдесят так двести пятьдесят. Только бы поскорее. Надоели эти грязные, заляпанные стены, вся эта чертовщина. Ночью Протокотовы работали: стаскивали в одно место мебель, снимали со стен картинки, пейзажи и натюрморты, связывали вещи в узлы. Завтра должен был явиться маляр ровно в шесть часов вечера.
Но его не было ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Он не пришел. В эту ночь Протокотовы спали на узлах.
Зато на другой день маляр появился вовремя и привел с собой еще трех мастеров – двух стариков и мальчика. Мальчик, как и остальные, был в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке ("спинжаке"). Он тоже хмыкал, мекал и неясно выражался насчет благотворного действия купороса.
Весь этот трудовой коллектив снял пиджаки и расселся на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты. Мастера пили чай и поглядывали на потолок. Потом потихоньку и стройно запели:
Эх, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!
Степная удаль и тоска слышались в этой старинной разбойничьей песне. И сразу начало казаться, что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, XVIII век, а может быть, даже XVI.
Напившись чаю и напевшись вдосталь, мастера надели пиджаки, снова их сняли и снова надели. После этого они взяли у Протокотова двадцать пять рублей на приобретение крона и ушли. А мальчик остался купоросить. При этом он сразу же разбил стекло книжного шкафа и прожег каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе.
– Ты что, с ума сошел? – закричал Протокотов.
– Купорос, он колеру не любит, – пробормотало ужасное дитя. – Он свое действие оказывает, осадку дает.
– Это бред! – сказал хозяин.
И он был прав, начался бред.
В разрушенную квартиру маляры больше не вернулись. Очевидно, они удовлетворились полученным задатком.
Три дня несчастная семья на что-то надеялась. Потом знакомые порекомендовали некоего Вавилыча, кристального старика.
Кристальный старик пришел, с хватающей за душу медлительностью осмотрел комнаты и взялся сделать работу со своей олифой и кроном – все за двенадцать рублей. Тут же выяснилось, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом вывели.
Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но сделать этого было нельзя. И стены, и потолок были вымазаны какой-то дрянью.
Привели еще одного мастера. Он тоже детально договорился обо всем, вошел во все мелочи, но в конце разговора присовокупил, что начать сможет только через месяц, так как уезжает в деревню на тещины именины.
И зачем он, собственно, приходил и потерял целый вечер на разговоры и чесание подмышек – непонятно. На кухне рыдала хозяйка.
– Неправильно сделали, – сказали бессердечные знакомые. – Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы.
– Если бы я знал! – вопил страдалец Протокотов. – Ах, если бы я знал! Уж я бы их…
Его утешали. Ему рассказывали интересные истории о печниках, о плотниках, о водопроводчиках, о перевозчиках мебели, о всей этой касте полукустарей, полуразбойников с топорами, клещами и малярной кистью, сохранившихся со времен боярской Руси.
Характерно, что на протяжении всей этой эпопеи Силантий Арнольдыч в переговорах с дьяволами и бесами ремонта не участвовал по принципиальным соображениям.
Совместными усилиями друзей и знакомых квартиру привели в подобающий вид. А через неделю, в субботу, супруги Протокотовы были приглашены на дачу и вернулись только в понедельник.
В кухне было пусто, зато посредине любимой комнаты Протокотовых (столовой-кабинета-гостинной) стояла газовая плита. К ней была прилажена глупая коленчатая труба, которая тянулась через всю комнату и выходила в окно.
За два дня Силантий Арнольдыч умудрился переделать гордость Протокотовых – газовую плиту – в буржуйку.
Привести буржуйку в прежнее состояние оказалось делом нелегким. Приезжали с газового завода, грозили выключить газ и взяли за переделку восемьдесят рублей.
Протокотов ворвался в комнату дяди Силантия и долго топал ногами. Старик испуганно мигал серенькими ресницами.
– Поймите же, – сказал Протокотов, смягчившись, – что объявления ваши не нужны. Мы в квартире одни, понимаете, одни! Ничего не нужно переделывать, дядя. Все благополучно. Поняли?
Старик почти не показывался из своей комнаты. Выходил он только тогда, когда Протокотовых не было дома, блуждал по квартире, пробовал дверные запоры и тайком привешивал новые объявления.
Еще через несколько дней, возвратившись ночью из театра и оставив дома ключ (свой Силантий Арнольдыч давно потерял), супруги долго и безрезультатно звонили. Потом Протокотов догадался позвонить четырнадцать раз.
За дверью зашуршали валенками.
– Кто там? – встревоженно спросил Силантий.
– Это я. Откройте, дядя!
– Кто таков? – закричал Силантий нечеловеческим голосом.
– Да мы же, дядя, Варя и Михаил.
– Без управдома не пущу! После одиннадцати вход воспрещен! – пискнул дядя.
– Пустите, ч-черт!..
Дверь не открывалась.
Протокотов попытался высадить дверь плечом. Дверь, укрепленная засовом и штангой трещала, но не сдавалась.
Протокотов стал колотить в дверь руками и ногами.
– Караул! – запел Силантий Арнольдыч.
Собрались жильцы. Пришлось сходить за управдомом.
Бендер просунул под дверь управдомское удостоверение, и только после этого Силантий Арнольдыч отодвинул засов, две щеколды, снял штангу и цепочку. Однако ключа спросонья он никак не мог найти. Бендеру пришлось прибегнуть к "спецэффектам".
– Замки, – говорил он, возясь с дверью, – открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером "рондо", обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иглой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба… Если дверь просто толкнуть, то она, как правило, тоже открывается. Готово!
– Ого! – воскликнул Остап, войдя в квартиру. – Какие образцы пещерной каллиграфии! Настоящий поздний примитивизм! А вот здесь, Силантий Арнольдыч, я поставил бы скульптуру "Бронепоезд" в стиле ранних кубистов. Можно декорировать зеленью.
– Остап Ибрагимович, нам бы дубликат ключа! – взмолился Протокотов, отдиравший чугунный засов.
– Да-да. Конечно… Ай-яй-яй! – звучал с кухни голос управдома. – Недочет, Силантий Арнольдыч, недочет! Где же инструкции: "Мыть в раковине ноги запрещено" и "Сморкаться воспрещается"? С вашим бы талантом, любезный, парадные лестницы оформлять: "Первая ступенька", "Вторая ступенька", "Третья ступенька"… Всего 58 табличек.
Силантий Арнольдыч бегал по квартире в поисках карандашей и возбужденно покрякивал.
– Ну разве это туалет?! – звенел голос Бендера, усиленный эхом унитаза. – Где угрозы по адресу нерадивых жильцов, забывающих о назревшей в эпоху культурной революции необходимости смывать за собой воду?! Где указания о наиудобнейших размерах бумаги, при соблюдении коих уборная будет работать бесперебойно к благу всех жильцов?!
– Между прочим, – сказал Остап, возвращаясь в столовую-кабинет-гостиную, – был у меня знакомый старичок. Тоже сумасшедший. У него первенец родился без головного мозга. Так вот, врачи запретили ему иметь детей и у него это желание стало манией. За три часа до смерти он умудрился родить второго сына, а за час до смерти – еще троих. Кстати, – Остап обернулся к Протокотову, – старичка звали Средиземский Аполлинарий Спиридонович. Не слыхали о таком?
– Не-ет… – покачал головой Протокотов. Он наконец разделался с засовом. – Как же насчет дубликата, Остап Ибрагимович?
– Сделаем, – ободряюще сказал Бендер. – Причем бесплатно. Как жертве стихийного бедствия со взломом.
Однако дубликат Протокотовым не понадобился.
Целый день Силантий Арнольдыч таскал вещи обратно на Плющиху. Таскал сам, надрываясь под тяжестью этажерок и винтовых табуретов.
Останавливаясь на лестнице отдохнуть, он снимал старомодное золотое пенсне и испуганно мигал серенькими ресницами.
Глава 9.
Московские ассамблеи
Мадам Молокович проснулась поздно, в первом часу. Муж давно уже был на службе. В комнате было отвратительно. На столе громоздилась оставшаяся после ужина грязная посуда (мадам Молокович поленилась ее вымыть и оставила до утра, когда придет домработница). На стульях валялись юбка, чулки и бюстгальтер. На диване лежал корсет, похожий на летательную машину Леонардо да Винчи. Угол одеяла съехал с постели на пол. В раскрытой дверце зеркального шкафа отражалось опухшее после сна лицо и гривка неестественно желтых стриженных волос. На затылке просвечивались корни волос природного цвета – черные.
– Ню-ура! – крикнула мадам Молокович. – Ню-ур!
– Иду-у!
И в комнате появилась домработница Нюра. На лице ее было выражение напряженного страха и преданности.
– Подымите сторы, – сказала мадам Молокович. – Да подождите, не топайте ногами, как лошадь. Сначала уберите посуду. Да не гремите вы подносом… Гос-поди, несчастье мое… Подождите, говорят вам! Поставьте посуду на место.
Нюра повиновалась.
– На рынке были?
– Были, – покорно ответила Нюра.
– Принесите сдачу. Да погодите, господи, горе мое, куда вы уходите?.. Сначала посчитаем. Сколько я вам вчера дала? Пять рублей?
– Пять.
– Что же вы купили?
Нюра привычно загнула шершавый, как наждачная бумага, указательный палец. Началось самое мучительное– утренние расчеты.
– Да погодите вы, господи, не болбочите, как индюшка, ничего понять нельзя. Так, значит, мясо один рубль шестьдесят копеек, да двенадцать копеек лук – один рубль восемьдесят две копейки, да один рубль девяносто копеек масло – будет два рубля девяносто копеек. Что вы еще брали? Телятину? Телятина – девяносто? Значит, два девяносто да девяносто будет три рубля девяносто копеек. Да тридцать восемь копеек подсолнечное… Сколько же это будет? Три рубля девяносто копеек и тридцать восемь копеек – четыре рубля тридцать восемь копеек. Все?
– Все, – сказала Нюра и вздохнула. – Больше ничего не брали.
– Значит, – высчитывала мадам Молокович, хмуря жирный лобик, – я вам дала пять рублей, а вы истратили четыре рубля тридцать восемь копеек. Значит, сдачи – пятьдесят восемь копеек. Давайте деньги и принесите мой ридикюль. Он там, под кофточкой… Что же вы стоите, как лошадь? Вам говорят!
Но Нюра не двигалась с места. Она ошеломленно смотрела на стенку, оклеенную прекрасными розовыми обоями со следами раздавленных клопов.
– У меня гривенник сдачи, – произнесла она, с трудом шевеля губами.
– Гос-поди! – воскликнула мадам Молокович. – У нее гривенник сдачи! Откуда же гривенник, когда должно быть пятьдесят восемь. Вы что покупали?
Счеты возобновились.
– Телятина – девяносто, – считала Молокович, – да мясо рубль шестьдесят, итого – два девяносто. Да рубль девяносто масло. Будет четыре девяносто. Да тридцать восемь копеек подсолнечное – пять тридцать восемь. Да двенадцать копеек лук – пять сорок восемь… Погодите! Сколько я вам давала? Пять? А вы истратили пять сорок восемь… Как же вы могли истратить пять сорок восемь, если я вам дала пять? Ну ладно, потом сосчитаемся. Горе мое!.. Заберите грязную посуду и давайте чай!
И мадам Молокович вытащила из-под одеяла пухлые волосатые ноги.
Трудно приходится интеллигентной женщине в наше суровое время.
Мадам Молокович часто жалуется на жизнь. Она – женщина интеллигентная. Она – тонкий, нежный организм, который не выносит нынешних треволнений и после того, как ей приходится защищать свои права (а случается это довольно часто), она неделями чувствует себя совершенно разбитой. Муж очень любит свою Анжелику. Однако ей он надоел. Она охотно ушла бы от него. Но к кому? Ведь настоящих людей нету.
Мадам Молокович томно потянулась и выглянула в окно. Во дворе, скрестив на груди руки, стоял управдом. Дворник Афанасий что-то горячо ему доказывал. "Господи! – вскрикнула Анжелика Молокович. – Остап Ибрагимович, душечка". Она подкрасила толстые потрескавшиеся губы, быстро, но основательно, попудрилась и бросилась к двери, едва не сбив Нюру с чайным подносом в руках.
– У нас бывает, – щебетала мадам Молокович, повиснув на руке Остапа, – небольшой, но хорошо подобранный кружок друзей. Я с детства всегда подбираю людей по принципу интеллигентности. Вы знаете, в последнее время интеллигентный человек – это такая редкость, такая редкость! Вот, например, зубной врач Петькин. Это же какой-то аристократ духа. В его присутствии просто страшно становится: какая эрудиция, какой самоанализ, какая тонкость в знаниях. Или Вздох-Тушуйские. Они на всех премьерах в театре бывают и вообще большие любители искусства. А Дартаньянц! Талант, положительно талант. Сейчас он участвует в съемке картины "Чресла недр". Девица же Быкова просто красавица. Приходите к нам на ассамблею. Петькина послушаете. С Вздох-Тушуйским о театре поговорите, у Дартаньянца узнаете много нового о киноискусстве. Смотрите, не влюбитесь только в девицу Быкову! Так придете?
– Разумеется! – Остап галантно поцеловал пухлую руку мадам Молокович. Неизвестно почему, но в составленном Бендером списке "кандидатов" Молокович-муж стоял под номером "один".
За день до этого Сеня валялся на кровати в ботинках. Он жмурился и улыбался. Остап смел с валенок снег, снял шубу и долго стоял, опершись плечом о косяк двери, разглядывая соседа по квартире. Наконец он не выдержал:
– Послушайте, Сеня, вам так мало нужно для счастья, что снова и снова задаешь себе вопрос, не является ли мой друг молодым, полным сил идиотом?
Сеня так сладко потянулся и заурчал, что если бы у него вдруг появился хвост и он выскочил в окно, Остап нисколько бы не удивился. На дворе стоял март.
– Ошибаетесь, Остап Ибрагимович, ошибаетесь. За те два часа, что вы играли со слесарями в салочки, я написал новый колоколамский рассказ, за которым…
– М-да… оперился. Пора, пора на вольные хлеба, – сокрушенно протянул Остап. – Курьером в какую-нибудь редакцию.
– Точно, Остап Ибрагимович! Рассказ, за которым будут охотиться редакции самых упитанных журналов. Можно прочитаю? Ладно?
– Вообще-то я предпочитаю рассказы о приключениях миллионеров…
– Есть! Есть кое-что и на эту тему! А сейчас слушайте. Идею подал мосье Молокович: по-моему, уже весь дом знает, что он пролетарского происхождения…
Пролетарий чистых кровей
Колоколамцы не в шутку обижались, когда им указывали на то, что в их славном городе нет пролетариев.
– Как нет? – восклицали они. – А Взносов! Наш-то Досифей Взносов! Слава богу, не какой-нибудь частник. Пролетарий чистых кровей.
Весь город гордился Досифеем Взносовым, один лишь Досифей Взносов не гордился самим собой. Дела его шли плохо.
Взносов был холодным сапожником, проживал в Зазбруйной части города, на Штопорной улице, а работал на Привозном рынке в базарные дни.
То ли базарных дней было мало, то ли колоколамцы, не склонные к подвижности, почти не изнашивали обуви, но заработки у Досифея были ничтожны, и он сильно горевал.
– Пролетарий я, действительно пролетарий, – говорил он хмуро. – И кровей, слава тебе господи, не смешанных. Чай, не мулат какой-нибудь. А что толку? Выпить-то не на что!
В таком настроении забрел он однажды на квартиру к мосье Подлиннику. Цель у Взносова была простая – отвести душу. А всем в городе известно, что отвести душу легче всего в разговоре с рассудительным председателем лжеартели.
Подлинник, облаченный в рубашку-гейша, с расшитой кренделями грудью, сидел за обеденным столом. Перед ним дымился суп-пейзан, в котором привольно плавал толстый кусок мяса. Водка в пузатом графине отливала оловом и льдом.
– Принимайте гостя, товарищ Подлинник, – сказал холодный сапожник, входя, – чай, не итальяшка, не метис какой-нибудь.
– О чем может быть речь! – ответил лжепредседатель. – Садитесь, мосье Взносов. Вон там, возле граммофона, стоит пустой стул.
Досифей покосился на пар, восходивший над супом-пейзан, и, жмуря глаза от ртутного блеска графинчика, уселся в углу комнаты и начал обычные жалобы.
– Пролетарий-то я действительно пролетарий. Не индеец какой-нибудь. Чистых кровей. А выпить тем не менее не на что.
Несмотря на этот прямой намек, Досифей приглашен к столу не был. Подлинник, багровея, проглотил большой кусок мяса и, отдышавшись, молвил:
– Удивляюсь я вам, мосье Взносов. С вашим происхождением…
– На черта мне это происхождение! – с тоской произнес холодный сапожник. – Из происхождения шубы не сошьешь.
Подлинник застыл с вилкой в руке, держа ее, словно трезубец.
– Вы думаете, не сошьешь шубы? Из происхождения, вы думаете, нельзя сшить шубы?
– Нельзя!
И сапожник печально постучал пальцем по розовой граммофонной трубе. Подлинник вдруг поднялся из-за стола и задумчиво прошелся по комнате. Минуты две он размышлял, а затем внес совершенно неожиданное предложение.
– Тогда, мосье Взносов, – сказал он, – продайте мне свое происхождение. Раз оно не подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите?
Холодный сапожник еще раз глянул на графинчик и вступил в торг. Он требовал: яловочные сапоги одни, портьеру одну, четверть водки и три рубля деньгами. Подлинник со своей стороны предлагал рюмку водки и тарелку супа-пейзан.
Торговались они долго. Продавец, рассердившись, уходил, Подлинник выбегал за ним на улицу и кричал – "Псст", продавец возвращался, но Подлинник не прибавил ничего. На том и сошлись. Пролетарское происхождение было продано за рюмку водки и суп-пейзан.
– Смотрите, мосье Взносов, – сказал Подлинник. – А оно у вас настоящее, это происхождение?
– Чай, не абиссинец! – возразил холодный сапожник, с удовольствием проглатывая водку. – Чистых кровей. Товар настоящий.
И слава Досифея Взносова – слава, которую он не сумел оценить, – померкла. На колоколамский небосклон торжественно выплыла тучная звезда почетного городского пролетария мосье Подлинника.
Председатель лжеартели вцепился в свое новое происхождение с необыкновенным жаром. На Привозном рынке он приобрел связку лаптей и якобы пешим ходом смотался в губцентр, чтобы поднести лапоточки ответ работнику товарищу Плинтусову, его жене мадам Плинтусовой и их детям: мальчику Гоге и девочке Демагоге.
Назад взамен лаптей Подлинник привез большое удостоверение от какого-то кредитного товарищества с резолюцией товарища Плинтусова – "удовлетворить". Что значилось в удостоверении, не знала даже мадам Подлинник, но мощь его была настолько велика, что позволила новому пролетарию значительно расширить обороты лжеартели и близко познакомиться с прекрасным словом "сверхприбыль".
Мосье Подлинник ходил теперь в коричневой кожаной тужурке с бобровым воротником, в каракулевой кепке и в фетровых сапогах, восходящих к самым бедрам.
– Слава богу, – скромно говорил он, – я не какой-нибудь мулат. Пролетарий чистой крови.
Для того, чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, Подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков мосье.