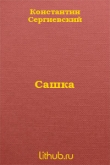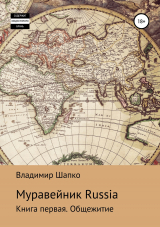
Текст книги "Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие (СИ)"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
За какие-то полгода здорово насобачился на бильярде. Стал обколачивать даже взрослых, опытных бильярдистов. Летом играл в парковой бильярдной. Окружённый юными болельщиками,На Интерес. («Сегодня Серя Серый дал Бундыжному фору два шара!») Маленький, влезал с кием на борт, распластывался. Как электричеством ударенный лягушонок – дёргался: длинный шар с треском всаживался в лузу. Восьмой! Партия!Восставал почтительный гул. Бундыжный кидал деньги на сукно. Отходил, запрокидывал пиво. Скучающе Серя Серый гонял на кию мелованные ленты. В бильярдную теперь всегда входил стремительно, серьёзно. За ним, шлейфуя, торопились сверстники. Из стойла выдёргивал кии. К свету вскидывал. Как выстрелы. Но нет – не то. Один, второй, третий – кии летели обратно в стойло. «Шехтель!» Маркер Шехтель выносил Кий. Кий Сери Серого. («Вчера Серя Серый сделал Бундыжного на двадцать». – «На двадцать пять!») Бухгалтер Бундыжный в раздумье смотрел на Серю Серого. Протягивал пиво. Бутылочное. Серя Серый игнорировал – на работе. Взбирался с кием на борт. Резко дёргался. Длинный шар вспарывал лузу. Глаза Бундыжного, как глаза отца,были спокойны. Он задумчиво отсасывал из бутылки. Маркёр Шехтель подставлял Банки. (Командировочных.) Серя Серый и Бундыжный на двух столах их кололи. Вечером кучерявый Шехтель кучеряво смеялся. Он был туберкулезник. Заговорщицки подмигивая, он словно грел руки над скомканными десятками, пятёрками, трёшками, выкинутыми Серей Серым и Бундыжным к нему на столик. Отсчитывал долю Сери Серого. Серя Серый кидал ему пятёрку. На молоко. Протягиваемую бутылку задумчивым Бундыжным… запрокидывал как трубу. Шехтель поглядывал на них,всё посмеивался, всё грел руки над красными бумажками. И полоскал красным стёкла бильярдной проваливающийся закат…
Пиво разило сильнее водки. Оконтуженные Мать и Дочь, не помня как, отправили Серю Серого в Свердловск. К Родному Дяде. Родной Дядя был офицер. Преподавал в Суворовском. По утрам, как только начинало светать, гонял Серю Серого по набережной Исети. Взмыленный Серя Серыйбоцкалкирзачами по асфальту, встряхивая армейскими трусами-юбками. Жена Офицера радовалась. Подманивала на кухню: «Серик, Серик, – кашка!кашка!овсянаякашка!» Через неделю, наколотив денег в местной бильярдной, Серя Серый трясся в поезде, оставив Офицеру с Женой записку: «Поехал в Москву, а потом домой. Любящий вас Серик». Офицер не стал догонять Серю Серого. Всё пошло по-старому. Больной чёрный Шехтель радостно смеялся. Казалось, что он кашляет сажей. Бундыжный вынимал и задумчиво прокатывал свояка в лузу. Серя Серый,пролентив кий, лез на борт. Но ко всему прочему нужно было как-то избавляться от денег, тратить… Серя Серый вёл Сопровождающих в «Шар Смелости».
Мастер спорта Константин Сергеев дело знал туго. В смысле, хорошо.Ударил по стилягам-кузнечикам мадеинисто. Транспарант рычал над «Шаром Смелости»: Mudagonkasuper-r-r!!!Кузнечики скакали в «Шар Смелости» стаями. Брюки Сери Серого были нормальными. Сорока шести сантиметров. Навертевшись головами до умопомрачения в «Шаре Смелости», наглотавшись дыму, треску, своей тошноты, Сопровождающие выпадали из «Шара Смелости». Серя Серый вёл их к карусели.Летали кругом на цепях,вертелись, стукались, хохотали. Вертелся, брызгался солнцем и снова летел зелёным холодом лес.
По-стариковски, сидя, спал в центральной аллее Запойник. Чистильщик обуви. Рыжины на голове его торчали как камышовые метёлки на болоте. Вздрогнув со сна, ударял щётками в ящик. Будто чумной заяц лапками в барабан. Пугая отдыхающих. Резко обрывал, поникнув. Но чуть погодя – снова на всю округу: Трра-та-та-та! И поник, щётки свесились… Серя Серый ставил ботинок на ящик. Лысина Запойника начинала взбалтываться перед Серей Серым – будто в камышах вода. В заключение делал из бархотки большую гармонь – проигрывал по ботинку Сери Серого. Сперва по одному, затем – по другому. «Порядок, пан цесаревич!» (Почему пан, да ещё– цесаревич?) Чистили обувь и кто пожелает. Сопровождающие… Настегать бы всем панам хорошо прутом по жопкам, чтоб бежали да подпрыгивали, в том числе и сам «цесаревич» впереди, но Серя Серый считал, что даёт заработать Запойнику. И тот сумасшедше отрабатывал щётками. Когда ватага отваливала, кидал два пальца к виску: «Удачи шалопаям панам!» Вот это уж точно – шалопаям-панам!
В парковом летнем ресторане«Дубок»у раскрытых двух столиков, полностью раскрытых вечерней чашке неба, сидели раскрыто совершенно, откинувшись, сыто поикивая, сопя. Заказанное шампанское подано не было. Так же, как и пиво. Но закуска по меню – вся. Истреблена и побита полностью. Включая пять видов мороженого. Серя Серый выкладывал деньги. На чай не дал. Обижен. Обслужен не полностью. Раскидались и висели на обшарпанной волне парковой скамьи. Некоторые уснули. От танцплощадки прокурлыкал саксофон. Скоро танцы. Нужно было познакомить Серю Серого с Чувихой. Сопровождающие беспокоились о Сере Сером. Серя Серый вставил в рот сигару. Повели… На танцах яростно дурили саксофоны. Непримиримые. Вертя, кидая, дёргая партнёрш, кузнечики долбились в рокэнрольной ломкой тряске. Чувиха походила на плодоножку. Она стучала стильным траком, бдабдыкая в губах всю жвачку ритма. («Бдаб-бдыб! Бдаб-бдыб!») Сигара подведённого к ней Сери Серого торчала гулей. «Маг есть?» – спросила у него Чувиха, по-прежнему бдабдыкая, немтуя. У Сери Серого мага не было.«Чего же ты тогда?Чув-вак?..» – Трак стукал. Удивлённый. Один. Без лицевой чувихинойнемтовки. «Иди, гоняй шары…» Ногтем выщелкнутая сигара Сери Серого ракетой кувыркалась к зелёному туману дерева у танцплощадки. Осыпалась там, пропала. Серя Серый пошёл. Гонять шары. Облегчённый.Ноги ходко несли его. Огорчившись, Сопровождающие еле поспевали за ним. Шехтель сразу подставил ему Банку. Без понтярщины, без долгих царапаний на сукне кием «рабы не мы – мы не рабы», Серя Серый сразу расколотил Банку. В восемь – один за другим – пушечных шаров. Не дав даже Банке попробовать кием. Оглушённый, забыв правила передвижения, Банка шёл к выходу задом. Судорожно отираясь платком и бормоча «понимаю, бывает, понимаю». Смех от сгнивших лёгких Шехтеля походил на хлопья сажи. Были тихо задумчивы прокатываемые шары Бундыжного…
Может быть, кататься бы так Маленькому Серову и дальше – кататься беспечным шариком бильярдным, ширяемым киями – да только кончилась однажды у Серова игра, и кончилась разом… Сырой промозглой осенью умер Шехтель. В высокой лесной просеке к кладбищу покачивался он в гробу высоко, точно чёрная головня, укутанная белым. Как испуганные тонконогие чёрные птицы, изросшие из одежд, переступали за ним евреи. Они подлезали под гроб. Чтобы выше он был. Стремили словно его в расколотое чёрной просекой небо. Стремили – и не отпускали, не могли отпустить. Продвигали гроб неотвратимо к могиле – и, слитые с ним, единые – словно утаскивались им, уводились… В осеннем мягком пальто стоял с обнажённой головой Бундыжный. Отяжелев от печали, словно слушал задумчиво он, как колыхались люди в чёрном за гробом мимо. Прибежал Серов. Увидел лихорадящихся людей, гроб над ними, увидел встрёпанные рыжины Запойника, будто поджигающие чёрный гроб… бросился к Бундыжному, припал, ужался как мышонок… Ударяли в ухо мальчишке влажные, тяжёлые срывающиеся удары изношенного пивного сердца…
Бундыжный уехал из городка. Навсегда. Первое время Серя Серый бодрился: ну что ж теперь – умер человек, другой – уехал. Начал было ходить КОфицерам (в бильярдную Дома Офицеров). Но что-то случилось с Серей Серым. И это сразу увидели все: и профессионалы с киями и бутылками, и Сопровождающие… Серя Серый стал… жалеть Банок. Перестал их колоть. Делал подставки им, хорошую, благоприятную раскатку, всячески тянул игру,давал играть им, выводил их, вытаскивал на ничью, а если и выигрывал – то только чтобы деньги уплатить маркёру за время… Как сказали бы в цирке,Серя Серый потерял кураж. Рукоплесканий не было. Сопровождающие по одному отваливали: Серя Серый сгорел, Серя Серый сшизился. Профессионалы хмурились, стали обходить его как больного. Сам Серя Серый, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг – всё учил Банок игре…
Ещё раза два приходил в накуренный, тонущий подвал с лампами, похожими на сонные дыни. Робко ходил вокруг играющих, которые по-прежнему ложились с киями на сукно, выцеливали комбинации. На нём был серый, немного великоватый ему, костюм, в котором он походил на маленького взрослого человечка. Потом перестал в бильярдную ходить совсем. После школы сидел дома. Часами. С остановленными, широко раскрытыми глазами, с раскрытой тетрадкой, в которой не было написано ни строчки. Старался не слушать осторожную возню собирающих его в Свердловск.
На привокзальной площади станции «Барановичи» Серов ел из большого кулька купленные им сорокакопеечные пирожки с ливером. Ел так, как будто прибыл с Голодного Мыса. «Да что же это ты, Серёжа…» – в растерянности оглядывались Мать и Дочь, огруженныесеровскими вещами. Уже подхромал какой-то пёс с заслуженным иконостасом катухов на груди. Прилежно ждал с подготовленными глупыми глазами. Серов бросал ему половинки. Пёс хватал пастью влет, проглатывая мгновенно. Молодец, Джек. Рубай. Пока ещё можно. «Да что это ты, Серёжа… Что это ты…»
Мать и Дочь спешили за вагоном, налетали друг на дружку, пытались махать окну, где должна была быть голова Серова.
Поезд ушёл.
В парке облетали, сыпались с дубов жёлтыми стаями листья. Потом забытый хрустальный проливень мыл и мыл золото на земле вокруг заколоченной чёрной бильярдной, подняв и удерживая над землёй красной медью вылуженный свет.
18. Подаренная старинная пишущаямашинка
Как перед уходом показал Серов, Кропин довольно-таки смело закрутнул листок в пишущую машинку.С запертым дыханием ткнул раз, другой в чёрные буковки. Одним – средним пальцем. Будто однопалый инвалид. Так, по две, по три буковки и стал печатать. Ме…ня…емодноко…мнат…нуюиком…натусдву…мясо…седямина полутора…ком…нар…нат…ную…
Дело шло медленно, туго. Всёвремя палец словно обжигался. Не о те буквы. Надо было согласиться, оставить текст объяления Серёже, напечатал бы нормально, так нет – сам!
О каком-то там Штрихе, чтобы исправлять – какая речь у новоиспечённого машиниста? Приходилось этак небрежно (профессионал!) выдёргивать испорченные листы, чтобы так же лихо закручивать новые. Только этому и научился.
Кое-как нашлёпал одно объявление. (А надо-то – с пяток хотя бы.) Отложил лист, перевёл дух. Взгляд столкнулся с неузнаваемыми – весёлыми– глазами Жени Серовой. На фотографии. На стене. Вздрогнул даже… Сначала смотрел на неё любуясь. Потом, не отдавая себе отчета, сокрушался. Точно знал её и такой когда-то, в своей молодости, точно теперь она – старуха.Супруг её на противоположной стенке был по-юношески голоден, тощ, но горд и значителен. И почему-то в шляпе.
Осторожно Кропин дальше стал нашлёпывать. Как всегда, когда оставался один в чужом жилище, чувствовал себя неуверенно, стеснительно: с места не вставал, ничего не брал на столе, не трогал. Лишь посматривал на оставленный ему ключ. От комнаты. Хотелось пить, во рту пересохло, но к стакану, к чайнику на кухоньке не шёл, терпел – на улице где-нибудь…
В прихожей вдруг зашебуршилось в замке. Кропин хотел крикнуть,что открыто, но в дверях уже стояла Нырова. И тоже – с ключом в руке…
И вытаращились они в изумлении друг на дружку. Будто два вора-домушника. Которые неожиданно встретились на сломе. Один уже работает,а другой – вот только ломанулся…
Нырова закрыла рот, сглотнула. Вильнув взглядом, спятилась за дверь.Кропин замер, удерживая случившееся в себе, не выпуская его в комнату.Начал дико, мучительно краснеть.
Снова открылась дверь… Хватаясь за край стола и стул, Кропин судорожно поднимался…
Но его не видели. Силкина и Нырова уставились на высокую чугунную старинную машинку на столе. Уставились, как на завод в миниатюре, фабрику, как на раскрытую наконец-топодпольную типографию.
– Чья машинка?
– Где? Какая?
– Вон – на столе?..
– Ах, эта-а?..
Покраснев ещё гуще, чувствуя, что катастрофически дуреет, Кропин зачем-то начал длинно, путано объяснять, что машинка эта была его, Кропина, когда-то, вернее, даже не его, а соседки, Вали Семёновой, старушки, которая умерла три года назад, а потом она попала к нему, Кропину (??!), машинка, машинка попала, родственники не взяли, а мне – память, понимаете?,просто память, мы дружили с ней тридцать лет (??!), с Валей, с Валей Семёновой, и вот она, машинка, у меня осталась, а потом пришёл Новосёлов,Саша (??!), ну в гости, понимаете?, чайку попить, а машинка – стоит, на тумбочке стоит, короче – мы её в мастерскую, там – корзину сменили, ну шрифт,шрифт новый поставили, потом смазали, то сё, вечная, говорят, ну мы её с Сашей – и Серёже Серову, сюрпризом, на день рождения… А собственно,какого чёрта?..
– При чём здесь Серов– шофёр, слесарь?.. – подлавливала Силкина.
– Да он же писатель, понимаете? Талантливый писатель! Ему же онанеобходима, нужна!
Силкина и Нырова переглянулись.
– И что же он написал? Если не секрет? Где? Что?
Кропин уже искал на книжной полке журнал. Сиреневого цвета журнал. С сиреневой обложкой. Нигде не находил. «Сейчас! Обождите!» Ринулся из комнаты.
Через несколько минут вернулся. Журнал – в руках.
– Вот! Вот! Смотрите! – как слепым, как глухим подсовывал под нос развернутый журнал. – Вот! «Рассыпающееся время». Повесть. Автор – Сергей Серов! Видите?.. У Новосёлова взял. У Саши… «Рассыпающееся время»…
– Почему у Новосёлова? При чем здесь Новосёлов? – окончательно дубела, зло упрямилась Силкина. – При чём?
– Да господи! Подарил он ему. Серов подарил. Новосёлову. И у меня есть. И мне подарил. А? Непонятно?
Старик рассинился весь от волнения. Склеротичность его была очевидна. Силкина избегала смотреть на него. Уходя, пробурчала:
– Должна быть зарегистрирована… Скажите ему…
– Да когда это было! Когда! Регистрации ваши! – Кропин замахал листками. Своими. Отпечатанными: – Вот они, листовки! Воззвания! В трёх экземплярах! Только что отпечатал!.. А?..
Вот тут уж было что ответитьСилкиной. Это было по её части. Спокойно-утверждающе, можно даже сказать, по-матерински, начала она журить неразумного старика. Она же обязана была выяснить Все Обстоятельствас этой машинкой.Д-да, обязана. Нельзя же быть таким доверчивым,наивным.В такое время. Олимпиада на носу! Нужно понимать это. Даже неудобно становится за некоторых наивных людей,стыдно,д-да!..
Ну конечно, а ковыряться в чужих замках, лезть в чужую жизнь,в постели – не стыдно. Как же – необходимо. Д-да, уважаемый Дмитрий Алексеевич, необходимо. Вы, как коммунист… Право, странно даже слышать такое!Что же всё пустить на самотёк?Кропинсел на стул, отвернулся. Нет, позвольте, уважаемый Дмитрий Алексеевич! Кропин сгрёб листки, пошёл к двери.
– Закройте тут после себя…Ключи у вас есть…Целая связка.Подберёте…
От удара двери выскочил из щели таракан. Тут же обратно юркнул в щель.
Силкина стукала белым сжатым кулачком в стол.Нырова не решалась заговорить, опасаясь крика, ора. А всё же не выдержала – стала нашёптывать,преданной начётчицей наговаривать…
Люди подходили, вставали напротив автоматов с газировкой. Получалось, стенка на стенку. Мелькали кулаки. Автоматы содрогались. Но не отдавали. Ни воду, ни деньги. С картами в руках из будки чистильщика обуви поглядывал настройщик автоматов. Сбрасывал карту внутрь будки. Хихикал. Железные воспитанники стояли крепко.
На первый раз Кропин сдержал себя. Вторую закинул монету. Ждал,тупо уставясь на стакан. Шарахнул кулаком. Поспешно отшипело с полстакана. Залпом выпил. Больше трояков не было. Искал разменный ящик. Старушка подала монетку. На Без Сиропа. Большими глотками пил пустую жгучую воду. Словно ежей запускал в себя. (Настройщик автоматов страдал, глядя из будки.) Напился Кропин.
Нужно было теперь за продуктами. Дождавшись светофора, пошёл с толпой через дорогу.
Внимательно, осторожно передвигался с продуктовой коляской по универсаму. Брал банку или пакет. Отстраняясь, читал надписи. Разочарованно клал на место. Двигался дальше.
В большой ящик, как собакам, начали выкидывать из окошка зафасованные в плёнку, уже взвешенные и оцененные куски колбасы. Люди поспешно подходили к ящику, хватали. У Кропина была колбаса. Дома. В холодильнике. Граммов двести. Сосисок бы. Яше. Кочерге… Заглянул в окошко. Как насчёт сосисочек сегодня? А, товарищ продавец? Сосисочек бы…
Оседлав перед автоматом стул, в белый халат затиснутая, торопясь, работала толстыми руками фасовщица. На миг только повернула к Кропину круглое лицо. «Ну ты даёшь, дед!» Кропин отошёл в смущении. Постояв,снова приблизился. Тогда кусочек бы. Грамм на двести. Двести пятьдесят.Для Яши. Ему швырнули граммов в восемьсот. Ничего, поблагодарил. Отошёл.Положил в коляску.
Дома Чуша опять домогалась ключей от комнаты Жогина. Чтобы засунутьв неё свой шифоньер. Временно, Кропин, временно. Пока наш художник ездит где-то. Халтурит. А?Упрямый ты старик!
Кропин был твёрд, доверенные ему ключи – никому! Ставь в коридоре. Раз в своей комнате с ним (шифоньером) не помещаешься.
Разговаривая по телефону с Кочергой, старался не слышать грохота падающих в ванной тазов. И хотел скорее кончить разговор и уйти к себе, но Кочерга, по-видимому, не слыша этого шума и грохота, в каком пребывал его друг Кропин, продолжал неспешно, посмеиваясь, что-то говорить.
Тазы подвешивались на стену и хулигански сдёргивались. Выплясывали в железной ванной. Кропин малодушно вздрагивал. Эко её! Поранится ещё там. Поглядывал на потревоженного паука под потолком. Который уже напыживался. Который уже дёргал свою паутину, сердито сучил её.
Чуша в ванной хохотала. Сожитель бегал, отпаивал валерьянкой. Полностью луповый выказывал Кропину глаз.
Ночью снился диковатый странный сон. Виделся зал огромного незнакомого универсама, придавленный низкими потолками, с которых осыпался душный свет люминесцентных ламп. Почему-то совершенно пустой был универсам. С пустымивитринами, полками. Без единого продавца.
Вдруг откуда-то стали появляться и двигаться в разных направлениях проволочные продуктовые коляски, направляемые женщинами. Однако все эти коляски тоже были пусты – без пакета, без мешочка крупы, без банки. И всё больше, больше их становилось. Десятки их уже перекатывались, сотни,по разным направлениям, пересекаясь, объезжая друг дружку… Вдруг словно сами коляски сбегались на одно место. Словнона кинутое зерно. Начинали ударяться, щебетать, как птицы… Но на полу женщины видели только песок. Обыкновенный песок. Серый. Обманутые, расходились… Опять сбегались с колясками, ещё громче щебетали… И опять обман… И женщины ходили и ходили за колясками, плакали, мучились. И ни одна не уходила из универсама… И таким же мучительным и нескончаемым был этот сон…
Уже пил чай утром, а приснившееся ночью почему-то не уходило. Покручивал головой, словно брал сон на ухо. То на одно, то на другое. Со стариковским уважительным суеверием прикидывал его к себе. И так, и эдак.Искал смысл в нем, Закономерность.
Рассказал Кочерге. Вечером. «Да ты всю жизнь в снах, – смеялся Кочерга. – Ты! Пихта! Увешанная туманами!» Но Кропин всё качал головой.Не-ет, тут что-то не так, неспроста-а. Сон был, видимо, из тех, что аукается и через годы. А? Яша? Кочерга смеялся.
А оставшись ночевать, Кропин увидел такой сон: где-то в сельском клубе… или заводском (маленький он был, с тесной высвеченной сценой) какой-то человек, то ли председатель колхоза, то ли заводской начальник, стоя на сцене, – состроил громаднейшую фигу. И поднял её высоко.Строго пошевеливая ею… И все в зальце тоже сразу стали заворачивать фиги. Вскочили и в ответ завыказывали ему. Ну который на сцене. Пошевеливали. Любовались ими. Являя собой человек полтораста старательных кукловодов…
Кропин перекинулся на другой бок – и пошла сразу словно бы вторая часть сна, продолжение первой. За стол в красном бархате сел президиум.Докладчик убрал на время фигу и начал большой рассказ. О текущем. Из зала к столу повадились бегать слушатели, пытаясь сдёрнуть скатерть. Дёргали её, тянули. Президиум сразу падал на скатерть, цеплялся за неё, держал. Слушатели убегали обратно. Докладчик гудел. Через какое-то время выбегали уже другие, снова тащили скатерть. Как бы втихаря. Чтобы не увидел докладчик. Лежащий президиум дёргался, крепко держал. Убегали. В президиуме переводили дух, обменивались мнениями. И так – несколько раз: выбегали, тянули, пытались сдёрнуть, а там – сразу падали, изо всех сил держали. Наконец докладчик снова поднял над собой фигу и понёс её, как звезду, куда-то в темноту закулисья. Все сразу полезли на сцену, запрыгивая на неё. Поспешно строились в сплочённость, в марш. Президиум не нравился, его отталкивали. Кропин, маршируя со всеми, на затравку, на подхват первым вдохновенно запел: «Партия – наш руль-левой, партия – наш руль-левой! Тра-та-та-та!» Пошёл в темноту, как на рыбалке задирая высоко босые ноги. Вниз куда-то загремел…
«…А? Яша? А это к чему?» – спросил утром. Кочерга опять хохотал.«Ну, пророк! Ну, мессия! Да тебе ж цены нет! Трансмедитатор!» Дохохотался до того, что начал кашлять, задыхаться, синеть. Кропин его по горбу постукал. «Не видят сны только бараны, Яша…»
19. Дмитрий Кропин и Зинаида Кочерга в январе 40-го года
…Почтовые ящички на стене чернели, будто ящички брошенной голубятни.Кропин прошёл уже мимо них… и вернулся. Его ящичек был приоткрыт. Кто-то оставил еле приметную щель. Щелку. Тоньше мышиного писка… Кропин дёрнул дверцу. В ящичке лежала газета. Институтская многотиражка. Аккуратно сложенная неизвестным вчетверо… Уже зная, что увидит в ней, но не веря, торопливо вышел под лампочку, к свету.
Заметка была на четвёртой страничке, внизу. Размером с траурную рамку… «Я, Зинаида Кочерга, урождённая Желябникова, и мой сын Андрей заявляем…»
На тёмной улице имени Горького метался меж движущихся, ослепших от мороза машин. Приседая, просяще осаживал их рукой. Машины надвигались, слепили глаза и убегали, тяжёлые, как медведи…
Скрежещущего где-то вверху лифта ждать не мог, хватаясь за перила,кидал себя наверх через две, через три ступени. Задыхался перед дверью на шестом этаже. Затравленно смотрел по всей её шершавой дерматиновой черноте, уползающей, казалось, в небо. Сдёрнув шапку, рукавом пальто грубо вытер со лба. Нашарил кнопку, надавил. Сразу же упала цепочка. В дверях стоял руки в бока Отставной Нарком. В пижамных своих штанах, в майке, по плечам и груди в жёсткой седой шерсти. Предваряя вопрос,подсунул к лицуКропина кукиш. Прополыхал затхлым золотом коронок: «Видел?!» Захлопнул дверь.
Кропин, трясясь, спускалсяпо лестнице на ломких, дрожащих ногах. «Шкура! Свиная барабанная шкура!..»
Он сидел у стола в полутёмной коммунальной кухне. Сронив к полу, как оборвавшуюся петлю, скользкий шарф. Над чернеющей его головой тонул в промороженном окне сахарок луны.
Опять бубнили, ссорились за стенкой недавно въехавшие соседи – муж и жена.
В кухню вошла Валя Семёнова.
Смотрела на поникшего Кропина, не решаясь окликнуть… Включила свет. Тихо поздоровалась.
Подобрав полы халата, начала взбираться коленями на подоконник, к форточке. К своим баночкам, кастрюлькам, свёрточкам. Проверяюще, как звонарь, пробовала там верёвками. Полезла рукой в двойное окно, будто в пазуху, некрасиво изогнувшись. Одна тапка соскользнула на пол. От неудобства положения вздрагивала женская тупая ступня с растрескавшейся пяткой.
Разобравшись с кастрюльками, опять стояла и смотрела на опущенное лицо недоступного ей мужчины…
«Ну что, Митя, – устроился?..»
«?!»
«Работу нашёл, Митя?»
«Устраиваюсь… Ищу…»
Нужно было уже уйти. Больше уже нельзя было стоять тут. Нехорошо.Стыдно. А ноги не шли, и в груди всё стеснялось в безнадёжности…Спросила, потушить ли свет?
Кропин молчал.
Тогда свет словно осторожно сняла, опять оставив кухне только мерцающий нажог окна.
Уходила по тускло высвеченному коридору, приклонив голову к плечу, словно уносила не кастрюльку, а терпеливую женскую свою надежду, женское свое ожидание: ничего, ничего, всё образуется, нужно только ждать…
И опять светил сверху сахарок луны. Словно набивал теперь колким морозом стакан молока на столе. Который осторожно оставили Кропину.
…Сначала он руководил каким-то арестом или обыском в пустой, ярко высвеченной комнате, где весь паркет, однако, был усеян бумагами. Он нервничал, поторапливал подчинённых. «Быстрее! Быстрее! До рассвета нужно успеть!» Длиннополые шинели ходили быстро. Будто размашистые серые метели. А он всё подгонял и подгонял. Или ощупывал зачем-то кобуру пистолета, точно хотел в следующий миг стрелять…
Потом он попалв какую-то тесную комнатёнку. К Зинаиде Кочерге.(Словно бы где-то на окраине это было, в частном домишке. Где хозяин, сопроводив, сразу спятился с улыбочкой, исчез.) Под низким потолкомтру̀сила умирать лампочка. Осела, пьяно разъехалась рожа трюмо. Базарные висели по стенкам тряпки с лебедями и девками…
С резким скрипом Зинаида вскочила с кровати, схватилась за спинку её.
– Зачем вы сейчас?! Зачем же?! Я не готова! – неукротимый рвался шёпот женщины. – Я не готова, слышите?!.
Кропин был в шинели, в фуражке, в ремнях. Кропинне знал, что говорить. Сдёрнул фуражку, прыгающей рукой вытер пот со лба. Фуражка выпала из его рук. Зинаида кинулась поднять – удлинённые упругие груди её метнулись с ней, передёрнулись в прорези рубахи. «Вот! Вот!» – совала ему фуражку. Отпрянула. Груди замерли.Кропин старался не смотреть, всё отирал лицо…
А уже через минуту в сумраке угла, на скрипучей её кровати, руки его словно бредили, уговаривали эти мечущиеся стерлядковые груди. На запрокинутом лице женщины полыхал быстрый шепоток:
– Ну что же вы? что же вы? Скорей! скорей! Хозяин, соседи!..
И он лез и лез к этому плачущему, со стиснутыми зубами лицу, лез словно по нескончаемым корням деревьев, свисая с них, болтаясь над пропастью…
Потом женщина плакала на кровати.
Серая шинель застыла в зеркале трюмо. Захлёстнутое ремешком лицоточно повесилось в фуражке. Глаза закрыло оловом. Бляшками. Которые вдруг начали плавиться,стекать, обнажая вылезающие, разом осознавшие всё глаза…
Кропин взметнулся с подушки. Как жаба мошку, хватал, заглатывал воздух.
Остро горел весь нажог окна. Где-то за ним, выдыхала тёмные тени луна.
Привычно уже, как на работу, Кропин шёл утром к метрополитену. Было морозно, как и в предыдущие дни. Будто заброшенная в небо головёшка, дымилось солнце. Зябли, бежали, тащили туманцы машины. Толстые и медлительные, как битюги, подносили бурые кулаки к усам милиционеры. Палки вниз точно сплёвывали. Как слюну…
Пролетев под землей два перегона, Кропин всплыл с эскалатором к переходу на соседнюю станцию. На широкой каменной лестнице густо сутулились спины людей. Кропин присоединился, поспешно закарабкался со всеми.
Теснился с людьми в арке. И вдруг увидел Зинаиду. Столкнулся с ней…Растерянно двигались со всеми дальше. Не здороваясь. Плечо в плечо.
Толпа отторгнула их в один из метровскихспецхрамов. Придавленные низким замкнутым небом его, стояли возле угольно лоснящегося божка с куцым лбом, мрачно нюхающего свои усы. Стояли дико. По обе от него стороны. Словно были в почётном карауле. Точно клялись на верность!..
– Как ты могла?!– не вмещались в глаза Кропина текущие и текущие на него люди.Словно по какому-то уроку он должен сосчитать их сейчас всех– сотню, тысячу, десять тысяч – и тогда всё решится.– Как ты могла предать его?! Как?!..
В злых глазах Зинаиды прыгали шляпы, шапки, тужурки, пальто, полушубки, людишки.
– А ты? Ты сам? Вы думали, когда устраивали свои посиделки?! Думали?! Чем думали?!
– Но ведь он муж твой! Отец твоего ребёнка! Ведь вы же с ним… И ты отрекаешься от него… Подло, коварно…
– А-а! Вон как заговорил! Пожалел дружка! Пожалел волк кобылу! Да ты же не зря отирался возле нас! Ты же по мне воздыхал! Я была нужна тебе,я! Я – лакомый кусочек! И сейчас воздыхаешь! Ха-ха-ха! Ты же рад, что Яшка сгинул! Рад!.. Только… только – вот тебе!..
В точности, как отец её,она подсунула ему кукиш.
Кропин мотал головой: «Неправда, Зина, неправда… Опомнись…»
А Желябникова уже шла от него на стройных злых подпрыгивающих ногах в коротком стройном пальто с подпрыгивающей чернобуркой…
Точно теряя сознание, Кропин проваливался с эскалатором обратно вниз, хватаясь за горло, сдирая шарф, шапку. «Вам плохо, товарищ?» – участливо спросила девушка, стоящая на одной ступеньке с ним. «Товарищ?Вам плохо?» «Гадина! Мразь! – вдруг начал бить кулаком по резине Кропин. –Продажная гадина!» Девушка прыгнула от него. Вверх через ступеньку.С испугом вместе с другими смотрела, как приличный на вид, хорошо одетый мужчина, точно пьяный, бил и бил кулаком по резине эскалатора и выталкивал только из себя: «гадина! продажная гадина! Тварь!» Бил и раскачивался, бил и раскачивался…
Первый раз в Москве Александр Новосёлов попал на концерт симфонической музыки случайно. Без пятнадцати семь он оказался на площади Маяковского неподалёку от памятника Поэту. Было душно. В августовский пылающий вечер по Садовому вниз улетали машины.
В названии фильма на кинотеатре «Москва» было что-то знакомое.Филармония стояла без всяких афиш. Величественная, надменная.
Только со стороны Горького нашёл расписание концертов. Концертов сезона. Абонемент. Сегодня – концерт симфонической музыки. Оркестр филармонии. Чайковский, Равель, Дебюсси.