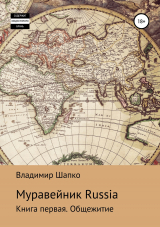
Текст книги "Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие (СИ)"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Когда приехал домой сам хозяин, – его никто не узнал. Голоса его не узнал никто. Фёдор Григорьевич не говорил, а свистел. Посвистывал. Как будто прятал в груди птичку. Свистнет она, а он тут же спрячет её, испугается. Поэтому все вскочили из-за стола. Испуганно стояли, подхватив сарафаны. Словно изготовились для бега в мешках. А Фёдор Григорьевич всё высвистывал и неостановимо махал правой рукой. Как будто показывал всем обеззвучившийся, весь оборванный лозунг, который он вот только что кричал с трибуны. Который был нормальным до этого. Который си… вси… сависи-сависи… Марья Павловна опомнилась, подхватилась, повела Фёдора Григорьевича в спальню, в дом. Бедненький. Бедненький птенчик. Сейчас тебе станет легче. Сейчас, дорогой. Остальные в возбуждении заходили возле стола. Глафира поспешно сгребала в кучу шелуху. Родственник, пригнувшись, тряс кисти.
Сели за стол только через полчаса. Когда Фёдор Григорьевич вновь смог говорить. Сели здесь же, во дворе, на воле. Племянницы в нетерпении сглатывали слюну. Еды на столе было много. За целый день, наверное, не съесть.Всё подавалось в деревянной посуде. Расписные деревянные тарелки были обширны, как жар-птицы. А деревянные длинные ложки малой вместимости, которые племянники удерживали в кулачках торчком… походили на цветки-васильки. Ими можно было взять еды очень немного. Они были как бы музейные. Племянники любовались ими. Часто давали ложкам отдых. И снова ими приступали. Внимательно слушали, о чём говорят взрослые. Верончику было скучно. Вилкой Верончиккурочила котлету.
Когда Рухлятьеву накладывали еду, а Фёдор Григорьевич наливал ему в рюмку водки, – бухгалтер сидел как-то очень ужато, как-то обиженно, даже страдающе. Как великомученик. Точно после долгих мытарств, после долгих тяжёлых испытаний отвоевал, наконец, право сидеть за этим столом, чтобы ему вот сейчас накладывали, чтобы ему наливали. Ведь нужно многое было поведать, донести, сказать, о чём мучительно думал ночами в деревне на печи, под вой ветра в трубе. Ведь одно только слово, умное слово, сказанное здесь, сейчас, за этим столом, к месту сказанное, вовремя – могло всё перевернуть в его жизни, в его судьбе. Одно слово! Он лихорадочно искал это слово, чтобы его сказать, жуя, забыто двигал челюстями, забыто удерживал в руке, как весло, музейную ложку. Но… но как нередко бывает от долгого ожидания чего-то важного, от нескончаемого душевного напряжения перед этим важным… окосел. Внезапно. Разом. Не узнавая себя. От трёх выпитых рюмок глаза его поставило ребром. Вертикально. Он ещё больше стал походить на отвес, которым определяют кособокость или ровность стенки. Для начала он попытался резануть Всю Правду-Матку, которую так любят начальники. Это были такие слова: «Я, Фёдор Григорьевич, прямо скажу! И ник-когда!» И всё. И после сказанного остались торчать над столом только эти его вертикальные, отчаянно составленные глаза. Сам отвес, куда они были помещены, рассыпался. В прах! Улетучился в дым! Только глаза – и всё!.. В другой раз он громко сказал – а-а! Махнул рукой, и ею же – махнул в рот рюмку. И это было здорово. Глафира раскраснелась. Глафира поддавала его под бок локтем, подмигивая всем. Ор-рёл! Рухлятьев! А он вдруг вымахнул из-за стола. То ли чтобы сплясануть, то ли ещё для чего. Но – забыл. Стоял, растопырив руки и уставясь на всё свое естество. Кисти пояса висели как пьяные акробаты. Он их встряхнул. Но они – вновь упали. А? Вот они. Кисти. А? Фёдор Григорьевич? Да садись ты! – дёрнула его на стул Глафира. Фёдор Григорьевич посмеивался, хорошо закусывал. Наливал и себе, и Рухлятьеву с верхом. Объедая большую гусиную лапу, поблагодарил Рухлятьева за трёх гусей и барана, которыми тот поклонился ему, Фёдору Григорьевичу, к праздничку. «Этого добра-то! – воскликнул сельский Крёз. – Да я для вас! Да мы!..» Но дальше опять слово развить не смог. А ведь баран-то был последним, если честно, да и гусей не без счёту. Да. Один только гусь теперь остался. Гуляет, значит. По двору. Да. Рухлятьев уже смеялся. От смеха слёзкие глаза Рухлятьева тряслись, как ландринки. В поддержку ему и для перерыва в еде – все подхватывали смех. Смеялись и смотрели друг на друга. Шло словно бы соревнование по смеху. Кто тоньше, кто толще может смяться, кто громче, кто тише. Рухлятьев посреди всех скромно солировал. Верончик изучающе смотрела на него сбоку. Так изучают, смотрят на подопытного кролика. План был готов. Задумочка скоро осуществится.
Когда, насмеявшись вволю, супруги ушли в дом отдыхать, а Глафира уносила со стола, – Верончик начала дёргать Рухлятьева за волосы. Выдирать из мотающейся головы. Племянницы и племянник молча стояли, положив руки дяде на плечо. Точно всё ещё для той же фотографии. А он спружинивал, дёргался склонённой головой, смеялся, грозил Верончику: «Ох, счас поймаю Верончика, ох, счас поймаю!»
Плешь походила на усохшие чернила. Остатки волос торчали над ней остро, путано. Верончик дёргала их как сурепку. Агроном на поле. «Ой, больно! Ой, счас догоню!»
– Верончик! Веро-ок! Что случилось? – еле слышно кричала из спальни Марья Павловна. Из зашторенной спальни – точно со дна её. Уже словно придавленная там чем-то очень тяжёлым. – Что такое? Веро-ок?..
– Ничего-о! – звонко кричала в ответ дочка. – Мы игра-аем! – Снова начинала драть.
Ага. Играем, говорил себе Рухлятьев, покачиваясь на табуретке, будто обдёрганный репей. И только после появления Глафиры его оставляли в покое. («П-пошла отсюда, шалава!») Андрюша, привстав на носочки, осторожно гладил дядину голову одной рукой. Как будто длинным жалостливым собачьим языком зализывал…
– Э-э, напился… – смотрела на брата Глафира.
Рухлятьев сразу подставлял указательный палец:
– Пьян – да умён: два угодья в ём!
Чуть не кувыркнулся с табуретки.
– Э-э, «умён»… Иди поспи лучше. Вон, в баньке…
– Н-н-нет! – сразу вскинулся-выкрикнул Рухлятьев. Как будто ему предложили ведро воды. Ледяной. На голову. – Н-не выйдет! И-ишь вы-ы!«В баньку»! – Прищуренный глаз его был разоблачающ.
Он пошёл вдруг в угол двора с намереньем залечь там. Расхристанные кисти утаскивались им как попало. Глафира кинулась, не дала лечь. Ещё чего надумал! Он в другую сторону направил себя – и там не дали. В баньку иди,в баньку, чёрт! В баньке он долго гремел, ронял тазы. Выпал обратно – не понравилось. Всюду за ним гурьбой бросались дети, боялись, что упадет…Верончик вяло наблюдала, ждала, когда уйдёт Глафира…
Потом Глафира мыла в большом тазу на столе посуду. А он сидел-поматывался рядом на табуретке. Будто плошка, будто выгоревшая вся внутри жестянка, бредил, чуть слышно высвистывал обрывки планов своих, чаяний…
– Э-э, дурак дураком! – изредка восклицала Глафира.
Тогда глаза Рухлятьева начинали всплывать. По очереди вылупливаться. Как лампы…
Потешные тем временем с опаской заглядывали в колодец. К далёкому серому пламени воды. В котором вытянутые их головёнки мотались, словно пугливые палицы… После окрика Верончика, – казалось, прямо снизу, из колодца! – головёнки разом исчезали. Испуганно оставался уползать и уползать там в волнующейся воде только тонкий змеевый ворот с цепью. И будто оттуда же, с колодезного этого неба, прилетал чуть погодя визгливый детский голосок: слушай-мою-команду! раз-два! раз-два!.. (Да-а. Терпел поп, да не вытерпел, начал…)
…За калитку в закатное солнце Рухлятьев вышел часов в восемь вечера. С четырьмя детьми. По двое за каждую его руку. Как из поезда вывалился. Точно к жене приехал. «С багажом». От другой жены. И никто не встречает. А?
«Багаж» молча стоял. Словно бы не знал дороги. Пошли, наконец, за «папой» будто бы наугад.
Глядя детям вслед, зависла в калитке Глафира. Скорбела. Как колокол в вечерней сгорающей колокольне… Потом медленно закрывала всё, как будто навешивала на закат тихую тлеющую решётку…
С распущенными волосами, в серой ночной рубахе стояла ночью она на коленях и по-собачьи – снизу – глядела на высокую икону. Кланялась ей до половиц. Снова выкачивалась, чтобы неотрывно смотреть и шептать молитву. Кланялась, закрывая глаза, точно падая ими в омут. Окуцившиеся ступни ног её возились по полу, стукались о половицы как полешки.
А за стеной, в спальне Силкиных, всё шла своя, наивная, ненадоедающая непритязательная жизнь – Марья Павловна мучительно закрывалась голой рукой. Опять на кровати. Опять словно сгорая, как бабочка, в страшном огне. Фёдор Григорьевич, сидя на стуле, голый, точно бы давно и с удивлением смотрел на выросшую у него откуда-то большую культю, на которую вдобавок нужно было сейчас надеть Средство. Средство соскальзывало, не надевалось, никак не разворачивалось, прищемляло кожу. Фёдор Григорьевич пыхтел, нервничал. Ч-чёрт! «Что, Феденька, что?.. Сейчас я, сейчас! помогу!»
И за следующей тонкой стенкой, в следующем купе поезда, не едущего никуда, глаза Верончика опять мерцали в темноте, как рыбы. Ненасытные. Никак не отпускали дневное. Наконец проваливались в сон, будто в яму.
Шли и шли нескончаемо по двору тени от движущегося куда-то неба. Как будто вытянутые чёрные гобои, взлаивали из дворов к небу собаки. Луна повисла, как старый орден.
3. Головоломная карта валет, или Одноликие Янусы
Во всём они походили друг на друга, во всём! И внешне, и внутренне! Григорий Фёдорович и Фёдор Григорьевич! Два друга!
На остроплечих (сталинских) френчах гордые головы их покоились, будто на трезубцах. А когда, приобнявшись, они фотографировались в силкинском дворе, то стояли в тонконогом галифе – как будто в небольшом тонконогом стаде верблюдов и верблюдиц… Они были одинаковы. Во всём. Только одному из них (Фёдору Григорьевичу), словно чтобы лучше вглядеться в жизнь, требовались очки, а другому – нет. Не требовались. Он уже как бы вгляделся.
Их ведь даже звали зеркально. Григорий Фёдорович и тут же – Фёдор Григорьевич. («Григорий Фёдыры-ыч! Фёдор Григо-ри-ич! Обе-да-ать!») Фамилии только – Кожин, Силкин… Разные, казалось. Хотя как сказать. Если подумать… («Григорий Фёдыры-ы-ыч! Фёдор Григо-ри-и-ич!..»)
Мерно покачиваясь, они со вкусом носили папиросы по двору, оба счастливые, вслушивались в слова друг друга. Они были братья сейчас. Дружба их, можно сказать, была неподвластна времени. Хотя один из них был во-он где, а другой всего лишь тут – в бездонной дыре казахстанской… Но ничего, ничего, всё впереди.
Перед тем как войти в дом, они приостановились и вновь приобнялись, чтобы еще раз сфотографироваться. (Фотограф летал с фотоаппаратом, будто штатив в шатанах.) Так. Отлично. Для потомков.
Но за обедом один из них всё же жаловался другому: «…Да понимаешь, Гриша, надоело, до смерти надоело! Все эти нацмены вокруг. Тюбетейки, казаны. Ведь сколько ни кормлю волков, а всё в лес смотрят. Мой, Второй – сына десятилетнего обрезал… А?.. Что ж ты делаешь-то, сукин ты сын! – говорю. Ему. Ведь по головке не погладят! – дойдёт наверх… Клянётся – не знал! без меня!.. Знал, подлец… Сам и повёл к мулле… Нацмены, Гриша…Чем меньше народишко – тем больше нос задирают… Б-братья наши младшие… Виделвонмоих. В кожаных пальто все. Пояса под самые груди. Как снопы. Как бурдюки под завязку налитые. Нацменством своим, достоинством… Петля-то давит, давно сдавила – глаза на лоб, а всё: мы – насыя!..»
На работе, на людях, засунутый глубоко за пазуху, зажатый наглухо державный шовинизм притаивался, молчал в тряпочку. Однако сейчас, здесь, во время этого обеда – вольготно распоясался, разоблачился. Стесняться было некого и нечего. Свои все… «И вот, Гриша, взращивают. Национализм этот свой. Упорно взращивают. Как плантации обрезанных своих… этих самых… не при дамах будет сказано. Да. Куда ни глянешь – везде торчат, ехидно тебе покачиваются, понимаешь. Выкоси их попробуй. Перевоспитай, понимаешь… Но я их держу! Вот они где у меня! Держу, понимаешь… А вообще, Гриша, – надоело. Если честно. Всё надоело… Дома только и отдыхаю. В запретной зоне. В зонке, понимаешь…»
– Берегите её, дорогие, берегите, эту зонку, – говорил другой. Похлопал друга по плечу: – Дай срок, Федя: будешь в Москве, будешь! Слово даю!.. Ну, брат, – дерганем по стопорыльнику!
И они выпивали. Потом они пели:
По мурымысыкойдаро-о-оги-и
Э-стоя-а-али э-трисосыны-ы-ы…
Они раскачивались, пустив руки по плечам друг друга, ни грамма не сплёскивая из пузатых дирижирующих рюмок. Оба были трезвы, как собаки. Оба прослушивали литые плечи друг друга. Оценивали их. Оба пели:
…Мойми-элиникайпроща-а-алыся-а
Дасле-едуущи-ийвесны-ы-ы…
Мать и дочка почти не ели. Не могли есть. Марья Павловна сидела прямо, была завита, как пирожное. Бант Верончика походил на притихший флюгер. Сейчас, здесь, за столом, можно сказать, решалась его судьба. Его будущая жизнь. Это нужно было понимать. Да, понимать. На правом глазу у Марьи Павловны повисала слеза. Большая, драгоценная, в несколько карат. Однако Марья Павловна её платочком сдёрнула. Вылезла другая слеза. Прозрачная. Тоже драгоценная. И она была незаметно сдёрнута Марьей Павловной. Марья Павловна поворачивалась к гостю. Ах, как вы прекрасно поете! Григорий Фёдорович! Браво! Глаза Григория Фёдоровича сразу начинали жёлто взыгрывать на Марью Павловну. Глазным оркестром козла. Активные давать модуляции. Марье Павловне сразу захотелось в туалет. По-маленькому. Фёдор же Григорьевич, муж, упорно пытался поймать сопливый рыжик вилкой. Наколоть его, значит, ею. Наколол.
Потом, запершись в кабинете Фёдора Григорьевича, друзья тихо, серьёзно что-то обсуждали. Шло закрытое совещание. Марья Павловна и Верончик ходили на цыпочках. Громоздкая Глафира испуганно стукалась об углы, не узнавая коридора, чуть не роняла посуду.
Ночью Федор Григорьевич был посажен на голодной паёк – Марья Павловна напряжённо удерживала его руку на своем животе – как будто там происходило непорочное зачатие. Зачатие всей будущей их жизни… Кожин безбожно храпел за стенкой в спальне Верончика. Верончик, точно спрятавшись от него, хитро вслушивалась во всё из спальни Глафиры. Её положили там на старый диван. Сама Глафира ушла спать в сени…
Актив собрался ровно в десять. Глаза блестели по притемнённому залу, как алмазы в копях. Но выковыривать никого не пришлось – Григорий Фёдорович сам запросто проговорил два часа. Он главенствовал за длинным столом на сцене, как главенствует воздухоплаватель на коробчатом аэроплане. В качестве отодвинутого пока что командира Силкин скромно прикрывал одну руку другой на красном матерьяле рядом. Все ждали. Когда они полетят. Взмоют над залом. В отпавших челюстях было что-то от оглохших слуховых аппаратов.
И аплодисменты в конце были жуткими. На десять минут. Активистов сдёргивало с мест – как будто вырывающимися лопастями. Нужно было упираться изо всех сил ногами в пол, чтобы не унесло. Полетели лозунги, крики «ура».
Вставшие Григорий Фёдорович и Фёдор Григорьевич ударяли руками в едином ритме, размашисто, синхронно. Так бьют цепами хлеб. Призывали этим самым зал к порядку, к организованности в аплодисментах. Какой там! Восстание в зале! Революция аплодисментов! Уже взмывали. Стрекозятами. По одному и группками. И, быстро покружив над всеми, на место падали, не прекращая молотить руками. Григорий Фёдорович не верил глазам своим! Вот это энергия бунтующих рук! Федор Григорьевич загадочно улыбался. Умельцы. Кулибины.
Потом, когда всё закончилось, – с бараньим низким гулом заторопились, полезли из рядов, скорей на выход – в буфете мандарины. На улице не расходились, толпились с рыженькими мандаринами в сеточках. Обменивались мнениями. Ждали. Когда проедут. Силкин с Гостем. Чтоб радостно им засмеяться. С будто привязанным к ногам руками. А уж тогда – домой.
Вечером все власть предержащие почтили за честь быть у Фёдора Григорьевича дома. Небольшой приём в честь Гостя. Все свои. Очень хорошо!
Абажур висел-веял, вроде морского гада. Все сидели под ним по ранжиру:во главе стола Фёдор Григорьевич и Григорий Фёдорович с Верончиком и Марьей Павловной, затем от них двумя шпалерами протянулись секретари – Вторые, Третьи и десятые; на противоположном конце стола нервничали десять активистов, хорошо преданных и проверенных, приглашённых кучкой.
То Фёдор Григорьевич, то Григорий Фёдорович поднимали свои рюмки. Точно на всеобщее обозрение. Мол налиты водкой, надо пить. Чокались с близ сидящими. Поднимали активистов. Эгей! Уснули? На отшибе стола начинало трезвонить как на колокольне. Жуткий благовест рюмок! Все клянутся, что пьют. И тут же ставят рюмки. Чуть-чуть только пригубив. Все перед этим дома ели масло. Много масла… Э не-ет. Так не пойдет. Фёдор Григорьевич подзывал наиболее ушлого. Который вообще не отпил. Наливал ему. Полный. Пей, Кулибин. И без всяких у меня! Да что вы, Фёдор Григорьевич, да ни сном ни духом, как вы могли такое подумать! Со стаканом ушлый вставал в деликатнейшую позу слоновьего хобота с бивнем. Пил. Пил словно бы сладкий обморок свой. Еле отрывался. Вот видите… ик!.. и с благодарностью даже, и ни сном, и ни духом… ик! Ушлый отходил, задирая ноги, ступая ими мимо. После него нужно было подходить остальным. Вскоре возле Фёдора Григорьевича образовывалась роща деликатнейших слоновьих хоботов. Фёдор Григорьевич наливал. Полные. Хоботы вытягивались в разные стороны и проникновенно протапливали в себя зелье. От подносимого на вилке огурца – отказывались: после первого стакана не закусываем. Никогда, Фёдор Григорьевич. Ик!
И Высокий Гость, и Секретари – смеялись. Фёдор Григорьевич недовольно бурчал: «Масла нажрались, черти. Но ничего. Посмотрю я на них через полчаса…» Активисты на своих местах испуганно икали. Тайная шла война в их желудках.
Но вот ужин стал подходить к концу. Во всяком случае, обжорная его часть. Уже были отведаны и всевозможные пироги: и с мясом, и с луком-яйцом, и так называемый «курник» (из нескольких куриц). И ели долго, плотно пельмени, постанывая от удовольствия. Из-за трех казахов (Секретари!) подавался бешбармак. Который тоже дружно умяли. Не говоря уже о разнообразнейших закусках, салатах, предваряющих сам обед: и мясных, и овощных, и рыбных. Оставалась теперь только щадящая часть ужина: чай со сдобой и печеньем, кофе, ну, конечно, коньячок, ликеры.
Активистов перекосило, как содранную кожу от барабанов. Все уже были прокляты пьяной печатью Рухлятьева. Их начали выводить. По одному. И попарно. (Имелись для этого специальные люди.) Остались за столом – преданные из преданнейших. Самые стойкие. Секретари. Эти умели пить. Эти были веселы. Смеялись. Эти ловили каждое слово Гостя, внимали ему, готовые мгновенно разорваться от смеха. В любой момент!
А Гость был в ударе!
Верончик уже минут десять сидела у дяди Гриши (у Кожина) на левом его колене. Вместе со смехом дяди Гриши колено тряслось, как лихорадка, как острое седло. Дядя Гриша крепко держал Верончика за талию. После её стишка гостям, после всеобщего ликования он посадил её к себе и вроде бы… забыл о ней. Он хохотал, шумел, рассказывал что-то очень смешное. В поместительных его галифе всё время словно бы кидали… острым камнем. Как из рогатки, из пращи. Он, камушек, то прилетал, задевая бедро Верончика, то исчезал куда-то. То упирался в бедро, остро давил, то отступал опять назад. Кожин выкатывал глаза, как паровоз фары, рассказывая что-то очень смешное. Верончик, потупив голову с бантом, потаённо, хитренько вслушивалась. Камень упирался. Отступал. Проскальзывал. Отступал. Потом упёрся и затрясся с хохотом дядя Гриши и остальных. И отступил. Уже совсем. Точно спрятался. Верончик была спущена с колена. Она ощутила у себя на голове волглую вздрагивающую руку. Рука судорожно погладила её по затылку. Хорошая девочка, очень хорошая! Иди, играй! Один глаз дяди Гриши вздёрнуло вверх. Наискось. Как бывает у отбросившегося семафора… Все смеялись, лезли к дяде Грише чокаться рюмками.
А потом началась русская пляска. Подготовленно, мелким шажочком,вышли специальные люди с заигравшими баянами. И Секретари начали ходить тяжеленными ножищами и встряхиваться, как пригнувшиеся копны сена. Загудели все балки дома.
Под полом в одно место сбежалось всё мышиное семейство. Смотрели вверх. Весь потолок простреливало пыльным светом… Все мыши принимались чихать.
Отношения их вначале были просты, утилитарны, но дружественны и теплы, как отношения в каком-нибудь клубе по интересам. Отношения каких-нибудь нумизматов-филателистов. В нашем случае рьяных любителей классической музыки. Её, студентки консерватории – любительницы как бы в силу своего положения, и его – простого шофера – музыку полюбившего исключительно по внезапно открывшейся склонности души; у неё дома было много пластинок, редких записей; он же – только недавно купил проигрыватель, только начал собирать пластинки.
Когда Новосёлов впервые пришёл к ней домой и очутился в её комнатке – везде, даже на полу, были раскиданы ноты, бумаги, раскрытые книги… Она начала метаться, хватать, сталкивать всё в шкаф. Будто разбросанное свое бельё, свою одежду. «Извините, пожалуйста, извините, сейчас!» И Новосёлов смущённо топтался. Точно это и вправду была её одежда, её бельё. Которое он не должен видеть. Тоже извинялся, стараясь не смотреть. Хотел помочь и не решился.
Она выскочила куда-то. В летучем халатике. Боясь его растерять. На стене – обязательной иконой – остался висеть советский большой поэт. Зарёкшийся писать большие романы. Лицом похожий на смуглую лопату…Вернулась. В юбочке, в белой кофточке. Переоделась. Мгновенно. Присели,наконец. Он – большой, с высоким торсом, тесный в комнатке. Она – какая-то худенькая, ужавшаяся на стуле. Метнулась, схватила пластинку. Поставила куда надо. Всё рядом. Снова потупилась, взяв ручкой ручку. Симфонию же договорились слушать. Шостаковича. Широко вплыла в комнату музыка.
Они сидели молча, напряжённо. Словно бы углублённо слушали. И в статичном этом положении, в слушанье этом всём была какая-то неестественность, нарочитость, жесточайшая какая-то условность. Что-то от застывшего балета на сцене. Двух лебедей, к примеру. Лебедя и лебёдки… Но постепенно напряжённость куда-то ушла, пропала, они забыли о ней, музыка пробралась в их души, захватила…
Они познакомились в филармонии. В буфете. В перерыве концерта. В том самом буфете, где когда-то веселилась компания Флейтиста-Виртуоза.Оказавшись даже за тем же высоким мраморным столом. Она пила воду мелко. Мелкими глоточками. Часто отнимая стакан ото рта. Так дёргают, наслаждаясь, газированную воду дети. С разлапистой, словно бы бриллиантовой брошью на бархате груди – как принадлежащая к совершенно недоступному Новосёлову Ордену. Клану.
Неожиданно он сказал, что Слушанье Музыки Способствует Образованию Большой Жажды. Удивился напыщенности, пустоте и фанфаронству этих своих слов, которые сказал словно даже не он. А кто-то другой. Она,думая о своём, не поняла. Потом рассмеялась. Уже вместе с ним. Однако стакан поставила на стол не допив, с сожалением, как маленькую свою тайну,слабость.
Они вышли из буфета. Да, вышли. Как из Шинели. А в зале он пригласил её на верхотуру, к себе, и она, зная, что ничего оттуда не увидит, неожиданно согласилась. Когда притушили свет, и пианист, отстранённо помяв руки, вновь заиграл, она сразу начала взволнованно дышать. Как это делают многие музыканты. И брошь её вместе с нею тоже словно вдыхала и выдыхала. Притом по-скорпионьи. Со щупальцами как роса. Это отвлекало, но и смешило. Новосёлов уже не боялся. Не верилось в их скорпионью хватку.Этих росных щупалец. Он сказал ей об этом. Не обращайте внимания, ответила она, мама нацепила. От быстрой руки брошь потухла, исчезла куда-то.И эта решительность соседки, и особенно её слова «мама нацепила» как-то сразу сблизили его с ней, сделали понятной, своей, свойской. Точно знал её давно, знал всю жизнь. «Новосёлов!» – сказал он ей. «Ольга», – ответила она.И даже, привстав, куце пожала ему руку. Пианист бурлил в Листе. Отвернув голову в сторону. Сталкивая руки клавиатуре. Словно наказанье своё. Словно чтобы они заиграли, наконец, сами. Сами по себе, без его, пианиста, участия.А он, отойдя от рояля, смог бы со всеми за ними наблюдать. Давать указания,поправлять, любоваться…
Как положено после концерта – Новосёлов провожал. Она жила неподалёку, возле Пушкинской. Новосёлов много говорил, шутил, размахивал руками. Исполнитель-пианист ему не понравился: все аккорды у него были как консервные сплюснутые банки. Гармонии в аккордах должны при исполнении расцветать. Цветами, садом. Каждая своим цветом, запахом. Не правда ли? Вот тут как раз и обнаруживаются два разных подхода в понимание музыки, сразу подхватила она. Разные восприятия эстетики музыки: кому консервные банки – бальзам на душу, а кому – только цветы.
Тогда же впервые высказал он мысль, несказанно поразившую её, студентку консерватории, музыковеда. Представлялось ему, что композитор, музыку которого они слушали в конце (а речь шла о Шостаковиче), в самом начале своего искусства, у истоковего…был вроде мальчишки-изгоя в многоголосом, но едином своими законами дворе. В дворовых играх… Стоит в стороне, смотрит на ловких сверстников, мысленно повторяет ловкие их движения, увёртки, прыжки… Не в силах сдержаться, подражая им, вдруг сам выкинет что-нибудьТакое… Но все видели, что неумело это, нехорошо, бездарно. Если заорёт – то чёрт знает что! Побежит – то обязательно подскакивая, подкозливая на бегу… То есть он был с вывертом, не как все. Смурной. Давал козлов не туда, не так. Но постепенно козлы эти его осмелели и стали даже нахальными. Его начали критически бить. Не помогло. Козлов в его музыке становилось всё больше, козлов удержать уже было нельзя: они скакали, поддавали вверх, орали не своими голосами, кукарекали, мычали. Уже не обращая внимания на двор. На Мнение. А сверстники стояли недоумевающей толпой: оказывается, всё это называется гротеском, эксцентрикой, эксцентричностью – новым в музыке. Течением…
Обо всём этом и говорил Новосёлов новой знакомой, удивляясь сам открывшемуся в нём, неожиданному, в понимании этой сложной музыки. В ней как раз и было много от той кособокости таланта, о которой не раз говорил ему Серов. Как вы считаете, Ольга? Ведь верно?..
По Палашевскому переулку шли за ускользающими, в руки не дающимися лучами. Точно наощупь. Когда дорога раскрывалась, закат над ней начинал гореть карминно-стойко, как сожжённая за день солнцем кожа. И снова раздёргивался на лучи, снова ускользал, затягивая Новосёлова и Ольгу за собой дальше в катакомбный переулок.
У Палашевских бань, возле пивной бочки, стояли с кружками побанившиеся пивники. С накинутыми на выи полотенцами, напоминали бивак воинов после дневной битвы. Отдохновенный у походного костра, у походной кухни. Раздатыми бычьими глазами воины удивлённо провожали парочку. Его, долгана, орясину, и её, пигалку. Шмакодявку. Новосёлов и Ольга наклоняли головы, посмеивались.
Словно пригибаясь в утлой длинной арке, вышли в тесный двор, где окна вокруг были темны.
Мусорный бак благоухал как тюльпан. Ольга косилась на бак, хотела поскорей проститься и уйти, но Новосёлов говорил и говорил. Пришлось вывести его снова на улицу и там стоять, слушать.
Новосёлов церемонно пожал ей руку, пошёл, наконец. Пошёл к закату. Уносил на себе фиолетовый пылающий футляр. Отмашно, вольно взбалтывал руками. Как взбалтывал бы руками пошедший в пляс плясун. Чтоб в трын-траве пропасть. В своем последнем мать-его-подплясе. Эхх-ма-а! Была бы шапка на голове – саданул бы, наверное, оземь, фиолетовую взметнув всю пыль! Э-эхх!
Когда Новосёлов пришёл к ней во второй раз, чтобы послушать пластинку – всё повторилось: она металась, бумаги, ноты спихивала в шкаф. В халатике – вымахнула опять из комнаты. На этот раз к поэту на стене добавился пылесос на полу. Который в изумлении замер. Как брошенная дервишем кобра. Новосёлов попытался пригнуть. Не тут-то было! – Головка вскинулась снова… Хозяйка вернулась. Уже в юбочке, в кофточке. «Сейчас я уберу!» Пылесос с грохотом полетел за тахту. Однако снова оттуда высунулся. Как единственный друг. «Не обращайте внимания, садитесь!» Новосёлов сел.Поставили пластинку. Поплыла музыка. На сей раз – Брамс.
Тогда же и первый поцелуй произошёл. Правда, на лестнице уже, на спуске к светящейся двери. Поцелуй неожиданный, дикий, не нужный ни ему, ни ей. У неё случилось что-то с туфлей, она замешкалась с ней, присев. Распрямилась чуть погодя. В некотором смущении. Будто извиняясь за задержку. Новосёлов снизу потянулся. Помедлил в нерешительности. Поцеловал. Точно и не он это вовсе. Поцеловал неумело, скользнув по её лицу. Словно остро зацепившись за английскую булавку… Молча, быстро стали спускаться к раскрытой двери, к свету.
На улице по глазам ударили чёрные лоскуты сильной жары. Солнце пряталось неизвестно где. Над улицей небо глубоко просохло, подобно перекипевшему серому молоку. Машины проносились, прокатывали жару. Будто бы уже рваными пылающими покрышками. Новосёлов и Ольга точно не видели всего этого. Торопливо шли они по тротуару, по самому солнцепёку,углублённо смотрели под ноги, не соображали, что наступают на нежный свинец, что нужно прочь от него, в сторону, через дорогу, спасаться в тени аллеи, всё озабоченно поторапливались, точно катастрофически куда-то опаздывали… И только возле гирлянды потных голов к киоску с фантой остановились.
Они не узнавали друг друга. Словно год не виделись. Оба как размытые, чёрно-белые два фильма… Встали в хвост очереди, вытираясь платками. О чём говорить, чёрт побери! На голову выше всех, Новосёлов смотрел на чёрные тряпки лип в алее напротив. О чём теперь говорить! Ольга, когда пила, лукаво поглядывала на него поверх стакана. Не выдержала,рассмеялась. Фу-у, чёрт, сразу стало легче! На радостях Новосёлов махнул второй стакан фанты.








