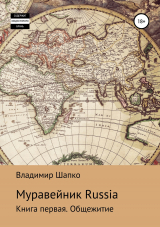
Текст книги "Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие (СИ)"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Наш адырис не дом и не ули-ца!
Наш адырисСоветысыкий Сою-у-ус!
Уталкиваясь, ворона дала им обмирающий фейерверк помета.
39. Бутылка Плиски после ленинского субботника
У Серовых за столом Новосёлов сидел с Катькой и Манькой в обеих руках словно с растрёпанными смеющимися цветками. Одаренный ими. Зарывался в них лицом и хохотал.
Сам Серов сидел скромненько, но и озабоченно. Так сидят за столом бедные родственнички. Пока Евгения бегала из комнаты в кухню и обратно,откуда-то выпорхнула на стол бутылка Плиски. Как перепёлка. При совершенно неподвижных, казалось, руках Серова. По-прежнему скромненьких,подъедающих друг дружку на коленях его. Удивительно, конечно. Фокус. Но ладно. Бдительность потеряна. Тем более, что праздник сегодня. Добродушию Новосёлова, что называется, не было границ. Добродушие Новосёлова затопило стол и его самого за столом. Праздник же, праздник, чертенята вы мои полосатые! Девчонки, как всё те же охапки цветов мотались, закатывались вместе с дядей Сашей.
Всё бегала Евгения. И нисколечко Плиски на столе не боялась. Подумаешь, – Плиска на столе. Да вместе с Сашей Новосёловым мы горы свернём! А тут – Плиска… Из стопки тарелки в цветочек перелетали на стол как девственницы. Всё предыдущее стремительно забывалось. Всё предыдущее не обращало на себя внимания. Ну вот ни столечко! Подумаешь, – Плиска. Бутылка. Как перепёлка.Ха-ха-ха!Наш а-адрес… э… не дом… и не у-улица.Ха-ха-ха! Плиска! Ха-ха-ха! Перепёлка!.. наш а-адрес…Сове…тысыкий Сою-юз!
Новосёлов сказал:
– Ну с праздником, мои дорогие!
Три руки (одна женская, две мужских) – поднялись и зависли над столом. Точно удерживали рюмки с бурым маслом. Две руки все-таки сомневались, стоит ли пить тут кое с кем. Зато третья – была абсолютно уверена в себе. Абсолютно! Стукнув рюмкой рюмки сомневающихся, Серов масло в себя – закинул. Залихватски. Подумаешь, – Плиска. Несколько рюмок. Да под такую закуску! Слону – дробина. (Ау! свердловский алкаш из забегаловки.) Челюсти Серова старались. Он словно бы закусывал. Умудрялся уничтожать закуску во рту. На месте. Не пропуская её дальше. В пищевод, в желудок. Это надо было уметь.
Катька и Манька ложками выделывали. Что вам ушлые гоголевские писцы перьями. После двух-трех рюмок, после обильной еды с ними, лица непривычных к вину Евгении и Новосёлова уже внутренне смущались себя,стали тлеющими, особенно у Евгении. Пора была заканчивать всё чаем. Между тем Серов по-прежнему еду отцеживал, из рта как из тюри, сосредоточенно ждал. Удара. Хлыста. После нескольких рюмок был совершенно трезв. Машинальные, необязательные, вязались к нему слова: «…Взять лозунги твои сегодняшние, вынесенные тобою кумачи…» Новосёлов сразу возразил, что лозунги не его. И кумачи выносил не он… «Неважно(неважно, о чём говорить, требовался разгон.)… Кумачи. Лозунги. Просто ряды белых букв. Без смысла уже, без толка… А ты говоришь – читать, изучать…» Да ничего я не говорю!.. «Неважно». Серовым сгребались шлакоблоки. Должно было что-то соорудиться. «Читают все, Саша. Да понимают по-разному прочитанное. Сколько у нас начитанных негодяев… Все, к примеру, читали „Муму“. Только одни, когда Герасим топил несчастную собачонку, задыхались, плакали… другие – слюнки пускали, как в дырку подглядывали, горели подленьким злорадным интересом… А ты с плакатами, с кумачами». Да не нёс я их! Женя, скажи ты ему! «Неважно… Там и читать-то нечего, не то что понимать. Не слова даже – рядыбессмысленных букв. Вывернутые мелованные глотки. Из анатомии коммунистов. В! О! У! Ы!» Записать бы. Да ладно. Неважно.
Тугомятину во рту отжёвывать продолжал. Однако, натыкаясь на смеющиеся новосёловские возражения, слова Серова стали обретать напор,силу. Напор и силу голимого смысла, выстраданного, даже можно сказать:«…Да о чём ты говоришь, Саша! Вслушайся только… влезь в смысл этих твоих слов! Этого словосочетания – Подавляющее большинство…А? Подавляющее, понимаешь? О какой свободе речь?» Действительно – о какой? Новосёлов поворачивался ко всем сидящих за столом. Кроме Серова. Действительно? Евгения уже раскачивалась от смеха. Девчонки тоже заходились.
Серову нужно было как-то кончать, наконец, со жвачкой. После процеживания через неё Плиски, химический состав дряни во рту стал напоминать хину. Процеживать (сквозь этот состав) стало трудно, неприятно. Даже опасно. Потому что, сами понимаете. Но не всё было досказано: «…И вообще, у них чуть что: съезд ли, пленум – реставраторы кидаются, срочно открывают Икону. Старую. Ленина… И все эти разбойники, толкаясь, гурьбой подстраиваются к ней – мы верные ленинцы! И срабатывает. А икону-то давно обмусолили, ободрали, выскоблили до дна. Но помогает каждый раз. Выводит. Святая…»
Всё. Теперь избавляться. Промедление – смерти подобно. Сплюнуть в пригоршню? Но как? Где? Сплюнул. Сунув голову под стол. Сразу встал.Неопределённо помотал кулаком. С зажатой в нем тайной. Дескать, это, я, в общем. Пошёл из комнаты. Насилуемые в ванной сразу завопили, запричитали трубы. Обрушилась вода в унитаз.
Вернулся. Сел. Во рту был озон. Оазис. Закусывать больше не надо было. Обед окончен. Это точно. Махнул рюмку так. Без закуски. Десерт. Да.Глаза его начали как-то отщёлкиваться от всего. Как наэлектризованные кошки после ударов электричеством. Он сливал остатки Плиски. В рюмку свою и Новосёлова. Руку (кисть) при этом загнуло, скрючило колтуном. Да, отверделым колтуном. Годным для разлива Плиски. Да. Годным.
Евгения уносила посуду. Новосёлов бодал Катьку и Маньку на тахте своим чубом-рогом. Глаза Серова в черепушке мерцали. Угнетённенькимхмельцом. Как в помещечьей усадьбе утомлённые свечи. Он нервничал, лихорадочно обдумывал своё положение. Новосёлов этого не замечал.
Потом в конце коридоре, у окна – раскурили по первой. Создали как бы новое, сизое на вид, поле раздумий. Один опять был худ. Как на ветру мученически вдохновенен. Другой по-прежнему не замечал, не улавливал. Блаженным был. Вспоминал всё Катьку и Маньку. Посмеивался, покручивал головой. Вот ведь! Счастливый ты. Такие девчонки! За-абавные! Конечно. Девчонки. Согласен. Но – Плиска. Ты не находишь: всегда горчит вначале? Да нет вроде… А Манька-то, Манька! Вот чертёнок растёт!
Да-а. Один толкует про Фому, другой талдычит про Ерёму. Да-а. Кошмар. Бесполезно говорить. Зря уходит время. Цейтнот. Серов по-прежнему нервничал. Искал выход. Сейчас он пойдёт… и… и почитает. Да, пойдёт – и почитает. Серов стал ещё более вдохновенен. Серьёзную книжку. Дылдов дал. Давно, так сказать, не брал я в руки шашек. То есть, книжек, хотел он сказать. Да. Давненько. Сейчас вот пойдёт – и почитает, чёрт побери. Задерживать человека с такой целеустремлённостью было нельзя. Новосёлов поднялся с подоконника, стал тушить окурок в баночке. Иди, Серёжа, иди. Потом дашь мне эту книжку. Было тёплое похлопывание по плечу. Доверчивость разливалась. Доверчивость не имела границ. Новосёлов пошёл к себе отдыхать, пошёл словно бы досмеиваться и докручивать головой. Серову трудно было поверить в такой исход. В такуюкинутую ему свободу. Поставил баночку с окурками на подоконник. Мимо своей двери – мягко пробежал на носочках. Остановился. Лифта дожидаться? – ещё чего! Рванул в другой конец коридора, поскакал там по лестнице.
По коридору шестнадцатого этажа шёл с большим, как у тубиста, ухом. Есть! Голоса! Свернул, смело толкнул дверь – «О-о! Кто пришёл! Серу-ун!»
– …Да что там понимать! Что читать там! – вновь доказывал он, находясь среди трёх-четырёх полупьяных, табачно-сонных физий. Во рту шёл сложный синтез соленого огурца, Плиски (новой Плиски, только что выпитой) и слов. Что-то должно было выйти. Да. Непременно:
– Просто носимая по пустырю анатомия коммунистов. Глотки их, уши, ноздри: А! О! У! Ы! Даже козлы на мавзолеях её уже не замечают!» (Записать бы. Да ладно! Неважно!)
Стакан с Плиской, вновь налитой, почему-то перед ним потрясывался на столе, зуделся. Словно его кто-то медитировал из-под стола. И парни тоже смотрели в свои стаканы удивлённо. Будто спириты…
Ночью Новосёлова словно настойчиво трясли, и тут же испуганно бросали. Снова принимались трясти, чтобы тут же бросить. Новосёлов проснулся наконец. Сел.
Стукоток робко пробивался от двери. Он то нарастал, то обрывался.Стучали давно. Наверняка давно. Торопливо Новосёлов стал надёргивать трико.
Раскрыл дверь в электрически холодное, мерцающее несчастье, в беду… Женя плакала, почти не могла говорить, от слёз глаза её высоко, провально означились, как у заболевшей птицы…
Кое-как дослушал её.
– Да он же домой пошёл, в комнату, при мне!
– Да не был он дома, не был! Как ушли, не был!
Новосёлов не знал, что думать, что делать. Глупо предположил, что,может, к Дылдову махнул…
– Да нет же, нет! В тапочках! В майке!.. Господи!.. Я не могу больше,не могу, Саша! – В муке она уводила лицо в сторону, и сбившаяся узкая бретелька от ночной рубашки, выглядывающей из-под халата, точно перерезала её выпуклую ключицу, её широкую выпуклую грудь… Новосёлов опустил глаза.
– Ну, полно, Женя, полно. Не надо… Сейчас я. Оденусь. Найду его…Иди к детям…
Уходя, женщина смахивала слёзы. Шла с нагорбленной спиной, в вислом, точно беззадом халате. Оступались, нелепо подплясывали худые её ноги…
Серова Новосёлов тащил яростно, коленом поддавая под зад. Серов махал руками, как вертолет, пытался оборачиваться, протестовать. Брошенный в своей кухоньке на стул, сразу опал, смирился. Новосёлов захлопнул дверь.
Серов вздёрнулся, осознав обиду. Вслушался в напряжённо-провальную тишину комнаты. Вперебой запутывали темноту тенькающие будильники. Вспомнились наглые цикады. Запутывающие ночь. Создающие в ней ломкий чёрный хаос. Где-нибудь на Чёрном море. На берегу. В лесной чаще. Где сроду не был. Но где побывать сейчас – надо.
Хитро очень – пошёл. Чтобы переловить этих цикад. Споткнулся, мягонько упал между креслом и столом, пропахав щекой палас. Держался за ножку стола. Как за якорь. Глаза разлеглись по-крокодильи низко, вытаращенно. За окном, над городом, как над цирком, висел чистоплотный апрельский месяц.
По ночам Кочерга кашлял страшно. Лёгкие ощущались куском дерева, чёрным мокрым пнём. Который он не мог вырвать, выкинуть из себя… Кое-как вставал, тащил себя в туалет. Отогревался на кухне чаем из термоса. Боясь повторения приступов – на тахте сидел. Обложившись подушками и одеялом. Световые полосы от машин рыскали по потолку, перекрещивались, Точно в поисках вражеских самолетов. Несмотря на летнюю ночь за окном,все так же знобило. Хотелось, чтобы откуда-нибудь нанесло тепла. Даже жары. Чтобы прогреться в ней, наконец. Прожариться… Невольно вспоминался сатанинский июльский зной над взморьем Мангышлака…
У мыса Песчаный, в железных двух баржах, забранных по трюмам решётками, без воды и без свежего воздуха, в страшной жаре вторые сутки погибало тогда около четырёхсот заключённых. Внутри стоял ор. Внутри был ад. Тянущиеся из решёток руки сносило пулемётными очередями как кукурузу… На третий день ор стих. Трюмы открыли. Эксперимент удался почти полностью. Немногие выжившие выползали наверх обезумевшие, безголосые,раздетые, почти голые. По палубе переваливались татуированными клубками змей. Все с разверстымиртами,как, по меньшей мере, с пропастями…
Кочерга простынёй вытирал лицо, навернувшиеся слёзы.
До рассвета было далеко. В меняющейся полутьме выпучивал глаза.По-прежнему обложенный подушками, как сыч из гнезда. Опять вспоминал. Теперь уже сына своего, Андрюшку. Каким тот был в младенчестве… Однако как рос он дальше, каким был школьником, юношей – Кочерга представить не мог. Не получалось… Проще было с детством своим. Как все старики, помнил многое хорошо, зримо.
…Долго уговаривал он тем летом деда Яшку, чтобы тот взял его с собой, когда поедет в большую станицу продавать Гарбузы. Дед посмеивался:«Побачим, побачим…» Однако видя, как огорчался внук, хлопал его по плечу: «Визьму, визьму!» В другие дни десятилетний Яшка не забывал напомнить об обещании: «А, дидусь?..» – «Да поидишь, поидишь! Сказав же!» – уже сердился дед…
С полной телегой арбузов выехали на самом рассвете. На подъемах лошадь кожилилась, перд…, а оглобли начинали натужно скрипеть. Зато вниз станцовывала барыней, всё так же, однако, попёрдывая. Оба Яшки вновь сигали на телегу, тряслись, смеялись.
…Только пройдя полбазара, Яшка наконец-то увидел её– восьмиклинку! Тётенька держала кепку на двух пальчиках, а мизинчик оттопырила. Точно хотела выпить чаю, а ей – не давали. Кепка-восьмиклинка была настоящая – обширная, хорошо закруглённая. Как штурвал на пароходе. Но на голове ощущалась невесомо, воздушно. Так, наверное, ангел ощущал бы у себя над головой божественный нимб. Уже не снимая восьмиклинки, Яшка начал углублённо считать деньги. Долго им копимые. Сперва себе считал, а сосчитав – тётеньке. «Носи на здоровье!» – хлопнула его по плечу торговка.Восьмиклинка вместе с Яшкой поплыла по базару. Всё время трогал её обеими руками. То, что продавали на базаре – почти не видел. Главное же вот, на голове его. Восьмиклинка! Сердце начинало замирать, когда представлял, как приедет в деревню и его увидит Галя…
Через полчаса, всё так же в восьмиклинке он зашёл за какой-то сарай.Огляделся. Вроде никого. Спокойно начал развязывать гашник. Льющаяся моча под ногами сразу сохла. Как парча. Отлетающие капельки её щекотали босые ноги.
Вдруг точно ветром ударило по затылку – сдёрнуло восьмиклинку! И две спины скрылись за углом. И нет никого. И нет восьмиклинки!
С рёвом Яшка побежал. Выскочил на базар с неприбранным штанами – и сразу отвернулся, зажался. Завязывался скорей. И плакал, и смотрел во все стороны, чтобы увидеть гадов, чтобы бежать за ними, чтобы догнать…
Весь остаток дня он ходил по базару из конца в конец. Делал большие круги. Высматривал, искал. Потом пришёл к телеге. Чёрный, будто угасшая головёшка. Дед Яков уже запрягал. В драной соломенной шляпе, покачивался, пытался петь. За околицей разорался-таки, обнимал, похлопывал внука,поддавал и поддавал лошадёнке. Яшка ужимался под рукой деда, трясся с телегой, молчал. Над степью вдали дотлевал замордованный закат… В деревню въехали с сумерками…
Только зимой узнали все, как потрачены были Яшкой копимые два года деньги…
Кочерга всё таращился на оживающие и гаснущие стекла окна. Предутренняя чернота стояла в комнате недвижно. Без воздуха… Кочерга сполз с тахты, потянулся, палкой с петлёй раскрыл совсем форточку. Однако ничего не изменилось – воздух в форточку не шёл, он был недвижим и снаружи… Загнуто Кочерга стоял у тахты, не решаясь ни влезть на неё, ни хотя бы начать одеваться…
Часов в девять, после своего дежурства, приехал Кропин. Опять ворчал, расталкивал всё в прихожей. И барахло так же падало, сваливалось с обувной полки. (В комнате Кочерга поспешно одевался.)
На кухне закинул в закипевшую воду пачку пельменей. Кочерга сразу подал голос из комнаты: «Берию не забудь положить,Берию! Митя!» Кропин ответил, что положил. Два листика. Не слышно, что ли, запаха? «Ну, тогда – нормально». Кочерга успокоился: Лаврентия Палыча положили, варится.
Ели на кухне. Кропин на удивление был хмур. ЖаловалсяНа Бездуховность Общежитских. Так он выразился. Написали фломастером на вахтовом столе: Кропин– старый презерватив!.. Прямо под нос. А? Это как? Никаких интересов у людей, стремлений, идеалов. «Старый презерватив». Никакой духовности… Кочерга хохотал. «Да что человеку нужно! Митя! Жратва чтоб была и баба – и всё! И никаких идеологий, никаких идей!» Кропин смотрел на друга с ужасом. Как смотрел бы, наверное, апостол Павел на преданного прежде ученика. Внезапно узнав о нём (ученике) жуткую правду. «Что ты говоришь,Яша! Опомнись!» – «А то и говорю: жратву и бабу!» – нагло отвечал ученик.И опять заливался. Да-а, вот так философ. Вот так марксист… Старый, выживший из ума хрен и больше ничего!
Перед уходом Кропин вдруг взялся перетряхивать всю постель Кочерги. Трясти с балкона. Все одеяла, пледы, покрывала. Выколачивать подушки.Застелил тахту свежими простынями. Хватит в гайне валяться, Яша! Кочерга смущённо стоял рядом. Без обычного утреннего своего тряпья, одетый в чистую рубашку – вроде загнутой намозоленной стариковской клюшки. «Да ладно, Митя! Не пряма свадьба – Ерёма женится». Дескать, и так сойдёт. Однако вернувшись на тахту, на всё расправленное и чистое, сидел довольный, как падишах обкладывался подушками и думками. Кропин включил ему телевизор, попрощался и пошёл из квартиры, прихватив сумку с бельём для прачечной. До завтра, Яша!
Дверь Странного Старичка была почему-то распахнута настежь. В пустой освобождённой прихожей мелькали то сын его, то сноха. Переезжают,что ли? А где сам Странный Старичок? В каком-то раздвоении Кропин стал спускаться по лестнице. Однако навстречу уже лезли грузчики в комбинезонах. Лезли с мебелью.Кропин с сумкой прилип к стене. В двух тащимых диванах было что-то тигровое. Пара бенгальских тигров пролезала мимо Кропина. Такие же толстые, тигровые были и кресла, несомые следом. Куда же они ставить-то всё это будут? Ведь только две комнаты у них?.. Однако сын и сноха Странного Старичка беспокоились, встречали грузчиков на площадке, всячески направляли. Сам Странный Старичок выглянул только раз. В полной растерянности. И исчез. Даже не поздоровавшись.
Через неделю Кропин случайно увидел его в посудном магазине. Неподалеку от дома. В отделе фарфора он просительно протягивал продавщице обломок тарелки. От волнения голос его дрожал. На белой рубашке проступили пятна пота.
Кропин сразу отложил на стеллаж какого-то стеклянного гусака, и придвинулся поближе… Как он понял из торопливого говорка Старичка, тот просил найти ему точно такую же тарелку. Такой же расцветки, рисунка. Понимаете, разбил. Нечаянно. Мыл ее, она выскользнула – и об пол! Требуют теперь такую же. Чтоб точно такую же принёс. Понимаете?
– Да вы что – смеётесь! – С натянутыми к макушке волосами продавщица была как латунный патрон. – Нет таких! – Двинула обломок обратно.Злая. Пальцами даже брезгливо тряхнула.
Старичок растерянно улыбался. Точно иностранец. Точно ему не перевели. Забыли перевести. На его родной язык… Так оно, конечно. Как же теперь? Ведь сказали, чтоб такую же. Господи, куда же теперь?..
Тогда последовало сакраментальное:
– Вы что – русского языка не понимаете?.. Приносят тут… С помоек… – Лицо женщины вознеслось на небо. До него Странному Старичку было не достать.
Подойдя и поздоровавшись, Кропин взял в руки половинку тарелки. Однако такого рисунка, рисунка странного, он в жизни не видел. Рисунок походил на какую-то каббалу. На вскрытый мозг человека. На часть запутанного лабиринта, отсечённого от целого… Тем не менее Кропин сказал, что есть вроде бы такая тарелка. У Кочерги. Дома. Вроде с таким же рисунком. Пойдемте, посмотрим. Старичок обрадовался, заторопился за спасителем. Господи, да как же! Ведь сказали такую же. А где ж её? Ведь не оказалось тут. Да и откуда? Тарелка-то – из Германии. А я, старый дурак – настаивал. Вот ведь как!..
– …Сын у меня хороший, хороший… – всё уверял себя Старичок в комнате у Кочерги. Забыто дёргал чай из стакана. Как все пожилые деревенские – с застёгнутым воротком белой рубашки. С застёгнутым на верхнюю пуговку. – Хороший, очень хороший… Институт окончил… Хороший…
Кропин кивал, соглашался со Старичком как с малым дитём. Кочерга же, ухмыляясь, опускал глаза, готовый к разоблачениям.
Вблизи Старичок казался старей поповой собаки. Волосы реденьким ёжиком. Как у новорождённой, точно уже спёкшейся на солнце обезьянки. За семьдесят, пожалуй, перевалило ему. «Я из деревни Долбушка. Наспротив станции под таким же названием. Прямо наспротив. Фамилия моя – Глинчин.Павел Андреевич». Ну, вот и познакомились, наконец. Кропин и Кочерга назвали себя. Пожали ему руку. Оказалось – учительствовал. Сорок пять лет. В этой самой Долбушке. В начальной школе. Жена умерла. Два года назад. Тоже учительница была. Вот и приехал. К сыну. Не хотел, но уж больно звали. Да. А там как же? В Долбушке? Ведь дом, наверное, хозяйство? Всё продал. Сын настоял… Кочерга и Кропин переглянулись. Потом не знали куда смотреть, точно сами пойманные на нехорошем…
– Нет, нет – сын у меня хороший! Не подумайте чего! Хороший! Я всем доволен. Да…
Да – хороший. Кто же спорит?.. Кочерга стукал пальцами по столу.Кропин пылал, сидел-покачивался с руками меж колен.
Никакой тарелки, близкой по рисунку разбитой, у Кочерги не нашли.
Когда бывал во дворе, Кочерга нередко теперь видел Странного Старичка в одном из окон четвёртого этажа. Как всё та же грустная обезьянка,Глинчин смотрел куда-то вдаль поверх утренних отпаривающих деревьев.Наверное, там, вдали под солнцем видел свою дорогую Долбушку… Кочерга начинал взмахивать палкой. Универсальной своей палкой: Павел Андреевич!Эй! Как дела? Но Старичок не смотрел вниз… Потом ронял на стекло занавеску… Да, бедняга. Зачахнет там среди барахла. Сгноят его чёртовы детки. Почему же Митя-то не зайдёт к нему? Снова не позовёт?..
Однако Кропину было не до Странного Старичка. Кропин уже несколько дней был озабочен совсем другим…
После 56-го, когда Кочерга вернулся из лагерей, почти сразу же у них состоялся разговор о бывшей семье Якова Ивановича. Тогда, перед самым приездом сидельца, Кропин рванулся даже искать их. Окольными путями успел узнать: Зинаида была замужем (этому, собственно, не удивился), однако Андрюша, тот самый постоянно беспокойный толстенький мальчишка… был уже студентом! Учился в институте! Вот это удивило.
Обо всём этом Дмитрий Алексеевич и доложил другу, когда во время встречи (встречи через шестнадцать лет) сидели за бутылкой водки и немудрёной закуской в кропинской комнате.
Однако от услышанного Кочерга начал клониться вниз. Лысина его стала как пепел.
– Спасибо, Митя… Но думаю, этого не нужно было делать… Извини,но я их вычеркнул из своей жизни. Давно. Так же,как и они меня… За шестнадцать лет ни одного письма… – Посмотрел на папиросу меж пальцев. Затянулся: – Ни пачки махорки.
Кропин начал спорить. Не могли они! Яша! Время было такое! Неужели непонятно?!
– А ты?.. – Глаза смотрели из чёрных впадин, как из ям, как из колодцев. – А ты?.. Почему же ты писал? И продукты отрывал от себя?.. Почему?
Ну что тут скажешь?! Чуб Кропина в те времена был сродни бильярду. Бильярдной неразбитой пирамиде. Поэтому что мог ответить такой чуб склонённой перед ним, упрямой серой лысине?..
Однако прошло время. Прошло много лет. Шел 79-ый год. Кочерга стремительно старел. Был весь в недомоганиях, в болезнях. Более того, раза два заводил странные, совсем нехарактерные для него речи. ГоворилО Любви-Жалости. О любви-жалости родителей к своим детям… Кропин сначала не понял, к чему это. Даже удивился: Кочерга ли это говорит? «…Понимаешь,Митя, она, эта любовь-жалость, неведома юности. Она основа жизни зрелого и больше – пожилого человека. И хотя она-то и съедает его, раньше времени сводит в могилу, но человек не был бы человеком, если б у него не было этой жалости к своим детям. Вот почему жалость самое сильное чувство людей.Вот почему плачут старики-родители при редких встречах со своими детьми. Они Жалеют своих детей. До боли в сердце, до раннего износа его и смерти…»
После таких монологов Кочерги – оба молчали. Избегали смотреть друг на друга. Кропин понимал подтекст сказанного. Второй план сказанных слов. Однако напрямую спросить– «Искать мне Андрея, Яша?» – почему-то не мог. Не решался. Действовать нужно было, наверное, самому. Осторожно. На свой, как говорят, страх и риск.
…К будке «Мосгорсправки» возле Белорусского вокзала Кропин подошел с дерматиновой папкой. С папкой Под Документ. Однако через полчаса, когда вернулся туда же, ему сказали, что искомый гражданин, а именно Кочерга Андрей Яковлевич, в Москве не значится. Не прописан. Есть один Андрей Яковлевич, но ни год, ни день рождения не совпадают…
Кропин воззрился на большой остеклённый вокзал – как, по меньшей мере, на большой остеклённый ангар, не признавая в нем вокзала. Как же так? Только начал искать– и уже конец всему?
С папкой на колене сидел на скамье. Ничего не видел. Лица людей мелькали размыто, как моль…
Снова нарисовался в окне будки перед служащей, похожей на слониху. «Может быть, – Желябников Андрей Яковлевич?» (Желябниковой была в девичестве Зинаида Кочерга.) «По фамилии матери?» Слониха с белой башней волос недовольно начала накручивать диск телефона. Кропин не отходил, любознательно заглядывал. Есть! Есть такой! Значится в Москве. И возраст, и дата рождения сходятся… Получая адрес, Кропин радостно смеялся. Точно смехом щекотал слониху в будке: ух ты моя хорошая!
Уже через двадцать минут Кропин торопливо переставлялся по широкой лестнице найденного дома. Кропин словно тащил с собой много пыльного солнца, заступившего из боковых окошек на лестницу. Сверху спускалась девчонка. С чёрными плоскими косами. Отворачивала от Кропина надутое лицо. И того обдало жаром: черноглазая! похожа?! внучка Кочерги?! Кропин забормотал: «Девочка, это самое… где тут…» – «Не знаю!» – буркнула, даже не дослушав, девчонка. И прошла мимо. Ещё больше сердясь. Она достигла того возраста, когда даже с соседями, не то что с посторонними, не здороваются. Уже не здороваются. И не разговаривают. Она подкопила уже в себе подросткового дерьмеца предостаточно… Однако ладно, простительно это, дальше, скорей дальше.
Уже на последних ступеньках к нужной квартире таращился снизу на прыгающий номер её. Номер на дерматине вдруг вывернулся старым заклятым смыслом– 39-ый… Что за чёрт! 39-ый – год посадки Кочерги. И вот теперь номер 39 – номер квартиры его сына… В пустом дыхании старика шелестело сердце.
Когда протянул руку к звонку – рука задрожала так, что пришлось отдёрнуть. Сейчас, сейчас, закрыть глаза, приказать себе. Случайно всё, всё случайно. Не обращать внимания. Ни на какие номера. Сейчас… Длинно позвонил.
Ему открыли сразу. Точно ждали за дверью. Испуганные два лица.Женщины и мужчины. Одно пугалось ниже, другое пугалось выше. «Вам кого?»
С папкой под мышкой, улыбаясь, Кропин назвал фамилию. Со значением. Здесь ли, так сказать?..
Как-то судорожно единясь, молчком, все трое сместились в прихожую.А потом и дальше – в комнату. Мужчина был копия Кочерги. Молодой, но уже лысеющий. Как и Кочерга когда-то. Такой же черноглазый. В кулачке женщина испуганно сжимала бутылочку с большой соской. Кропин всё улыбался, уже растроганно отводил глаза: дети, внуки…
– Вы кто, кто?! – спрашивали его. Как оглохшего, как пьяного. – Из домоуправления? Из милиции?..
Глаза их засекались накропинской папке. Не вмещали её в сознание.
Кропин понял. Поспешно успокоил их. Убрал папку за спину. Он – сам по себе. Он – по поручению. Просто ему нужно увидеть Желябникова Андрея Яковлевича. Только и всего. Хе-хе. Извините.
Муж и жена перевели дух. Мужчина щёлкнул помочами, идущими от офицерских зелёных брюк – как самодовольно откашлянулся. Бутылку с соской женщина поставила на тумбочку. Сразу выяснилось, что они – квартиранты. Всего лишь квартиранты. Сам хозяин живёт не здесь. Только приезжает сюда. Раз в месяц. Чтобы взять с них деньги. 120 рублей…
– Так где же он живет?
– На даче. В Быково…
Кропин хотел попросить, чтобы написали адрес дачи, но женщина уже жаловалась:
– …И главное, ворчит всегда, всем недоволен! Суется во все углы! У нас же всё в порядке. Правда же, правда? – Личико женщины было в длинных тончайших морщинках, точно в продолжениях истончившихся её волос.Подступало к самым глазам Кропина. Точно для того, чтобы тот мог лучше морщинки разглядеть: – Ведь правда?.. Мы же не из милости тут живём, мы же платим ему. Платим целых 120 рублей… Больше половины зарплаты мужа!..
Кропин не знал, как быть. На чью стать сторону.
– Женат он? Есть семья у него?
– Вроде жена есть. (Это вступил муж.) Тоже с квартирой. Где-то в Химках-Ховрино. Тоже, наверное, сдают… Живут, в общем, на даче…
– Так он работает или нет?
– Не знаем.
Вся комната была завешана детским. Младенческим. Пелёнками, подгузниками, распашонками, ползунками. В тазу на табуретке – как кучка побитых стрижей – старые бельевые прищепки…
Обнаруживая себя, точно здороваясь со всеми, младенец заплакал. В кроватке у окна с зелёной шторой… Мужчина кинулся. Осторожно забрал его. Боясь уронить, помещал кроху в руках, будто в голых длинных ветвях. Баюкая, передал матери. Стал писать Кропину адрес дачи.
Кропин принял листок. Почему-то не решался уйти. Словно боялся оставить их здесь, бросить…
– Может, чаю?.. – Женщина опять заглядывала к самому лицу. Убаюкиваемый её худыми руками младенец был весом. Был – как бомбёнок в чепчике. – Отдохните…
Кропин опомнился, поблагодарил. Спячивался в услужливо распахиваемую дверь. Семья осталась в рамке двери. Всё кивал им, отступая. Пока не отвернулся и не стал хвататься за перила, ударяясь жёстко пятками о ступени. Хотелось почему-то плакать…
Тем не менее через полчаса задувал в Быково на такси. (Ну не было же никакого терпения ждать. Какая там электричка! Какие автобусы!)
На загородном шоссе шофёр наддал. В машине загудело будто в раковине. Точно сгоняемые к дороге войска, не успевали строиться сосны. Зарядом дроби шарахнулась от машины стайка воробьёв. Впереди замедленно, как по воздуху, передувался через дорогу с велосипедом мальчишка-велосипедист. Сдёрнулся с шоссе, исчез. Встречные машины проносились, как тугие парашютные хлопки. И, отражаясь в правом боковом стекле, летело предвечернее солнце. Катилось, скакало куском пламени, пущенным с горы…








