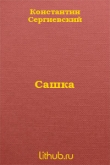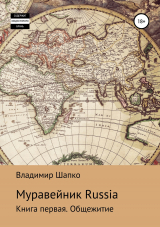
Текст книги "Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие (СИ)"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Они стали встречаться чаще. О поцелуе они вроде бы забыли. Они ходили на концерты. В Большой зал консерватории, в филармонию, в зал Института им. Гнесиных. Но, как ни странно, Новосёлову с первого же раза не понравиласьмузыка органа. Звучание его. На концерте он сидел с ощущением человека, человека живого, неожиданно попавшего к мёртвым, в среду их,в их, сказать высоким слогом, царство. В нескончаемый, замедленный какой-то, слепой и безголосый их хоровод… Да это же музыка мёртвых, – с прозрением перепуганного мальчишки определил он. Музыка для мёртвых, их музыка!.. Когда уже на улице он сказал об этом Ольге – тавздрогнула. От неожиданного, точного. Да, действительно, музыка неземная. Но не мёртвая,нет. Не для мёртвых. Нет, Саша! Но Новосёлов всё твердил перепуганно: нет, их это музыка, их!.. Спорить с ним было бесполезно. Но нередко теперь, после этих ударивших её слов, Ольга, слушая орган, вдруг ловила себя на том, что видит мертвых, отношения их между собой, Их Жизнь… Это страшно пугало её, до озноба, до жути. Скорее переводила взгляд на покачивающуюся старательную спину органиста, не подозревающего даже, какую он воспроизводит сейчас жуть…
На одном из концертов, в антракте, она познакомила Новосёлова со своим педагогом, шефом. «Какая чушь! – без всяких церемоний воскликнул узколицый высокий мужчина со встрёпанными волосами. – Кто вам об этом сказал?! Какие мёртвые?!»
Новосёлов чувствовал себя раздвоенно. Как человек, не очень-то верящий, что попал в этот странный призрачный мир. Мир музыкантов, мир музыки, где ему, в общем-то, и не место. Что вот говорит он с настоящим музыкантом, автором учебника по гармонии, профессором, говорит с ним о музыке. Но ощущая в себе своё понимание музыки, с немногословной сердитой убеждённостью говорил о нём, отстаивал его, защищал. Он держал словно перед ними свою правду, правду обездоленных, бедных против правды богатых, сытых, правду кухарки, которая… ну и так далее. «Какая чушь!» – всё продолжал восклицать профессор. Однако Ольга начала замечать, что и он стал задумываться на концертах. Слушал трубы небесные напряжённо, подавшись вперёд. Словно тоже открыл их страшный смысл, их настоящее предназначенье. В патетических местах, когда в органе трубило всё… он через весь зал смотрел на ученицу жуткими, тоже неземными глазами. С вывернутыми волосами, как вентилятор, готовый взмыть вверх!.. И Ольга пригибала голову, боясь только одного: не закричать, не зажать уши… И скорее опять смотрела на старательного органиста, не ведавшего, какую музыку он творит. Впрочем, на воздухе, на улице, все это действительно казалось бредом, чушью. Они смеялись с профессором: «Да, конечно, если взглянуть под этим углом, ха-ха-ха, выглянуть из-за этого уголка, ха-ха-ха, томожет и показаться что-то, ха-ха-ха, но это же чушь, бред воспринимать так такую музыку!» Они шутили, подтрунивали друг над дружкой. Как после пережитой вместе опасности, жути. Какой-нибудь комнаты страха, через которую их только что протащили. И расставаясь возле метро, так же подшучивали и смеялись. Но… но на следующем концерте органиста (шёл целый цикл), едва войдя в полупустой ещё зал консерватории, глянув на вмурованный… на скелетно захороненный в стену орган… словно впервые увидев его вот таким… Ольга малодушно повернулась и пошла назад к двери. Это же чёрт знает что! Это уже истерия, психоз! «Саша, ведь я не могу ходить после ваших слов на концерты!» – смеялась она при встрече, готовая плакать. «Каких слов?» – испугался Новосёлов, а когда понял, вспомнил, горячо подхватил свой бред: вот видите! вот видите! я же говорил! Точно! И, словно радостно убедившись, что не допустил её в соседнюю поганую веру, не допустил, сохранил, торопливо уже наставлял: плюньте! забудьте их! (мёртвых), не ходите туда! Лучше в филармонию! Завтра! Шуман, Бетховен, Чайковский! Оркестр! Музыка! Жизнь! Не то что возле этого шабаша мёртвых сидеть. Затаиваться. Ведь ещё утащат к себе! Шутка, конечно. Ольга и всхлипывала, и смеялась.
Нередко, когда Новосёлов бывал свободен, после утренних лекций Ольги просто гуляли. Словно чтобы дать отдохнуть душе, осмыслить услышанную за последние дни музыку. Чаще на Чистых прудах, доехав до Кировской. В такие дни мысли о работе, об общаге – у Новосёлова куда-то уходили. Он чувствовал себя ещё более приобщённым. Этаким аристократом духа.Уже запатентованным москвичом. Который не думает (не знает)ни о какой-то там прописке (постоянной), ни о каком-то там понятии «да разнесчастная ты лимита».
Сидели на середине озера на открытой площадке кафе, как на открытом пароме, с мороженым в железных чашках. Молчали. Мороженое вставляли ложечками в рот, будто замазку. Неподалёку медленно проплывала пара фламинго. С кривыми шеями кроваво-берхатного цвета – как будто две красивые, гордые выдерги из природы. Плотные уточки осторожно плавали там же.
Начинал дуть ветер. Гнал по озеру волны. Уточек перебалтывало с волны на волну. Как загнувшиеся корзинки упрямо упирались в волнах фламинго. В якорной раковине поплавка слышался любовный скрежет цепи.
Новосёлов и Ольга сходили на берег, куда-то шли.
Наползали угрожающие кулаки туч чёрно-красного цвета в свинцово-сизой, развешенной до земли кисее июльского предгрозового полдня. Из большого солнца вдруг начинал сыпаться раздетый сухой дождь. Люди с удивлением задирали головы, спотыкались. Потом бежали, пригнувшись,над головами сооружая хоть какую-нибудь защитку. Из папок, сумок, газет. А дождь сухо просверкивал, сыпал прямо из солнца… Добежав до чьего-то махратого от старости парадного, Новосёлов и Ольга смотрели из-под козырька вверх, улыбчиво открыв рты. Как смотрят всегда люди на это редкое явление природы, никак к нему не привыкнув: смотри ты! вот ведь!
Ехали к Ольге слушать музыку. Но в маленькой её комнатёнке снова начинали чувствовать себя скованно, напряжённо. Мать Ольги почему-то всегда была на работе. Соседи крадучись ходили по коридору. Включали и тут же выключали свои лампочки. Жмотистые лампочки москвичей. Включат – и тут же выключат. Одна, отчаянная, распахивала дверь: «Николетта дома?»(Николетта – мать Ольги.) Выпуклыми голыми глазами разглядывала Новосёлова. В обширных пёстрых одеждах, как балаган. Николетты дома не было. Ладно. С грохотом дверь захлопывалась. По окончании пластинки,усугубляя скованность эту свою, начинали ещё и целоваться. Новосёлов припадал к лицу Ольги как медведь к стволу. К стволу с берёзовым соком,длинно распустив по нему губу. «Николетта дома?.. Фу, чёрт! Спрашивала уже!» Дверь захлопывалась. Закрыть её, закрыться – было невозможно. Духу не хватало ни ему, ни ей.
Ставили другую пластинку. Глядя на неё, ждали. Когда она кончится.Новосёлов снова припадал, отвесив губу. Удерживал Ольгу в большой охват.Почти не касаясь. Словно воздух. Не чувствуя опоры, Ольга стремилась опереться о его руки, но он умудрялся ещё больше круглить их, по-прежнему удерживая её как малое воздушное пространство… Невеста вежливо высвобождалась из необременительных объятий, поправляла юбку и волосы, с улыбкой наклоняя голову. Выискивали какие-нибудь слова, избегали смотреть друг на дружку. И ведь не целуясь, ощущали себя в этой комнатке проще, естественней: разговаривали хотя бы, слушали музыку, обсуждали её,спорили. Но проходило какое-то время… и словно верёвкой кто стягивал их…«Николетта дома?» Новосёлов разом отодвигался от Ольги. «Можно позвонить?» Пестрые одежды съезжали над журнальным столиком крышами небольшого поселка. Если наклонить его набок. У самого лица Новосёлова, как ледник, заголялись полные ноги. Кривой пальчик наклёвывал номер в диске телефона. «Занято! Извините!» Дверь грохала. Новосёлов поднимался. И только на улице начинал дико хохотать: «Николетта дома?» Ольга гнулась от смеха возле него. Шла с ним, традиционно замкнув его руку своими ручками.
И так бывало не раз.
Потом, осмелев, он мог просто сидеть и просто держать её в руках. В пальцах. Как писаную торбу. Блаженно глядя поверх неё, светясь куда-то вдаль. И ему этого было достаточно… В закрытую дверь стучали. «Николетта дома?» Пусть стучит, беспечно говорил теперь он. И всё держал её в пальцах.
Она спросила у него однажды, была ли в его жизни женщина. Ну, настоящая. А ты? – удивился он. Ну, по-настоящему чтоб, понимаешь? В нерешительности, медленно он убрал руки. Точно они не туда попали. Сказал,что не было. Вернее, была. Но… как бы и не было. Пенял уже себе, что вырвалось, что проговорился. А она, потупясь, улыбалась, хитренькая, ловко выведавшая всё у простака… Мгновенно он увидел-вспомнил всё: и торопливо одевающуюся женщину возле широкой тахты, и себя, лежащего на этой тахте… Толстая подбрюшная складка женщины колыхалась будто пояс с золотом у китайца-старателя. В полных ногах елозящий пах был изломанно сомкнут. Как прозекторский шов. Как беззубый рот старухи!.. Новосёлов зажмурился, затряс головой, чтобы не видеть, чтобы вытряхнуть наваждение…
Во дворе торопливо прощался. Вечерние окна ждали, как палачи. Ничего не объясняя, стремился скорее уйти. Безработный бездомный пёс робко его облаял. Пошёл было за ним, выделывая подбитой лапой как костылем. Но под закатом, в темноте проулка отстал. Вернулся назад, к арке – в безнадежности подавал голос, взывая к другим прохожим. Ему кинули что-то, и он замолчал.
Как бы то ни было, пришло время познакомиться с матерью Ольги,Николеттой Анатольевной Менабени, итальянкой по национальности, прародины своей, Италии, никогда не видевшей.
Придя с работы, она стояла рядом с дочерью, которая, показывая на нее, говорила приличествующие моменту слова. А Новосёлов видел только увядшее лицо безмужней женщины сорока пяти лет с неумело подчернёнными глазами, будто старыми брошами, давно и безнадёжно выставленными на продажу… Блестящую её, как крокодильчик, руку он пожал осторожно, стараясь не помять. А Ольга всё смотрела с улыбкой на мать. Смотрела как на дочь свою. Как на не очень удачное свое произведение.
Пили чай в другой комнате, так называемой гостиной, ещё более тесной, заставленной старой мебелью, за столом, накрытым вязаной, с кистями, скатертью до пола. Николетта Анатольевна осторожно выискивала слова подчернёнными своими глазами на Старинной этой скатерти. Возле заварного чайника на ней же, возле плетенки с печеньем и вафлями. Новосёлов обстоятельно отвечал, кто он, что он, зачем он тут. Музыка. Ужасно люблю. А у Ольги, сами знаете. Так что уж. Дочь поглядывала на них, улыбку пряча в чашке с чаем.
В комнате Ольги слушали струнный квартет Бородина. Все трое. Николетта Анатольевна полулежала в кресле, закрыв глаза. От начернённых дрожащих ресниц чёрным шнурком упала по щеке слеза. Потом – ещё одна, уже по другой щеке. Подсев, дочь осторожно, ваткой, снимала их, снимала тушь. «Всегда, знаете ли, плачу, слушая этот квартет», – промаргивалась Николетта Анатольевна, беря у дочери ватку. С неряшливо опустошёнными ресницами глаза её стали мелкими, больными. Она поднялась, чтобы уйти к себе. Первая скрипка тихо вернулась с пронзительной своей мелодией. «Всегда, знаете ли… в этом месте… Простите…»
Ольга покачивалась, обвив руками руку Новосёлова. Отворачивала лицо с полными слёз глазами. Что такое? Отчего? Ухо Новосёлова холодно опахнули слова по складам: «Она-очень-хоро-шая…» Ну? Ну? Хорошая. Кто спорит? Но зачем же плакать? Ольга уводила голову, всё покачивалась, глотала слёзы…
Дня два спустя Ольга и Новосёлов стояли возле арки её дома уже с намереньем разойтись, а всё никак не могли проститься. Внезапно увидели Николетту Анатольевну. Какой-то смущающейся, близорукой походкой старой б… она шла к ним по тротуару вдоль домов… Она словно взяла себе эту походку. На час, на два. С чужого плеча, с чужой ноги. Как наказание, как крест. Освободиться от неё можно было теперь только дома. Снять, содрать с себя как тесную обувь. Как невозможные туфли… Вот, на свидании была,смеялась она. А Саша уже уходит? – играла она глазами в начернённых ресницах, как будто в чёрных, бархатистой свежести, оправах. Под которыми,почему-то чудилось, увидишь невозможное, жуткое… Красноголовых лысых старух, у которых вдруг сдёрнули парики…
Новосёлов, уводя глаза, опять подержал в своих руках её блестящую, как крокодильчик, ручку…
Нередко теперь, когда он приходил, сразу появлялась в комнате Ольги и Николетта. И вроде на минутку, ища что-то своё. Но проходило и пять минут, и десять, а она всё металась в ханском каком-то халате, без умолку говорила, ища это что-то своё.
Непонятно было Новосёлову, будет она слушать музыку или нет. Нет,нет, что вы! Тороплюсь! Свидание! – говорила она, смеясь. Смех свой родня со смехом дочери. Когда та смеялась. С её молодостью, беззаботностью. Она с отчаянием, как пропадая, смотрела на дочь уже начернёнными глазами-брошами, пока руки метались, искали это чёртово что-то её. Ты не видела?не видела? Ольга?.. Точно споткнувшись, умолкала разом, не зная, куда деть глаза. Густо, до слёз начинала краснеть. Но в каком-то ступоре, в мучительном раздвоении по-прежнему не уходила. Не в силах была уйти.
Стояли как на репетиции актёры. В развалившейся мизансцене. Словно ждали режиссёра. Чтобы помог, чтобы сказал, что делать дальше, как играть.
Дверь распахивала женщина. Которая – как балаган. «Николетта дома?»«Дома! Дома!» – кричали ей все трое. Женщина-балаган, приобняв,вела Николетту к себе пить чай с тортом. Золотые толстые кольца на приобнявшей руке были как купцы. Приостановившись возле двери, предлагала и Молодым. Ну чайку попить. Те поспешно отказывались. Ну да, понятно. Музыка. Ладно. Николетта бормотала: «На свидание, на свидание надо! Зоя!Опаздываю!» «Да ладно тебе! – подмигивала женщина молодым, всё похлопывая спину Николетты рукой в кольцах. – Успеешь!» Дверь с маху кидалась ею в косяки.
Странная всё же эта Николетта, туповато думалось Новосёлову. И Ольга опять плакала, покачивалась. С музыкой была словно только рядом. И снова ему в ухо прошептали: хо-ро-шая. Она – хорошая. И это тоже было странным. Кто же спорит… Не улавливалось что-то глубинное во всём этом,не совсем объяснимое словами. Не дающееся для слов…
Как-то он ждал Ольгу, которая должна была вот-вот прийти, в комнате Николетты. Сама Николетта Анатольевна побежала на кухню, чтобы поскорее согреть чайник. На столе, на скатерти с кистями остался раскрытый альбом с фотографиями, похожий на ворох осенних пожелтевших листьев. Его ворошили только что, искали в нём, словно хотели из листьев этих собрать всю ушедшую свою жизнь… Николетта вернулась с чайником. Какое-то время тоже смотрела. Закрыла альбом, затиснув в него все фотографии. Заталкивала на стеллаж, высоко на книги. «Никогда не копите фотографий, Саша». Новосёлов спросил, почему. «Не надо. Поверьте…» В обвисших крыльях халата обнажившиеся ручки её были куцы, беззащитны, уже мяли друг дружку. Новоселов увидел, что она сейчас заплачет. Она спохватилась, заулыбалась, забормотала, как она умела, уже совсем о другом…
В тот вечер уносил Новосёлов с собой странное тоскующее ощущение, что попал он в какую-то долговую вечную яму, в яму неудачников, должников, из которой нет ему выхода, должен он будет – вечно…
И опять шёл он под закатом в катакомбах Палашевского переулка,словно ища, находя и тут же теряя недающийся, ускользающий свет, и опять тащился за ним безработный пёс, выделывая подбитой лапой как костылем.
Обо всём этом не раз вспоминалось Новосёлову в дальнейшем, вечерами, когда бывал дома один. Когда подолгу смотрел на августовские махровые закаты, как на далёкие свои, ушедшие, несуществующие красные деревни… Казалось ему, что сегодня они не уйдут так быстро с земли, не опустятся за горизонт… Но проходило время, и сваливалось всё, и только долго ещё томился в изломанном длинном шве розово-пепловый свет…
Гремел кастрюльками на кухоньке, готовил что-нибудь себе на ужин.
46. Однажды деликатно постучали
В каких-то старорежимных пыльниках почти до пят и длинноклювых драповых кепках перед Новосёловым стояли двое улыбающихся мальчишек лет четырнадцати с обшарпанным большим чемоданом у ног. Абсолютно одинаковые. Близнецы.
Поздоровавшись в один голос, они сразу же заявили, что знают,что Михаил ЯковлевичАбрамишин здесь уже не живёт, но что здесь можно узнать его новый адрес. Внизу им сказали. Вахтёр.
– Та-ак… Заходите…
Пока он искал бумажку с адресом, они сидели рядом друг с другом в застёгнутых до горла пыльниках своих. Вспотевшие рыжие волосы их были закинуты назад по моде сороковых-пятидесятых годов. Оглядывая комнату,поматывали в руках кепки. Чемодан стоял рядом.
Бумажка не находилась. Бумажки нигде не было. Перерыл всё. В тумбочке, в столе. Тряс книги. Нету! Пошёл за Серовым: может тот вспомнит.Но Серов в комнате Новосёлова сразу забыл, для чего его позвали – оседлывая стул, во все глаза смотрел на смущающихся близнецов: так кто же вы такие будете? сыновья Абрамишина?
Выяснилось – братья.Михаилу Яковлевичу. Притом, не троюродные какие-нибудь, а – родные!.. Так сколько же вам лет? Четырнадцать.
– Та-ак… – протянул Серов в точности как Новосёлов. Повернулся к нему: а? Саша? Но Новосёлов всё озабоченно искал бумажку с телефоном, и до него не доходило, что Абрамишину уже давно за сорок, а братьям вот его родным – всего лишь по четырнадцать лет.
Так что же делать? Оставленный Абрамишиным номер телефона затерялся. Ничего нет проще, – Горсправка, тут же дал совет Серов. Он же прописан. Верно, Абрамишин прописан в Москве. Верно. Но – Как! Неужели Серов забыл. Серов понял слова Новосёлова, однако сказал, что уж Там-то знают наверняка, где его искать. Разве не так? Резонно.
Решили: братьям ночевать здесь – вон, на полу, возле окна. Серов пошёл за второй подушкой, у Новосёлова одна лишняя была. Были и простыни,матрас, одеяла. Полный порядок!
Поужинав с хозяином, братья устроились на полу, на чистом прохладном ложе, натянули до подбородков одеяла. Долго переговаривались с «дядей Сашей», расспрашивали его о брате своем, дорогом Мише, которого они, судя по вопросам, почти не знали. Потом сами рассказывали о доме, о родителях, одному из которых, отцу, исполнилось семьдесят пять! «Две недели назад! Юбилей был! Две недели только! Народу – полный дом! Миша ничего не прислал! Видимо, забыл!» Упомянули и родственников, которые все живут с ними в одном доме. «Двухэтажный дом! Двухэтажный!» Говорили о городе Орске… о том ещё, что они болели, оба болели, корью, одновременно– понимаете? – и их перевели в восьмой класс без экзаменов, потому что оба они отличники… И уснули одновременно, умиротворённые вполне.
Пришедший ночью Марка Тюков пролез мимо сдвинутого стола с горящей настольной лампой и Новосёловым, нисколько не удивившись, что стол сдвинут. Сел в свою кровать подобно божку, сложив в паху ручки, собираясь, как обычно перед сном, журчаще-тупо посидеть.
Увидел. Рыжие две головы на подушках. С рыжим румянцем на щеках. Прошептал: «Ух ты-ы, как два ордена Ленина лежат. Две девки. Обе рыжие-е…» Новосёлов сказал ему, что это не девки и не ордена…
– А кто?..
Утром в вестибюле Кропин подал им пачку писем. «О, папины!– воскликнули братья. – Мише!» Радостно рассматривали, перебирали конверты.Разделив поровну, аккуратно вложили под пыльники во внутренние карманы пиджаков. Новосёлов и Кропин молча смотрели друг на друга. Братья снова застегнули пуговицы на пыльниках. Как всегда – до горла. Всё! Они готовы!Пошли за Новосёловым.
Новосёлову довольно быстро выдали адрес Абрамишина в Горсправке. Прописан был Абрамишин в Измайлово. Улица, номер дома, как ехать – всё было. Новосёлов проводил близнецов до метро, ещё раз подробно объяснил, как им добираться… Спросил о деньгах…
– Есть, есть! – заверили его братья.
За целый день, в работе как-то особо и не вспоминал о мальчишках,уверенный, что всё будет хорошо. И тем несказаннее удивило его вечером,что они ничего не добились, ничего не узнали. Они сидели опять перед Новосёловым на стульях, с щеками в чёрных веснушках, как перепелиные яйца.Мяли в руках кепки.
– …Нам сказали, что мы его детии чтобы мы мотали оттуда…
– Кто, кто сказал? Какие дети?
– Тётя. Пожилая. У неё ещё парик съехал. На глаза. Когда она кричала… На площадке… Что мы его дети… и чтобы мы мотали…
Новосёлов мрачно думал: при чём здесь дети? какие дети?
– Так он живёт, что ли, там?
– Не знаем…
Близнецы готовы были заплакать. Новосёлов как мог стал успокаивать. Потом сказал, что завтра сам с ними поедет. Поменяется сменами с напарником и поедет. Поговорит с этой… тётей. Накормил их.
Они лежали опять на полу, закинув руки за головы, смотрели в потолок. Так и уснули, с головами в руках, крепко зажмурившись, будто их усыпили насильно…
У чужой двери перед встречей с незнакомыми людьми Новосёлов резко выдохнул, точно должен был выпить стопку спирта. Позвонил. Не открывали. Дверь походила на пухлый матрац с розанами. Позвонил ещё раз. Резче. Кепки близнецов высовывались с площадки на пол-этажа ниже.
Открыла девица лет двадцати. С вздыбленным от беременности халатом. Разглядывая Новосёлова, жевала жвачку.
Новосёлов как мог спокойней объяснил суть дела. Для чего он приехал сюда. Вон, с ними. Кепки разом исчезли.
– Он здесь не живет!
– А где? Скажите адрес.
– У него спрашивайте!
– Но он же у вас прописан… Вот же, в Горсправке дали ваш адрес…
– Ну и что?.. – Девица жевала. Новосёлов смотрел на её крысиный раздёр в белесых волосах…
За спиной девицы в коридоре послышался шум – там что-то роняли – и на площадку вылетела дамочка лет пятидесяти: парик её походил на жёсткокудрого барана.
– А-а, явились! Опя-ать! Теперь уже втроё-ом! – Каблуки близнецов застучали вниз по лестнице.
И повалилось изо рта этой тётки чёрт знает что про инженера Абрамишина. Просто невероятное! И он-де – негодяй, изменщик, бросил её дочь,беременную! Жрал, пил здесь и ни копейки не платил! А пьянки его! Побои бедной девочки! (От поцелуя «девочка» мотнулась как тряпичная.) Измены!Постоянно путался с бля… А когда девочка забеременела, смылся совсем! А теперь вот приезжают два его выбл… из какого-то Орска (а сколько у него их по всей стране, сколько!) и требуют, чтобы мы сказали его адрес! Мы! Сказали! После всего, что он сотворил с моей девочкой! Беляночкаты моя, дай я тебя приголублю! (Голова дочери была кинута на страждущую материнскую грудь и мгновенно орошена, что называется, жгучими слезами.) И вот теперь у нас! Требуют! У на-ас!..
Новосёлов пытался урезонивать её, доказывал, что не сыновья мальчишки ему, не сыновья – братья, младшие братья! Нет – его не слушали. Тётка кричала, прибавляя и прибавляя голоса. Выкрикивала вверх, не сводя глаз с Новосёлова. Выкрикивала с намереньем, с подтекстом. Чтоб слышал весь подъезд. Мол, караул, убива-ают!
С механистичностью коровы дочь спокойно жевала свою жвачку. Точно просто проверяла заранее заготовленный список всех выкриков матери. По пунктам. Всё ли прокрикивается, обо всём ли орется.
Как только начали хлопать двери и высовываться люди – тётка резко усилила крик, по-прежнему зорко наблюдая за Новосёловым…
– Но позвольте, мамаша! – пытался останавливать её Новосёлов. – Позвольте!
– Я тебе не мамаша! Я тебе не мамаша! – Новосёлов видел большое дергающееся наступающее лицо, с морщинами, как вилы… – Кто ты такой!Сейчас милицию вызову! Ишь, дружок нашёлся! Я тебя упеку вместе с ним!Я…
Точно зло отцепливаясь от неё, Новосёлов резко отступил назад. Глянул понизу, по её ногам. Повернулся, стал спускаться.
– Так и передай своему проходимцу, так и передай! Он ответит за всё,ответит!..
Внизу во дворе стоял, пытался что-то понять. Всё это было более чем странным. Смутная ворочалась мысль, что он и братья только что были втянуты в какой-то бесчеловечный спектакль. Названия которому пока нет. Но который вовсю готовится. Уже срежиссирован. И нет только главного героя (инженера Абрамишина).Совсем удручённые, братья стояли рядом. В окне на четвёртомэтаже подпрыгивали мать и дочь. Лица их растягивались по стеклу как мензуры.
Новосёлов повёл близнецов со двора.
Поехали в Управление. В отдел кадров. Должен же Чердынцев знать,куда уходят от него люди!
В приёмной сидели, ждали. Чердынцев был, конечно, занят. Машинистка Галя щёлкала. Сказала, что заперся с Феклистовой. С кураторшей.Опять, наверное, фотографируют…
Поразительно было Новосёлову: Феклистова, баба,и такие дела – КГБ, отслеживание документов, проверка их на подлинность, фотографирование и многое другое, о чём чердынцевская дверь, раскрашенная как сейф, конечно, ничегоне скажет.
Невольно Новосёлов вспомнил, как пришёл сюда в первый раз семь лет назад. Тогда рыхлый пожилой кадровик (Чердынцев) в засаленном сталине, преданный и приданный ему, недовольно сопел, разглядывая его трудовую книжку… «Новосёлов… Хм… Ново…сёлов… Новосёл… Приехал Новосёл…» Обритая желтая голова Чердынцева напоминала большое дряблое яблоко, чудом перезимовавшее и несъеденное… «А?»
«А ваша как? Ваша как фамилия?» – неожиданно зло спросил посетитель. Витой жёлтый чуб его торчал вперед настырной мочалкой, из тех, что южане толкают на базаре. – Давайте – вашу фамилию разберём! По косточкам!..»
«А ты зубастый, однако…» Глаза цвета пережжённого йода с удивлением смотрели поверх очков… «Ладно, посмотрим: по зубам ли щуке ёрш…»Чердынцев, начал перелистывать книжку. И опять воззрился на Новосёлова. Теперь уже нарочито удивлённый: «За пять лет – и всего два места?.. Не ожида-ал… И благодарность даже есть. Однако тыгеро-ой…» Йодные глаза с ехидствующим спокойствием наладились разглядывать посетителя как старухи: в Москву, значит, захотелось, милай?..
Как и тогда, словно почувствовав петлю, Новосёлов с резким поворотом головы дёрнул узел галстука… – «Так берете или нет?..»
Про себя ли сейчас спросил? Или вслух?.. Успокаивающе тронулвскочивших близнецов. Испуганных, удивленных. Ничего, ничего, всё нормально, сейчас…
В замке проскрежетал ключ. Чердынцев воровато выглянул. Исчез.Выпустил Феклистову. Важная Феклистова кивнула Новосёлову. Поправила тесёмки на папке. Пошла. На тонких недоразвитых ногах, с взнесённой грудью – как боевая булава с двумя острейшими шипами. Два года назад, получив рекомендации автоколонны, она серьезно попыталась НовосёловаВербануть.Однако в конце разговора только вздрагивала,пугалась. Потому что вербуемый очень громко и как-то страдающе начал смеяться. Будто шизофреник какой. Не ориентирующийся ни во времени,ни пространстве…
Чердынцев выглянул опять. По-прежнему бдительный. Так выглядывает, наверное, хранитель швейцарского банка. Мотнул головой себе за спину. По-быстрому!..
И Новосёлов вышел от «по-быстрому», через минуту. Ничего, конечно, не добившись. Чёртов железобетон в сталине!«Не знаю. Не обязан знать!»
В отделе, где раньше работал Абрамишин, их окружили человек десять мужчин и женщин в белых халатах. Оторвавшись от своих кульманов, мужчины глубокомысленно, профессорски вспоминали. Женщины нещадно спорили, перебивая друг дружку. Никто ничего толком не вспомнил.
Новосёлову шепнул начальник. Глазами показывая на одну из сотрудниц. В дальнем углу отдела.
Навстречу Новосёлову и близнецам из-за стола испуганно поднималась очень некрасивая девушка лет двадцати пяти. В который уж раз всё объясняя, Новосёлов не мог смотреть на её точно выглоданные щёки. На её часто сглатывающее, будто вставленное, обнажённое мужское горло. Девушка нервно теребила карандаш. Не сводила глаз с близнецов, когда торопливо всё объясняла.
– …Вы там, там его найдёте! Непременно! Поезжайте туда скорей! Поезжайте!..
Новосёлов крепко сжал, тряхнул её руки. С новой надеждой, окрылённые, помчались в центр.
На Арбате в старом домена втором этаже долго звонили, стучали в замазавшуюся пылью, точно нежилую дверь. Им открыл худой, бледный, словно без крови уже, старик. В нижней рубашке, в кальсонах.
– Не живёт… Давно съехал… Куда – не знаю… – В паху у старика будто жёлтая дыня висела…
Старик закрыл дверь. Новосёлов снова застучал. Дверь открылась.
– Может быть, соседи?..
– Я живу один… Извините…
Медленно, словно крышкой, старик прикрыл себя дверью.
НочьюНовосёловуснился дикий бесконечный сон. Всё происходило где-то то ли в Измайлово, то ли в Бирюлёво. Речь шла, по-видимому, об обмене квартир. Обменщики – пожилая жадная парочка. Он – лысенький, с потным венчиком кудряшек, она – с личиком как пирожок. Куда-то всё время убегали они и снова забегали. Доказывали братьям-близнецам: «Мы же Кунцево, Кунцево вам отдаём! А у вас – Орск какой-то! На три метра у нас больше! Японский унитаз! Ещё один метр, ещё! Кунцево! Унитаз!»… Братья мотают головами, мучаются, но стоят на своем: не дади-им! (Деньги, доплату, догадывается Новосёлов.) Тогда лысенький хватает свою жёнкуи делает вид, что будет с ней сейчасИграть. Прямо на глазах у братьев. Сдёргивает с неё халат, сладострастно лапает и всё время поворачивает головёнку к братьям: А-а? А-а? Старушонкас болтающимися пустыми грудками смеётся как от щекотки: хи-хи-хи, что ты делаешь, милый, хи-хи-хи, здесь же люди, хи-хи-хи, молодые люди, хи-хи-хи! Братья катают головы по спинке дивана: не-ет! Не дади-им! Тогда лысенький кидает старушонку прямо братьям на колени. А?! Что теперь скажете?! Старушонка радостно охватывает братьев, сучит очулоченной ножкой. Ещё фальшивей хихикает: что вы делаете со мной, хи-хи-хи, здесь же муж, здесь же мой муж, хи-хи-хи! Глаза мальчишек сейчас выскочат из орбит. Братья задубели с разинутыми ртами, не живые… Новосёлов кричит: «Отдайте им! отдайте!» Подскакивает к парочке: «Сколько вы хотите, гады?! Сколько?!» – «Две!» – выкрикивают в один голос. «Вернее, – две и полторы. За унитаз!»
Новосёлов кинулся к шифоньеру. Поспешно рылся в нём, искал. Почти голая старушонка тряско бегала по комнате. В пояске с болтающимися резинками. Как клячка в сбруйке.