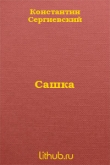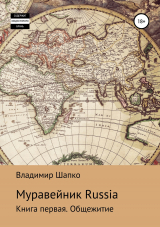
Текст книги "Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие (СИ)"
Автор книги: Владимир Шапко
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
Новосёлов хмурился. Стоял как-то нелепо, застенчиво. В позе заварного чайника. Сунув руку в высокий, тесный карман пиджака. Где ощупывал шариковую ручку.
– Что же мне – к Хромову идти?..
Нырова опять начала было объяснять за него как за придурка– Новосёлов взмахнул рукой. Довольно! Водил злым взглядом по полу. Отсекая Нырову, задал вопрос Силкиной. Прямо, в лоб:
– Почему вы, Вера Федоровна, окружаете себя шутами, клоунами?..Я пришёл к вам по простому делу, а вы… с удовольствием устраиваете тут спектакль… Надо же уважать себя хотя бы… Извините.
– Ах, какие мы нежные! Не понимаем шуток! – Силкина посмеивалась.Силкинаторопливенько гордилась собой. Торопилась нагордиться собой.Пока этот мерзавец здесь. Да, торопилась успеть: – Ай-ай-ай! Зачем же Хромов? Извольте, хорошо, пожалуйста, будет вам и белка, будет и свисток!Разве можем мы препятствовать, разве можем мыЗапрещать такое проявление благородства? Такую честность? Не так ли, Степанида Васильевна?..
Нырова не ответила. Нырова всё собирала бумаги на столе. Нырова всё ухмылялась. Цыганский подлый свой товар выхватывать не торопилась.Придерживала пока. Хватит на сегодня вахлаку – умыла…
Шёл к двери так же нелепо – по-прежнему с высоко закруглённой, как будто впаянной в карман рукой. Как всё тот же чайник. В коридоре выкинул смятую ручку. Не знал, чем вытереть пасту с ладони. Один со сшибленным каблуком из кабинета Силкиной шарахнется, другой – идёт по коридору,уносит руку, как растопыренного рака. Пошевеливая им, стряхивая. Выглянул Ошмёток. Трезвый. Тут же исчез. Новосёлов натолкнулся на урну. Жёстко оттирал пасту скомканной газетой.
Вечером Новосёлов позвал Серова к себе. Для небольшого разговора.Восстав из-за стола,Серов быстро глянулна жену. Очередная кляуза твоя?Провокация? Но пошёл. За Новосёловым.
На пустой кровати Абрамишина сидел со стопкой белья на руках… новый жилец. Новый сосед Новосёлова. Некто, как выяснилось, Тюков. Марка. Парень лет двадцати двух, похожий на вынутого из мешка кота. Эдакого котика, лунного обитателя, со спутанной чёлкой, с глазами как воды. «А я вас знаю!» – сказал он Серову. И прыснул. Ну! Что такое! «Вы из колонны… Из четвёртой!» И опять прыснул. Прямо-таки давился смехом. Ну и что дальше?– экспертом смотрел Серов. «А я тоже… оттуда-а-а! – И как забурлил: – Слесарю-ю!»
Серов не находил слов. Точно за спасением, сунулся к окну. Луны плыла – как подхваченный на базаре пьяный Ваня: с улыбкой до ушей. Повернулся к Новосёлову. Тот тоже улыбался. Улыбался на кровати и Тюков…«Это же надо таким дураком быть…» – сказал Серов, уходя. И непонятно было – кто дурак, про кого он так сказал?
Через неделю к Тюкову приехала мать из Рязани. Казавшаяся чуть только старше его. Худенькая, пряменькая, ручки сложив на коленях, она сидела на табуретке возле сына. Как сидят при посещении больного. Где положено быть ей (находиться) на минимальном пространстве. Среди остальных коек с больными. Соответственно вёл себя и «больной» – точно оголодав, отощав вконец (на казенных-то харчах!), орудовал в стеклянной банке ложкой. Сидя на кровати. Гречневую кашу наворачивал.Посетительница доставала всё из сумки, стоящей у её ног. Передала ему два пирожка. Большое зелёное яблоко. Снова нагнулась. Вынула, развернула плоский сверток. «На вот. Привезла. Твой любимый. Казинак…» Марка сразу начал откусывать, уминать любимый «казинак». Водные глаза его были прозрачны, необременительны ему. Слова, которые надо было говорить матери, как бы зажёвывались сами собой.
К Новосёлову приходили люди. «Его Маркой, Маркой зовут, – сразу говорила им женщина, показывая на сына. – А я – Манька. Маня Тюкова.Родная мать его. Маня…» Люди соглашались с ней, кивали. Признавали и еёсаму, и её сына – Марку. Тихо побубнивНовосёлову, уходили.
Маня робко оглядывала комнату. «Тетя Таля в Ступино ездила». Сын сосредоточенно жевал. Манин взгляд нашёл в углу на стене календарь, на котором олимпийский мишка. «Дядя Кузя борова резал. Подкинул ей». Марка,жуя, пятернёй ласково сдвинул чёлку на бок. Приоткрыв чуток белого лба.Маня всё смотрела. Мишка на календаре улыбался. Вислопузый и омедаленный как купец… «А у Собуровых петуха укокошили. Туристы-гитаристы.Камнем. На забор взлетел, хотел закричать. Они его и заглушили. Тётя Таля рассказывала». Сын не отвечал, сын глодалказинак. Маня всё оглядывалась. И словно только чтобы не забыться, словно сами для себя, осторожно перелетали по комнате её тихие слова. Никому не мешали, даже ей самой.
Потом пришёл Серов. Принёс неизвестно где добытого леща. Копчёного. Без пива, правда. Начали ломать, чистить, вкушать. Мотали головами от восхищения. Предложили отведать матери и сыну. «Не-е, он не бу-удет», –сразу ответила Маня, себя даже не имея в виду. Смотрела с мужчинами на сына. Как всё на того же кота. Или пса. Чьё поведение, инстинкт – обусловлены навек. С которыми не поспоришь. Не-е, он не станет. Чего уж. Порода.Сам Марка только сопел. Глаза его умудрялись ни на кого не глядеть. Только переливали лунные свои воды.
Леща съели. Выпили воды. Посидели, поглядывая на мать и сына. Серов ушёл, собрав шкурки, кости в газету. Словно приходил только за тем,чтобы стронуть с места этот не движущийся никуда сюжет. Но ничего не добился, всё так и осталось увязать в статике. К окну уже прильнула чернота, ночь, женщина с беспокойством поглядывала на неё, давно молчала, а Марка-сын сидел как ни в чём не бывало. Новосёлову стало не очень хорошо, тесно в комнате. Осторожно спросил у женщины, есть ли где ей остановиться. В смысле – переночевать. «Да я на вокзале, не беспокойтесь!» Ага – она на вокзале, икнув, подтвердил сын. Да как же на вокзале! Сын здесь, на кровати, а вы – на вокзале! Ништяк, она – всегда, она знает. Новосёлов не верил глазам своим, с улыбкой глядя на сыночка. Ну, брат, ты и свинья-а. Марка нехотя поднялся. «Да ладно уж – провожу». Мать вскочила, засуетилась. Кидала всё в сумку, подвязывала тёплый платок. Уже и пальтецо, как белка, прыгнуло к ней в руки… когда Новосёлов остановил её. Присел, выхватил из чемодана чистые две простыни, кинул на стул. Быстро стал собираться: одежду – на руку, на голову – шапку, с ног скинул тапочки, ноги – в ботинки. Как глухонемому показал Марке ключом, чтобы тот закрылся изнутри и, схватив будильник со стола, исчез. Маня перепуганной птичкой, ударяющейся о стекло, стрекоталаручками. Точно не могла вылететь за ним. И почёсывал голову, обдумывал заботу Марка.
…Во дворе у Кольки осторожно ходили вдоль ограды меж высоких ржавых крапивин. Осторожно приседали под них, тянулись и переворачивали холодно-сырые разлагающиеся кирпичи. Из-под кирпичей вырывались тучи красных солдатиков. Ух ты-ы! Солдатики разбегались, всверливались в траву, исчезали. Отвернёшь кирпич – и пошли, пошли наяривать по бурьяну!.. Одна крапивина ошпарила-таки Кольку! – Засуетился дурачок, задёргался. Отбиваться стал. Разве отобьёшься? «Слюнями помажь!» – посоветовал Сашка. Слюнями Колька помазал. На локте,потом на ноге. Однако всё равно вздулись красные полосы… Колька растерянно думал: запеть или нет?
Из бурьяна торчали давно брошенные оглобли с вросшим в землю, полусгнившим передком телеги без колёс; сами колёса были рассыпаны – валялись повсюду ступицы, похожие на кости давно павших воинов…
Со стыда ли или чтобы всёже не заплакать, Колька начал дёргать оглоблю. «Не трогай! – бросился Сашка. – Это дедушки Сани! От него осталось!»Колька ворчал: «Осталось… А Мылов говорит, что дедушка Саня кулаком был. Говорит: я зна-аю. Как пьяный – так говорит…» – «Врёт, поди…Красный партизан…» – неуверенно сказал Сашка. Ребятишки постояли, пытаясь вспомнить дедушку Саню.
Успокоившись, Колька достал из майки солнцезащитные очки. Большие, взрослые. Вставил в них головёнку. Стал как большеглазый стрекозёнок. Очки Колька нашёл ещё в прошлом году. В городском парке. Кто-то, наверное, потерял. Увидев их, он бросился, схватил вперёд Сашки. Хоть и исцарапанные были очки, какие-то затёртые – берёг их. «Густо видно», – говорил, смотря через них. Давал и Сашке поглядеть…
Колька поворачивался с очками и смотрел за огород, вдаль, где у самой земли ходили облака. Затем ближе, на забор. Забор походил на разбросанные папкины гармони.
Посмотрев через очки, Колька клал их обратно, за пазуху.
На улице Сашка и Колька увиделигромыхающего по шоссейкеМылова. Легок на помине! Ребятишки хотели было… Мылов выказал им кнут.«Трезвый, гад…»
По утрам, матерясь, Мылов злобно дёргал за подпругу лошадь во дворе Продуктового на площади. Задираясь стиснутыми зубами к небу, точно поднимал её, перетаскивал с места на место по дворику. Как большое коричневое свое похмелье, злобу. Таращился жутким глазом на дверь полуподвала, ожидая оттуда«зов»… Снова начинал таскать!..
Выходила директорша в белом халате. С засунутыми в карманы руками. Молчком кивала на раскрытую дверь: иди!
Высвеченные сверху, как центр мироздания, в подсобке на столе стояли сто пятьдесят в стакане. Мылов молитвенно подходил к ним. Но с показным отвращением… начинал пить. Всё тот же жуткий глаз его готов был соскользнуть в стакан! Точно в белок желток! Но Мылов уже затирался рукавом, деликатно ставил стакан на стол. «Спасибочки!»
Уже через минуту колотился с телегой по шоссейке. Глаза его играли кинжалами. «Н-но! Шалава!» – поддавал и поддавал кнутом. И колотился. За вохровским картузом с осатанелым кантом завивался дым. «Н-но-о-о!»
Сашка и Колька сразу прилеплялись. Втихаря бежали, держась за задок телеги, не решаясь запрыгнуть. Спиной, что ли, видел Мылов– злобно стегал кнутом, как змей выдернувшись к задку телеги. Доставалось Сашке. «Трезвый ещё, гад…» – баюкал руку, продолжая бежать, бить пыль босыми ногами Сашка. «Ничего-о! – замедлял ход, утешал его Колька. – Чёрная ему сегодня да-аст. Будет тогда знать. Как стегаться…»
Ближе к обеду к Сашкиному дому сама сворачивала лошадь и тянула телегу во двор. На телеге,запрокинувшись, подбрасывался Мылов с розовой,вымоложенной от водки головой, за которой тучкой вились мухи.
Шла лошадь не к сараям, где была коновязь, а останавливалась на середине двора. Чтобы все видели. Обиженно ждала. Злорадно Сашка и Колька начинали ходить на цыпочках возле пьяной головы, как из копилок монетки выбрызгивая слюнный смех. Готовые от смеха – разорваться. «Ну как к магниту тянет!» – вскидывалась с шитьем Антонина. Кричала со второго этажа: «Вы отойдете от него, а? Мало он вас стегал, а? Мало? Ну чего прилипли!»
Коновозчик на телеге пытался вылезать словно бы из себя самого. Залепленно-пьяного. Будто задохлый птенец из скорлупы. От падающей головы, как от халвы, мухи на миг подкидывались столбцом. И опускались снова.
Выходила Чёрная. Жена Мылова. В чёрном платке наглухо – походила на скрытную монахиню. Взгляд опущенный, рыскающий. А глянет исподлобья – будто шильями уколет! «Ну-ка!» – только посмотрела на пацанёнков– и те стреканули в разные стороны. Размашисто выкидывала на телегу ведро воды. Взбрыкнув сапогами, Мылов вскидывался. Очумело смотрел, как Чёрная шла от него с ведром к крыльцу. Сухая сильнаярука её свисала как кистень… Мылов тащился в дом.
Через полчаса он снова выходил. Ни в одном глазу. Только волглый весь. Не подсох. Выходил на новый круг. Который начинать надо было, понятно, с дворика Продуктового. С подкидывания, таскания лошади. Подпругой перетягивая её до контуров краковской колбасы. Чтобы видела Белая Стерва. (Директорша.) На что он способен, чтоб понимала… Раздёрнув поводья, прыгал на телегу, стегал. Сашка и Колька сразу побежали. «Куда?! – высовывалась, чуть не падая из окна, Антонина. – К-куда?! Глаза выхлещет!»Мальчишки хихикали, бежали по дороге. Метрах в трех от задка телеги. Бежали за матерящимся Мыловым, за судорожной спиной его, за рукой, наматывающей и наматывающей, поддающей и поддающей бедной лошадёнке.Так и убегали за телегой – как привязанные к ней.
В начале августа окучивали картошку за Сопками. Антонина большой тяпкой, Сашка – маленькой. Он шёл за матерью соседней бороздой, почти не отставал. Колька собирал за ними ботву, стаскивал в кучу. Через час-полтора на зное раскис. Сначала сел в борозду, отвернувшись от работающих. Потом лег лицом вверх. Как упал. Небо длинно вытянулось. Тоже вверх. Стало колыхливым. Будто стратостат. Верёвка от которого была в зубах у него, Кольки. «Не лежи на земле!» – кричала ему Антонина. Колька зубами держал «верёвку». Верёвка была тошнотной. Колька ложился на щеку. Тогда небо сразу расползалось, начинало переворачивать, валить землю. Кольку сильно тошнило. Он садился. Хныкал. «Иди в рощу, в тень!» – кричала Антонина.Колька не шёл, боялся рощи. Ныл. Беспомощный на пашне, словно привязанный за руки, за ноги к ней.
На горячую головёнку ему Антонина повязала платок, смочив его из бидона. Колька хныкал. Теперь оттого, что у него платок с рожками. Антонина и на сына поглядывала. Мотающийся упрямый Сашкин чуб держал жару. Как хороший боксёр удары. Однако, смочив ещё один платок, и сына заставила повязать на голову.
Калерия отпросилась с работы только к обеду, до участка доехала с попутной. Сбросив с замотанной тяпки сумку с едой, молча протянула Антонине бумажку. Извещение на багаж. Из Игарки? Господи, едет, что ли? – испуганно обрадовалась Антонина. Чёрт его знает. Калерия вертела головой. Ну какая тут картошка! Собрались в минуту. С Колькой сразу всё прошло. К дороге торопился впереди всех. Растопыривал ручонки, путался в ботве, спотыкался. «Папка едет! Папка едет!»
Железной дороги к городку не было, приходящий какой-либо багаж возили из Уфы машинами. Прямо на почту, на задний двор её. Если контейнер какой приходил, то там и ставился. Контейнер должен быть, контейнер! Что-то о мебели бормотал. В прошлом году!..
Но никакого контейнера во дворе почты не нашли… Тогда поспешили в само багажное отделение. Выяснилось – одно место действительно пришло.Багаж. Но одно. Всего одно. Как? Почему одно? Странно. Толстая работницас отсиженными сзади ногами, как с изъеденными древоточцем чурками, пошла в склад. Долго искала там, ходила среди ящиков и мешков, сверяясь с бумажкой. Наконец вынесла велосипед. Велосипедик. Детский, трехколёсный. В бумажных лохмотьях, перевязанных бечёвками. Поставила на пол перед всеми. На фанерной бирке, прикрученной проволокой, было написано:«место – 1 (одно)» и адрес. Все в растерянности смотрели на велосипед,словно ждали от него чего-то. Работница тоже смотрела. «Одно место», – подтвердила ещё раз. Застиранный казенный халат её, в карманы которого она привычно засунула руки, был цвета просветлённой сажи.
Присели, ощупали, нашли ещё одну бирку. Картонную, маленькую.Где цена и завод. На оборотной её стороне прочли пьяные качающиеся слова:«Колька, параз… смотри у меня… Я тебе д…» На этом письмо сыну обрывалось. Продолжить письмо, верно, сил не хватило. «Гад!» – отвернулась Калерия. Побелевшие ноздри её вздрагивали. «Гад!» Стукала кулачком в кулачок.
– Ну, будет тебе, Каля… Прислал ведь… Сыну… Не забывает ведь…
Но Калерия уже закусила удила, уже кричала:
– Да он рубля нам не перевёл, рубля! – Не обращала внимания на вздрогнувшую, сразу испугавшуюся женщину. – Рубля! Письма не написал!Зато – «вот он я! Пьяный! Купец! Жрите меня!»… Гад…
Калерия пошла с почты. Антонина и ребята, обтекая поворачивающуюся растерянную работницу, говоря ей «до свидания», тоже заспешили. Антонина торопливо обрывала с велосипеда бумагу, верёвки. Бумага тащилась следом, с железа не отрывалась. На удивление много её оказалось, много. Тут ещё верёвки! Заталкивала всё в большой бак у выхода.
Калерия не оборачивалась, быстро шла впереди. Точно не имела никакого отношения к тем, кто идёт сзади. А те спотыкались. Никак не могли приноровиться к велосипеду. Колька и Сашка цеплялись за него с разных сторон, Антонина вертелась, перекидывала его из одной руки в другую. Велосипед словно водил их всех за собой, они словно кружились с ним на месте.
Когда проходили площадь, Калерия вдруг остановилась, чуть постояла и повернула к каменным лабазам, к магазинам. Все тоже свернули, продолжая кружить, ходить за велосипедом, как за маленьким, живым.
В притемнённом магазинчике глаза её высматривали какой-нибудь товар по полупустым полкам. И – выстрелила. Длинным указательным пальцем:
– Вот эти!.. Дайте. Сколько они? Какой размер?
На прилавок приветливая продавщица, будто родная сестра женщины с почты, выставила сандалии. Красные, детские. Поправила их. Чтобы рядышком были. Чтоб красиво стояли.
Калерия хмуро вертела сандалии. Сунула Кольке:
– На. На день рождения. Подарок.
До Колькиного дня рождения еще полгода. Зимой он будет. В феврале…
– Всё равно. Заранее. Мы не нищие…
Колька принял сандалии. Понюхал их внутри:
– Сладко пахнет…
Сашке передал.
– Вишнёво, – сказал Сашка, понюхав.
– Точно – вишнёво, – опять втянул носом Колька. Мать приказала примерить. Быстро отряхнул пятки, примерил. В самый раз. Даже на вырост впереди есть. Так и пошёл в новых сандалиях. Не отпуская, однако, велосипеда, держась за него. Вот привали-ло-о! За один раз! И сандалии красные, и велосипед!
Калерия теперь шла рядом. Лицо её независимо горело. Антонина, поглядывая на сестру, прятала улыбку.
Велосипед хотя и был трехколёсный, совсем вроде бы детский, но какой-то – большой. Хватит ли ножонок Кольке? До педалей? Хватит, заверил Колька, теперь уже можно твердо сказать, – первоклассник, потому как через полмесяца в школу. И взобрался на велосипед. Чтобы опробовать машину во дворе.
На другой день, в воскресенье, Калерия, неостывающая, злая, ни к чему не могла привязать руки. Ходила по двору, искала дела. Начнёт что-нибудь, тут же бросит, забыв. И стоит. Словно на раздвоенной дороге. Уходила на огород. Там бесцельно бродила. Опять не могла зацепиться взглядом ни за что. Возвращалась. Выносила зачем-то из сарая мешок. Шла с ним. Мешок волокся за ней, потом, брошенный, ложился, словно накрывал сам себя с головой от стыда… Избегала глаз Антонины. Боялась не родившихся её слов.Всё время обходила её как-то вдалеке, большим кругом. Хотя тоже надо было перебирать с ней огурцы на засолку.
Антонина ползала по большой, брошенной прямо на землю клеёнке,разгребала кучу, отбирала хорошие, отбрасывала плохие, негодные в ведро.Зная сестру, спокойно ждала, когда пройдет Дурь.
Появлялись Колька и Сашка. Маленький Колька важно, не торопясь,ехал по двору. В красных сандалиях, в белых носочках с помпончиками – медленно вышагивали, опускаясь и поднимаясь с педалями, царские ножки.Велосипед был тоже медленный. Хвостатый. Как павлин. «О! – заорала Калерия, выстрелив в велосипедиста длинным своим пальцем. – Ха! Ха! Ха! Барчонок выехал на прогулку! Где только носочки откопал…» – «В сундукевзял», – ответил Колька, вышагивая с педалями. «Ха! Ха! Ха!»
Антонина любовалась. Сашка похудел от нетерпения, спотыкался рядом с велосипедистом. «Ну, давай! Хватит тебе, хватит!» Колька говорил, что Обкатка.
Наконец довольно рослый Сашка загонял под себя трехколёсный – и наяривал. Коленки мелькали выше головы! Ахнув, Колька кидался, тут же останавливал. «Обкатка же!..» – «Ха! Ха! Ха! – опять кричала мать, с верёвки сдёргивая белье. – Вот он – жмот! Шумихинский жмотёнок!»
К обеду ближе в первый раз пнула велосипед. На дороге тот у неё оказался. Потом ещё раз. «Не ставь куда попало!» – отлетал,падал набок велосипед. Колька подбегал. Подняв машину, рукавом отирал пыль с крыльев, с руля. Покорный, терпящий всё. Чего уж теперь, раз дура такая…
– Не пачкай рубашку! – орала мать. Колька уводил велосипед. Потом садился, ехал со двора подальше.
После обеда велосипед вынесла за одну ручку. На крыльцо. Как противную каракатицу какую вывернутую! (Он словно сам ей в руки лез!)
– А ну убирай! – чуть не кидала сыну. – А то сама вышвырну!
Колька подхватывал. Топтался, не знал, куда с велосипедом идти.Места велосипеду с Колькой не было. Понёс к сараю. Обняв как подстреленную птицу.
Через час велосипед и Колька выехали из-за угла дома. С улицы.(Сашка интерес к этому велосипедику уже потерял, ненадолго хватило интереса, с матерью волохтал в корыте с водой огурцы.) Калерия подбегала. «Всё дерьмо на колеса собрал! Всё собачье дерьмо! Кто мыть будет! Кто! Я?!»Колька осаживал, осаживал педалями на месте. Затрещину получил.
Антонина брала велосипед, отмывала колёса в бочке с дождевой водой…
– Не намывай ему! – уже визжала Калерия. – Пусть сам моет, паразит!Са-ам!..
– Ты что – совсем сдурела? При чём ребёнок тут, при чём! На, велосипед разбей, докажи «гаду игарскому»…
Калерия, подбежав, схватила. Неуклюже, высоко вскинула. Швырнула. Колька с рёвом побежал к упавшему велосипеду.
Антонина побледнела.
– Дура ты, дура чёртова! – Подошла к Кольке, взяла за руку, подхватила велосипед: – Пойдём, Коля. Не плачь…
– И пусть не приходит с ним! Пусть не приходит! – кричала Калерия.Упала тощим задом на крыльцо. С расставленными ногами, с провалившейся юбкой, раскачивалась из стороны в сторону, выла, стукала в бессилии сжатыми кулачками по мосластым острым своим коленям.
– Будь ты проклят, проклятый Шумиха! Будь ты проклят! О, Господи-и!..
Сашка, забытый всеми, испуганный, не знал куда идти. Пятился вроде бы за матерью, уходил и – словно бы во дворе оставался, испуганно глядя на свою родную неузнаваемую тётку. Потом мать и Колька вернулись, и мать отпаивала тётю Калю колодезной водой. Тетя Каля цеплялась за руки матери,зубы её стучали. Зубы её глодали железный плещущийся ковш.
…С утра Мылов, затягивая чересседельник,опять зло дёргал, чуть ли не подкидывал несчастную лошадёнку возле двери в подвал. Директорша не выходила. Мылов матерился,пинал животину – А Белая СтерваВсё Не Выходила! Глаза лошадёнки вылезали из орбит, раскинутые ноги, казалось, стукались о землю как палки – АСтерваВ Белом Халате Даже Не Появлялась! Да ятит твою!
Во двор очень близорукая заходила курица. Осторожно вышагивала.Выдвигала любопытную головку…
Молнией бросался Мылов. Чёрной молнией, одетой в сапоги. Мгновение – и квохтающая курица колотиласьв его руках. А он в мешок её, в мешок. Невесть откуда выдернутый им. И – озирается по сторонам, присев.Видел ли кто? Тихо ли?
Через минуту гнал лошадёнку домой. Помчавшиеся во весь дух Сашка и Колька только во дворе у себя успели увидеть, как он тащил эту курицу к крыльцу. Тащил на отлёте, на вытянутой руке. Точно боялся её. А курица покорно,растрёпанно болталась вниз головой…
Выходила Чёрная. Шла с курицей и топором к сараям. Как всегда сердитая, будто отгороженная. Из тайной секты будто какой. Из подпольной организации. (Переживая, с крыльца тянул голову Мылов.)
– А ну – геть!
Сашка и Колька отбегали от двери сарая. Чёрная открывала дверь. Заходила в темноту… Через несколько секундиз сарая выбрасывалась безголовая птица. Которая начинала скакать по двору,выпурхиваться кровью. Потом, словно споткнувшись, падала. На бок. Сразу худела. Медленно царапала воздух лапой. И оставляла лапу в воздухе над собой… Ребятишки смотрели во все глаза. С раскрытыми ртами. А Чёрная гремела чем-то в сарае. Потом выпадала наружу. Топор походил на отрубленный бычий язык! Сгребала птицу с земли. Шла, кропя за собой буро-красной строчкой. Так же сорила кровью на крыльце, где суетился с тряпкой Мылов. Затирал за ней, затирал. Как баба. С чумными глазами. Захлопнул дверь…
– Ну что вы бегаете за ним, а! Что вы бегаете! – кричала из окна Антонина.
Ребятишки не слышали её. Ребятишки стояли как стеклянные.
Через два часа Мыловсидел на скамейке возле ворот. Сыпал мимо бумажки табак. Привычно пьяный. Брал бумажку и табак на прицел. Табак сыпался мимо. Мылов поматывался. Матерился. Упрямо снова всё начинал. Сашка и Колька уже ходили. Пыжились, прыскали слюнками. Мылов думал,что прохожие.
Через дорогу напротив у своих ворот стояла Зойка Красулина. Безмужняя, разбитная. С волосами как сырой виноград. У которой не заржавеет.Нет, не заржавеет. Ни с языком, ни с ещё чем. Лузгала семечки. Кричала Мылову, хохоча: «На правый бери, на правый!» Глаз, понятное дело. (Сашка и Колька совсем переламывались, коленки их стукались о подбородки.) Мылов вяло ставил ей указательный, прокуренный: н-не выйдет! н-не купишь, стерва! Снова пытался попасть табаком. Попал. Насыпал. Эту. Как её? Горку. Начал скручивать. Слюна развесилась как трапеция. Поджёг, наконец, мрачно задымливаясь. «О!– кричала Зойка. – Осилил! Молодец!»
Появлялся на шоссейке Коля-писатель. Шёл, как всегда. Словно пол прослушивал ногами. В очках. По аттестации Мылова– Деревенский Порченый. Конечно, проходил мимо. Мимо своих ворот. Мылов– будто знойный песок начинал просыпать, весь из себя выходя: «П-порченый!.. н-назад!.. К-куда пошел!» Но – вырубался. Напрочь. Дымился только для себя. Как гнилушка. Коля смеялся. «Заблудился опять маненько». И непонятно было – кто? Кто заблудился.Мылов ли – пьяный, или он – Коля. Зойка кричала Коле, подзывала к себе. Придвигалась прямо к лицу его, смотрела в глаза жадно, нетерпеливо. Точно боялась, что он уйдёт. Уйдёт раньше времени. И говорила, говорила без остановки. И было в этом всём что-то от жадного любопытства женщин к дурачкам. От торопливого общения женщин с дурачками. Она словно ждала, хотела от него чего-то. Она торопилась, подыгрывала ему. Ему – дурачку. В его же дурости. Чувствовала словно в нём безопасное для себя, но очень любопытное и захватывающее мужское начало. Которого у других мужиков, нормальных, нет. Только у таких вот. У дурачков. Виноградные волосы её… виноградный куст её весь дрожал, серебрился, был полон солнца. Глаза женщины смеялись, видели всё: и белую рубашку, мужской стиркой застиранную до засохшего дыма, и остаток желтка от утренней, тоже мужской, яичницы на краю губы, и неумело подвёрнутый и подшитый пустой рукав рубахи, и Колины глаза в очках, похожие на сброшенные со стены отвесы, которым бы уйти, уравновеситься скорей, но нет – приходится болтаться, трусить… «Давай хоть пуговицу пришью! Завью верёвочкой! Бедолага!» Зойка пыталась сдёрнуть с рубашки Коли болтающуюся пуговку. Смеясь, Коля отводил её руки одной своей рукой, этой же рукой потом гладил затаённые головёнки Сашки и Кольки рядом (подбежали они уже, сразу же подбежали). Тоже говорил и говорил. Точно месяц не разговаривал, год. Словно хотел заговорить её, одарить, завалить разговором, как цветами, и пересмеять её, и перешутить… Потом, как будто глотнув света, счастья, шёл с ребятишками через дорогу к своему дому, обнимая их по очереди, похлопывая. Подмигивал им, кивал на Мылова. Который задымливался. Который не видел ничего. Вохровский картуз у которого, как горшок на колу, был вольным…
Минут через пять Коля снова шёл двором. Только теперь к воротам,обратно на улицу. С папкой под мышкой, которую, наверное, забыл утром.Ребятишки преданно бежали к нему, чтобы проводить, но он их заворачивал и, смеясь, направлял к офицеру Стрижёву. Обратно. Стрижёв подвешивал руку над склонённой в согласии головой. Слегка поматывая ею. Что могло означать: здравствуй, Коля. Пока, Коля. Не волнуйся, Коля. Полный порядок,Коля. Снова упирал руки в бока над разобранным мотоциклом. Словно наглядно удваивал свое галифе. (Ребятишки уже заглядывали ему в лицо, определяя, какая будет взята сегодня им в руки деталь.) Стрижёв брал, наконец, ее.Деталь. С любовью осматривал. «Принеси-ка, Село, паяльную лампу».
Сашка и Колька сломя голову бежали…
…Жена Коли-писателя, Алла Романовна, по двору всегда разгуливала в странномколоколистом коротком халате, пояс которого, вернее, полупояс, вырастал почему-то прямо из-под мышек и завязывался на груди большим фасонистым бантом, превращая Аллу Романовну в какой-то уже распакованный, очень дорогой подарок. Из тех, которые красиво стоят в раскрытых коробках на полке в культмаге на площади. Алла Романовна очень гордилась своим халатом. Советовала Антонине сшить такой же.
На своем крыльце Антонина распрямлялась с мокрой половой тряпкой в руках. Была она в разлезшейся кофте, в старой вислой юбке, галошах татарских на забрызганных грязной водой ногах. «Это ещё зачем?» И точно неотъемлемая часть её, матери, с таким жесмешливо-презрительным прищуром останавливалу крыльца и Сашка свой кирпич. «Это будет лучшим подарком твоему мужу. Вот!» – выдавала гордо Алла Романовна. «Чиво-о?»– Дворовая собака-трудяга смотрела на балованного развратненькогопуделька. Такая картина… «Да-да-да! – начинала спешить Алла Романовна.– Вот приедет твой Константин Иванович, вот приедет… а ты – в пеньюа-аре…» Она прямо-таки выцеловывала сладкое это словцо. Но увидев ужас в глазах глупой женщины, еще быстрее частила: «Да-да-да! поверь! поверь! И любить будет больше, и уважать! – И опять вытягивала губы: – Когда в пеньюа-а-аре…» В довершение всего она начинала как-то томно и как сама, по-видимому, считала, очень развратно… оглаживать себя. Оглаживать как бы самый главный свой подарок мужу. Однако как-то рядом с ним, по бёдрам больше, по бёдрам. Поглядывала на ошарашенную, с раскрытым ртом женщину. Как будто обучала её. Обучала её, деревенщину, искусству разврата…
Тоня с такой силой и поспешностью начинала шоркать крыльцо тряпкой – что во все стороны брызги веером летели. Алла Романовна скорее относила колокол свой подальше. Шарнирно выбалтывая из него ножками. Точно кривоватыми белыми палками. «Фи! Деревня!»
Однако когда офицер Стрижёв дежурил у разобранного мотоцикла – для Аллы Романовны менялось всё. Она знала, что её ждёт. Она шла, замирая сердцем, к белью своему, висящему на верёвке.
Нутро Стрижёва тоже сразу подтягивалось, напрягалось. Заголённые ноги в галифе начинали пружинить, подрагивать. (Так пружинят, подрагивают задние бандуры у гончака.) Он будто даже повизгивал!