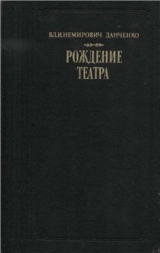
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
Пусть вам объяснит умный коммерсант широкого масштаба, что и в материальном отношении мы от этого только выигрывали.
Это был единственный театр, в котором репетиционная работа поглощала не только не меньше, а часто и больше творческого напряжения, чем самые спектакли. Я останавливаюсь на этом так долго потому, что на этих-то работах и производились новые искания, вскрывались глубинные авторские замыслы, расширялись актерские индивидуальности, устанавливалась гармония всех сценических частей.
В нашей восемнадцатичасовой беседе сознание громадной важности этой реформы было непоколебимо. И все правила закулисного быта, вся дисциплина, взаимоотношения, права и обязанности – все складывалось, как надо было для такой работы. Этим путем ковалась та группа театральных работников, которую со временем будут называть коллективом.
Как-то я спросил Южина, когда он стал управляющим Малого театра, как он может мириться со старыми репетиционными приемами, имея уже перед глазами многолетний опыт Художественного театра. Он ответил так:
«Я готов дать моему режиссеру на постановку столько времени, сколько ему нужно, но он не видит в пьесе {104} больше того, для чего вполне достаточно трех недель, месяца».
Так ли это? Режиссер не увидит, актеры увидят. Кто знает, откуда придут творческие толчки. Надо, чтобы рабочая атмосфера им помогала.
8
Боюсь, что мой рассказ становится скучноватым. От моей встречи со Станиславским читатель мог ожидать подробностей поэффектнее. Но это-то и отличало нашу беседу от многочисленных театральных затей, которые «отцветали, не успевши расцвесть».
Я уже упоминал об одном из корифеев нашей литературы – Петре Дмитриевиче Боборыкине. С ним, как и с Чеховым, я много-много говорил о новом «литературном» театре. Пылкого темперамента, огромной эрудиции, он мог в пять минут набросать самый блестящий репертуар нашего обетованного театра; мог рассказать, как это дело обстоит во всех столицах Европы, где он чувствовал себя как дома, знал всех лучших актеров, актрис, авторов, критиков; писал статьи о театре, читал лекции… Однако мне никогда не удавалось вовлечь его в подробный анализ самой «кухни» театра. Это ему было скучно. Он горел результатами, а не тем упорством, которое создает результаты. Хотя он был прежде всего романист, но отдавал театру большое количество времени, был даже выдающимся драматургом. Но он не был «человеком театра». Он любил всю показную, лицевую сторону, но скользил по тому, что можно бы назвать «трудом» театра. Вот что мы, люди театра, любили больше всего на свете. Труд упорный, настойчивый, многоликий, наполняющий все закулисье сверху донизу, от колосников над сценой до люка под сценой; труд актера над ролью; а что это значит? Это значит – над самим собой, над своими данными, нервами, памятью, над своими привычками… Качалов как-то сказал, что для актера Художественного театра каждая новая роль есть рождение нового человека… Труд мучительный, жертвенный, часто неблагодарный до отчаяния; и, тем не менее, труд, от которого актер, раз ему отдавшись, уже не захочет оторваться никогда в жизни, не променяет его ни на какой более спокойный.
Если этого нет, не надо идти в театр.
{105} Вот что было в самом корне сближения между мною и Станиславским. И, может быть, чем больше в нашей беседе было деловых, кажущихся скучными, подробностей, чем меньше мы избегали их, тем больше было веры, что дело у нас пойдет.
9
В какой степени Станиславский был честолюбив?
Вопрос этот не раз возникал в моем сознании, когда за интонациями его низкого, всегда согретого, немного хриплого голоса звучало: или удовлетворение, – что его радовало, или досада, – что огорчало, или явная сдержанность, – чувство, которое он избегал обнаружить.
Много начинаний, обставленных отличными условиями, расползалось на моих глазах от актерского честолюбия.
Но вот в нашей беседе был такой кусок.
Говорили о репертуаре. Прежде чем открыть двери театра, чтобы сразу играть ежедневно, надо иметь несколько готовых спектаклей. Американская и французская система повторять одну пьесу до тех пор, пока она делает сборы, была незнакома русскому театру; да и не привилась бы, – от нее чересчур пахнет ремеслом. Разбирали игранные уже спектакли в кружке Станиславского, расценивали их с точки зрения интересов нашего будущего театра. Подошли к двум крупнейшим из них – «Отелло» и «Уриэль Акоста». Я не скрыл моих колебаний. Несмотря на большие внешние достоинства этих постановок, вопрос упирался в качества главного исполнителя. Дело, к которому мы готовились, было слишком серьезно, чтоб начинать его с фальшивых комплиментов. В нашей беседе наступил момент психологического острия.
И Станиславский не произнес ни одного слова в защиту. Он покорно предоставлял мне решать, удаются ему трагические роли или нет. «Отелло» и «Уриэль» мы так и не включили в репертуар.
Можно смело сказать, что ни один крупный актер не был бы способен на такой самоотверженный жест.
Не должен ли я был заключить уже из этого одного, что этот всевластный создатель своих спектаклей сумеет подчиниться той дисциплине, какую он сочиняет для других? Что жертвы, какие он потребует от других, он принесет и сам?
{106} Разумеется, я не был так наивен, чтобы считать крупного театрального человека лишенным всякого честолюбия. Но, как у всякой страсти, сила честолюбия может быть созидательной, может быть и разрушительной. Под ее напором художник может создавать самое лучшее, на что он способен, а все знают и до каких злейших поступков доводит эта страсть. Это зависит еще от каких-то качеств характера…
В конце концов, из ряда отдельных мелких реплик у меня нанизывалось впечатление, что каково бы ни было у Станиславского честолюбие, – актерское ли, стать Ленским, – он им смолоду увлекался, —
или Росси, Поссартом, – европейские трагики, о встречах с которыми он любил рассказывать и которые явно импонировали ему своей генеральской монументальностью, —
режиссерское ли, – создать из себя русского Кронека, – режиссер знаменитой Мейнингенской труппы, – Станиславский то и дело приводил примеры шикарных приемов, какими Кронек обставлял свою монархическую режиссерскую власть, —
нанизывалось впечатление большого вкуса и такта, складывалась уверенность, что мечта обо всем деле в целом поглотит то, что было первоисточником самой мечты.
И вдруг совершенно неожиданное.
Уже к концу нашей беседы, утром, за кофе, я сказал: «Нам с вами надо еще установить – говорить друг другу всю правду прямо в лицо». После всего, о чем мы уже договорились, я ожидал в ответ несколько слов, вроде «это само собой разумеется» или «мы к этому уже благополучно приступили». Каково же было мое удивление, когда Константин Сергеевич молча откинулся к спинке кресла и остановил на мне взгляд словно побелевших зрачков и сказал:
«Я этого не могу».
Я сначала не понял и подхватил: «Ах, нет. Я даю вам это право во всех наших взаимоотношениях».
«Вы не поняли. Я не могу выслушивать всю правду в глаза, я…»
По искренности, по прямоте это так же было замечательно, как и противоречило всему предыдущему. Я постарался смягчить уговор: «Всегда можно найти такой способ говорить правду, чтоб не задеть самолюбия…»
{107} Много раз потом, на протяжении десятков лет совместной работы, мне вспоминалось это признание. Иногда оно казалось мне пророческим. Но и оно было неточно. Часто Константину Сергеевичу можно было говорить в глаза самую тяжелую правду, и он принимал ее просто и мужественно; а иногда, действительно, возбуждался, страдал или еще чаще негодовал от правды, гораздо менее значительной.
Природа Станиславского страстная и сложная. Она развертывалась перед нами годами. Многое в нем долго нельзя было разгадать благодаря поражавшим нас противоположностям. Трафаретные определения, однокрасочные, никогда не были пригодны для его характеристики.
Долго горячие, преданные поклонники называли его «большим ребенком», но и это, в конце концов, определяло очень мало и было не серьезно.
А наше первое свидание было слишком переполнено горячим желанием полюбить друг друга; для спокойного анализа в нем мало было места. Он тоже, вероятно, делал про себя догадки относительно моего характера. Он даже признался, что уже года полтора «ходит вокруг» меня с мыслью встретиться на деле…
10
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
С доверчивой улыбкой друг перед другом мы смело, без фарисейства, поставили и этот вопрос. Как мы поделим между собой наши права и обязанности. Еще в административной области можно было размежеваться. Станиславскому предстояло нести большую актерскую работу, поэтому хотя за ним и сохранялись и права, и обязанности вникать во все дела по администрации, но наибольшей тяжестью она возлагалась на меня: решили, что я буду тем, что в юридическом «товариществе» именовалось директором-распорядителем.
Но ведь кроме того и прежде всего мы оба в своих группах были полновластными режиссерами и педагогами. Оба привыкли утверждать свою единую волю, и сами привыкли, и своих воспитанников приучили. Да и были убеждены, что иначе никак не может быть. И если по постановочной части у Станиславского было больше опыта – {108} он уже проявлял и новые приемы в мизансцене, в характерности, в народных сценах, и я не мог не признать его решительного преимущества передо мною, – то в проведении внутренних, актерских линий постановки нам не избежать было положения двух медведей в одной берлоге.
Однако у Константина Сергеевича уже было припасено разрешение этой трудной проблемы. Он предложил так:
вся художественная область разделяется на две части – литературную и сценическую. Оба мы охватываем всю постановку, помогая друг другу и критикуя друг друга. Как это будет технически, сговоримся потом. Во всяком случае, имеем в художественной области одинаковые права, но, в случае спора и во всякую решительную минуту, ему принадлежит право veto[79] в сценической части, а мне право veto в литературной.
Выходило так, что за ним последнее слово в области формы, а за мной – содержания.
Разрешение не очень мудрое, и вряд ли мы оба не чувствовали в то же утро всю неустойчивость такого плана. Само дело очень скоро покажет, на каждом шагу покажет, что форму не отдерешь от содержания, что я, настаивая на какой-нибудь психологической подробности или литературном образе, смогу бить прямо по их сценическому выражению, то есть по форме; и наоборот, он, утверждая найденную им и излюбленную форму, мог вступать в конфликт с моей литературной трактовкой.
Именно этот пункт и станет в будущем самым взрывчатым во всех наших взаимоотношениях…
Тем не менее в то замечательное утро мы оба ухватились за эту искусственную чересполосицу. Очень уж нам хотелось устранить все препятствия. Очень уж притягивало и не отпускало, казалось громадно и драгоценно то призрачное строение, которое мы так разукрасили снаружи и внутри, заражая друг друга с двух часов вчерашнего Дня своими темпераментами, красивыми мечтами и такой близостью их реализации. Каждый искренне и безрасчетно готов был взвалить на себя жертвенную тяжесть уступок, лишь бы не потушить разгоревшийся в нас пожар.
{109} 11
Иногда запоминаются такие мелочи, такие, по-видимому, незначительные краски.
На всю жизнь осталось в памяти утро и предрассветная тишина в усадьбе, когда я вернулся из Москвы. Сутки по шумной железной дороге; потом в сторону, сразу в тишину екатеринославских степей, в поезде с такой скоростью, что, кажется, можно соскочить, нарвать цветов и догнать; потом «добрых» пятьдесят верст на лошадях, теплой южной ночью, в облаках пыли, поднимающейся в темноте и лезущей в ноздри; сбоку все время хруст нескошенного ячменя, – правая пристяжная топчет его по дороге, – и, наконец, погруженные в сон деревня и усадьба.
Мы с женой ходим перед террасой дома – от флигеля, где «службы» и конюшня, до начала парка. Я уже рассказал ей о свидании с Алексеевым и продолжаю припоминать подробности. Отдельные черточки, наблюдения перебиваются деловыми соображениями и так связываются с мечтами, словно тонут в них. Ни в усадьбе, ни в степи – ни звука. Фыркнет лошадь, – они около конюшни на воле, перед бричкой с овсом, – в конюшне душно; прокричит утка на реке, испугавшись вынырнувшей рыбы; какая-нибудь из больших дворовых собак неслышно приблизится, лизнет руку: собаки как-то осторожно чувствуют предрассветную тишину, точно боятся нарушить ее последний час. Там где-то за садом уже потянулись светлые полоски. Мы подходим к колодцу, обходим лужицы около нового сруба, опускаем ведро за свежей водой.
Мечты и планы, планы.
В чем особенная сила театра? Почему к нему тянутся и девушка из глухой провинции, как Нина Заречная в «Чайке», и гимназист, и купеческий сын, и отпрыск княжеского рода князь Сумбатов, и доктор Васильев бросает свою громадную практику, и генерал Стахович, товарищ на «ты» великих князей, снимает свой мундир, чтобы стать актером, молодой граф уходит из родительского дома за актрисой, которая даже старше его, но замечательно талантлива, и лучшие писатели, перед которыми раскрыты настежь двери, предпочитают отдавать свои лучшие чувства театру и актерам? Через десять лет Художественный театр будет большим паевым товариществом; {110} посмотрите его пайщиков: мещанин города Одессы, замечательный актер; чудесная актриса, крестьянка Саратовской губернии Бутова; учитель чистописания, очаровательный Артем; «Рюриковичи», князья Долгоруковы, граф Орлов-Давыдов, ее превосходительство Иерусалимская – это наша grande dame[80] Раевская; почетный купец, еще купец, графиня Панина, князь Волконский, лекарь Антон Чехов…
Музыка жизни; дух легкого, свободного общения; непрерывная близость к блеску огней, к красивой речи; возбуждается все мое лучшее; идеальное отображение всех человеческих взаимоотношений: семейных, дружеских, деловых, любовных, еще любовных, без конца любовных, политических, героических, трогательных, смешных. И закулисный быт актеров, всегда взвинченный, всегда трепетный, и всё они переживают вместе: и радость, и слезы, и негодование.
Царство мечты. Власть над толпами.
Через всю мою жизнь, как широкая река через степи, проходит эта притягивающая и беспокойная, отталкивающая и не выпускающая из своих чар атмосфера театра и театрального быта.
У девятилетнего мальчика ежедневные представления в картонном театре на подоконнике; сам и актер, и афишер, в музыкант, и дирижер с палочкой; любимая возня – в мусоре строящегося летнего театра; любимые запахи – типографской краски на афише и газа за кулисами; дружба о капельдинером. В тринадцать лет драматург, автор пятиактной мелодрамы «Жак-Ноэль Рамбер», четырехактной комедии с куплетами и водевиля с пением «Свадебная прическа». Все три сочинены в одно лето. Первое увлечение – наездница в цирке, первая в шестнадцать лет любовница – актриса. Потом любитель, все самые лучшие связи – за кулисами и т. д., и т. д.
И откуда это? По какой теории наследственности? Отец – провинциальный военный, помещик Черниговской губернии, никогда не приближавшийся к театру; мать из совсем глухого угла Кавказа, вышла замуж четырнадцати лет, не знала никакого театра, в пятнадцать родила, но вместе с няньчаньем ребенка долго еще играла в куклы… Правда, отец выписывал журналы и имел для своего Стародуба очень недурную библиотеку. И не {111} ожидал, конечно, что она отравит его первенца; в военном корпусе брат Василий[81] был несколько раз посажен в карцер за ряд стихотворений против начальства; затем, наперекор строжайшим настояниям отца, бросил корпус, убежал в Петербург и, в бурном одиночестве, выработался в писателя, прославившего имя скромного подполковника.
Ну это от библиотеки, – Пушкин, Лермонтов, Марлинский, «Современник», – а откуда страсть к театру? Второй брат, Иван[82], красавец, тоже бросил юнкерское училище и ушел в актеры. Бедняга сгорел от туберкулеза как раз на пороге сверкающих успехов. Единственная сестра, одна из очаровательнейших женщин театра, стала известной актрисой.
И вот – четвертый.
Откуда такой поток в литературу, в театр, в музыку? Где его источники?
Разве вот как раз в том, почему мать до шестнадцати лет играла в куклы…
12
Ни имени Чехова, ни его писательского образа около нас – меня и Алексеева – в нашей беседе не было. Разумеется, я о нем упоминал, но это оставалось без всякого отзвука. В репертуаре Константин Сергеевич обнаруживал хороший вкус и явное тяготение к классикам. А к современным авторам был равнодушен. В его театральные расчеты они совсем не входили. Рассказы Чехова он, конечно, знал, но как драматурга не выделял его из группы знакомых его уху имен Шпажинского, Сумбатова, Невежина, Гнедича. В лучшем случае относился к его пьесам с таким же недоумением, как и вообще вся театральная публика.
Притом же мы эгоистично, глубоко эгоистично, обсуждали наш театр, наш, вот театр Станиславского и мой. Театром Чехова он станет потом, и совершенно неожиданно для нас самих.
А Антон Павлович в это время, в лето 1897 года, закрылся от театра всеми допускаемыми средствами; от театра, от его друзей, от его дразнящих образов и слухов забронировался, как ему казалось, навсегда. Писал, лечил в своем Мелихове и изредка прислушивался к зарубцовывающимся {112} ранам: «Не буду пьес этих ни писать, ни ставить, если даже проживу еще семьсот лет».
Еще весной, за завтраком с Сувориным, у него внезапно открылось кровохарканье. Его свезли в клинику, где продержали около трех недель, не пускали к нему долго даже сестру.
«Как я мог проглядеть притупление, я – врач!» – повторял он несколько раз.
На всю эту зиму, 1897 – 1898, он уехал в Ниццу.
Глава седьмая
1
Мы решили готовиться к открытию год. Для уха американского менеджера или итальянского direttore это прозвучало бы чудовищно: целый год для подготовки театра. А нам и этого едва хватило. Все наши хлопоты можно было разделить на четыре департамента: 1) сближение двух групп – его и моей – путем просмотра спектаклей – его и моих; это главный художественный департамент; 2) техническая подготовка, то есть отыскание театрального здания, заключение договоров, налаживание всевозможных хозяйственных и административных частей; 3) подготовка так называемой «общественности» и 4) – о, кошмар! – самое существенное: деньги, деньги и деньги.
Это, не правда ли, всем понятно. Это самое первое. В ушах звенит чисто московская интонация с открытым сочувствием и скрытой усмешечкой: а где вы, господа хорошие, деньги достанете?
Теперь, когда я пишу эти строки, в Советском Союзе вопрос о средствах был бы самым второстепенным. Малейшая художественная инициатива, любая скромная, ко честно и искренне работающая театральная группа или эксперимент, совершенно фантастичный, но имеющий какую-нибудь связь с искусством, – все немедленно встретит поддержку у самого правительства: вас так или иначе устроят, чтобы вы могли осуществить ваше начинание.
А в ту эпоху мы с Алексеевым чувствовали себя на положении людей, на которых лакей посматривает подозрительно: не стянули бы эти господа чего-нибудь – серебряную ложку или чужую шапку. Помню, как раз таким ощущением мы поделились друг с другом, выходя на богатый {113} парадный подъезд от Варвары Алексеевны Морозовой. Это была очень либеральная благотворительница. Тип в своем роде замечательный. Красивая женщина богатая фабрикантша, держала себя скромно, нигде не щеголяла своими деньгами, была близка с профессором главным редактором популярнейшей в России газеты может быть даже строила всю свою жизнь во вкусе благородного, сдержанного тона этой газеты. Поддержка женских курсов, студенчеств, библиотек – здесь всегда было можно встретить имя Варвары Алексеевны Морозовой. Казалось бы, кому же и откликнуться на наши театральные мечты, как не ей. И я, и Алексеев были с нею, конечно, знакомы и раньше. Уверен, что обоих нас она знала с хорошей стороны.
Но – театр! Да еще из любителей и учеников.
Когда мы робко, точно конфузясь своих идей, докладывали ей о наших планах, в ее глазах был такой почтительно-внимательный холод, что весь наш пыл быстро замерзал и все хорошие слова застывали на языке. Мы чувствовали, что чем сильнее мы ее убеждаем, тем меньше она нам верит, тем больше мы становимся похожими на людей, которые пришли вовлечь богатую женщину в невыгодную сделку. Она с холодной, любезной улыбкой отказала. А и просили-то мы у нее не сотен тысяч, мы предлагали лишь вступить в паевое товарищество в какой
Потребность в частных театрах все время чувствовалась в воздухе культурной Москвы. Были оперные сезоны, поддерживаемые богатым купечеством. Был театр случайно разбогатевшей актрисы Абрамовой, где играли пьесу Чехова «Леший». В том самом доме, где теперь Художественный театр, целый сезон продержался театр другой, случайно разбогатевшей актрисы – Горевой. Тут погибло больше двухсот пятидесяти тысяч какой-то почитательницы, влюбившейся в эту очень красивую, но холодную актрису. Ее театр начался очень шикарно. Она заново отделала зал, пригласила лучших провинциальных актеров на большое жалованье, а художественным директором – Боборыкина. Тот объявил блестящий репертуар, однако пробыл там всего двадцать три дня. Поссорился на репетиции с актрисой, которая отказывалась произносить в какой-то классической пьесе «я вспотела». Она говорила, что это грубо и неприлично. Боборыкин, вообще очень вспыльчивый, – у него в таких случаях сразу {114} багровел весь череп, – сказал: «Это уж предоставьте мне решать, что грубо, а что нет, и знаменитый драматург понимал это лучше вас». Актриса уперлась на своем, а директриса Горева приняла ее сторону. Боборыкин и ушел. В конце концов предприятие оказалось самым распущенным самодурством.
Все эти предприятия лопались, как пузыри. И сложилось убеждение, что к редкому предприятию так подходит название «всепожирающий Молох», как к театральному. Богатые солидные люди это отлично знали и сторонились театральных фантазеров. Мы с Алексеевым чувствовали это и конфузились. Для искания денег надо было иметь не только прекрасные идеи и не только веру в них, а еще какое-то качество, которого, очевидно, не было ни у него, ни у меня.
Сам Алексеев был человек со средствами, но не богач. Его капитал был в «деле» (золотая канитель и хлопок), он получал дивиденд и директорское жалованье, что позволяло ему жить хорошо, но не давало права тратить много на «прихоти». Был у него и отдельный капитал, но отложенный для детей, он не смел его трогать. Все это он очень искренне рассказал мне в первое же свидание. В наше теперешнее предприятие он собирался внести пай примерно в десять тысяч. Кроме того, и он, и жена его, Мария Петровна Лилина, – оказавшаяся потом прекрасной артисткой, – навсегда отказывались от жалованья.
Между тем визит к Варваре Алексеевне Морозовой произвел на нас убийственное впечатление. Если уж она отказала, то чего же ожидать от других состоятельных людей? Тогда мы выдвинули другое: я составил доклад в городскую думу, призывая ее помочь нам субсидией. Мы хотели, чтобы наш театр был общедоступным, чтобы наша основная аудитория состояла из интеллигенции среднего достатка и студенчества. И не так, как это делается обыкновенно, то есть дешево продаются плохие места – нет: мы давали дешевые места рядом с самыми дорогими Примерно так: первые четыре ряда для людей состоятельных, по четыре рубля за кресло – это дороже, чем в других театрах, а затем сразу по полтора рубля и дешевле; а первые места бельэтажа, обыкновенно в театрах самые лучшие, – по одному рублю; ложи бельэтажа – не по десяти или двенадцати рублей, как обыкновенно, а по шести.
{115} А утренние праздничные спектакли мы отдавали Обществу народных развлечений – тот же репертуар в том же составе исполнителей – для рабочих, уже по совсем дешевым ценам, от десяти копеек.
Такой театр, казалось нам, должен был быть очень в духе городского управления, призванного заботиться о населении.
Поэтому наш театр в первый год и носил корявое название «Художественно-общедоступный».
Увы! Мой доклад был поставлен в думе на повестку для обсуждения после того, как Художественный театр уже больше года просуществовал, то есть ждал очереди и лежал в думе без всякого движения примерно года полтора.
Таким образом, кардинальнейший вопрос нашего дела – денежный – висел в воздухе. Быстро пробегали месяц за месяцем. И снег уже стаял, сани заменились пролетками; дурман сезона, «весь чад и дым» премьер балов богатых вечеринок оставался уже позади, поездки к «Яру» и в «Стрельну»[83] стали, как всегда перед концом, угарнее и пьянее, «толстые» журналы уже выпустили свои старшие козыри, прошли боевые студенческие концерты, уже говорили о гвоздях предстоящей весенней выставки картин «передвижников», скоро «прилетят грачи», —
а что же: будет наш театр или нет, найдутся ли для нас деньги и откуда найдутся, когда, строго говоря, мы их не ищем, —
мы сами конфузливо обегали этот вопрос, точно стыдились друг перед другом поставить его твердо и угрожающе.
2
Тем временем мы продолжали знакомиться: я – с его кружком, он – с моими воспитанниками. Мы не объявляли нашей молодежи о нашем плане, но шила в мешке не утаишь. Вспоминаю, как Москвин, перешедший из провинции в Москву в театр Корша на водевильные роли, тихо сказал мне: «Мне уже чуть не каждую ночь снится ваш театр». Волнующее известие скоро проникло в обе группы. Поднялось как бы соревнование. В эту зиму Станиславский {116} поставил лучший свой спектакль «Потонувший колокол» Гауптмана, а мои ученики совершили небывалое: они приготовили к выпускным спектаклям шесть постановок.
Станиславский чутко видел в Гауптмане драматурга, отвечающего нашим сценическим задачам.
Кстати сказать, Чехов очень любил Гауптмана, в то же время совсем не любил Ибсена.
Генеральная репетиция «Потонувшего колокола» сразу обнаружила и все высокие качества и основные недостатки Кружка. Мизансцена поражала богатством фантазии, новизной и изобретательностью. Каждый дюйм крошечной клубной сцены был использован с изумительной ловкостью; вместо обычной сценической, ровной площадки – горы, утесы и пропасти; эффекты – и световые, и звуковые, а в особенности паузы – создавали целую гамму новых сценических достижений. Звуки хороводов, нечеловеческие крики и голоса, свист ночных птиц, таинственные тени и пятна, леший, эльфы – все это наполняло сцену очень занимательной сказочностью. Отлично помню, как Федотова сказала: «Мне кажется, Костя с ума сойдет».
Это было самое сильное в спектакле, но и кроме того – краски и рисунки в декорациях, костюмах и сценических вещах создавались подлинными художниками.
Наконец, фигуры актеров были оригинальны, характерны и избавлены от трафаретов.
Таким образом, в «Потонувшем колоколе» живописная сторона спектакля была исключительно сильна, и в первых двух актах как будто нельзя было желать ничего лучшего. Но с развитием представления проявлялся и основной недостаток спектакля: нетвердость внутренних линий, неясность или даже искажение психологических пружин и отсюда непрочность драматургического стержня. Во мне этот спектакль еще больше укрепил взгляд на Константина Сергеевича той эпохи; его режиссерская палитра обладала огромным запасом внешних красок, но пользовался ими он не по приказу внутренней необходимости, а по каким-то капризам темперамента в борьбе со штампами какой бы ни было ценой. Так продолжалось довольно много лет; иногда казалось, что он до странности придает мало значения и слову, и психологии.
Помню, даже на пятом или шестом году Художественного театра, в одном горячем споре, – в одном из тех, как {117} будто беспокойных и нервных, но чрезвычайно полезных споров, которые происходили между нами обыкновенно по окончании репетиций, – все уже разошлись, на сцене готовятся к вечеру, входят и выходят капельдинеры, убирающие зал, мы то и дело перемещаемся из одного свободного угла в другой, – я формулировал ему так:
«Вы – режиссер, исключительный, но пока только для мелодрамы и для фарса, для произведений ярко сценических, но не связывающих вас ни психологическими, ни словесными требованиями. Вы “подминаете” под себя всякое произведение. Иногда вам удается слиться с ним, тогда результат получается отличный, – но часто после первых двух актов автор, если он большой поэт или большой драматург, начинает мстить вам за невнимание к его самым глубоким и самым важным внутренним движениям. И потому у вас с третьего действия спектакль начинает катиться вниз».
Станиславский сам, в своей книге «Моя жизнь в искусстве»[84] не раз говорит об этом же с достаточной беспощадностью к самому себе, и становилось понятно, почему он так предупредительно уступал мне «содержание», оставляя за собой форму. Но живописной стороной легче «эпатировать» публику, так что в известном смысле Алексеев был прав. Во всяком случае спектакль имел большой успех, а на генеральной репетиции публика собралась очень кроткая: я ушел в половине второго ночи, а предстояло играть еще два больших акта. Отметилась еще одна его особенность: при огромной настойчивости, – может быть, самой крупной черте его характера, – настойчивости как проявления то сильной воли, то упрямого художественного каприза, – при такой настойчивости – полное отсутствие представления о времени и пространстве в жизни. На сцене он ясно чувствовал каждый вершок, а в жизни искренне признавался, что не представляет себе, что такое пятьдесят сажен, а что триста. Или четверть часа или полтора. Будет со временем такая репетиция «Шейлока»[85], которую я убедил прекратить в половине пятого утра, когда не начинали еще третьего акта, так как в антрактах Константин Сергеевич давал указания актеру, как владеть шпагой или как кланяться.
Так было в кружке Алексеева, но и на моих курсах подъем соревнования был исключительный. Происходило это потому, что на выпускном курсе было несколько крупных {118} талантов, и потому еще, что среди них был Мейерхольд.
Этот впоследствии знаменитый режиссер был принят в Филармонию сразу на второй курс и в школьных работах проявлял очень большую активность. И особенно в направлении общей дружной работы. Факт, небывалый в школах: после пяти приготовленных и сыгранных спектаклей мои воспитанники попросили разрешения приготовить еще мою пьесу «Последняя воля» почти самостоятельно. И действительно, я дал всего-навсего, как сейчас помню, девять классов, а в течение месяца большая пьеса была поставлена и сыграна в выпускном спектакле, который, между прочим, сильно выдвинул Книппер. «Заводилой» всего этого был Мейерхольд. Помню еще спектакль «В царстве скуки» – французская комедия Пальерона. Мейерхольд со своим товарищем даже обставил маленькую школьную сцену с отличной режиссерской выдумкой и технической сноровкой.








