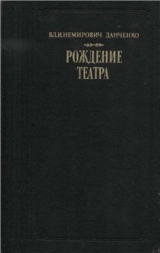
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
В вопросах о назначении искусства, о художественном направлении театра, о соотношении гражданских и эстетических задач Немирович-Данченко и Станиславский были единодушны. По верному наблюдению одного из исследователей великие искания двух великих мастеров театра «скрытым источником своей энергии имели то, что для обоих театр в чем-то был стыден и сомнителен; нуждался в оправдании»[8]. Их смущала лицедейская (а значит, есть опасность фальши) природа сценического ремесла. О стремлении мхатовцев преодолеть, «этически оправдать» лицедейство писал в свое время критик П. А. Марков.
Вот откуда рождался приоритет задач внеэстетических, идейных, общественных. Театру мало было наращивать мастерство и поднимать, изощрять художественную культуру, театр не желал оставаться только художником, он стремился требовательно и смело вторгаться в действительность, будить и взвинчивать публику остротой поднятых общественных вопросов, просвещать и вести ее за собой. В определении и проведении этой репертуарной программы первостепенная роль принадлежала Немировичу-Данченко. Он был настоящим {14} штурманом мхатовского корабля, неуклонно разворачивал его навстречу крупным, особенно волновавшим общество вопросам и темам. Все наиболее чуткие художники чувствовали, что Россия вступает в какую-то новую, очень ответственную, чреватую катаклизмами и крутыми переменами пору своей судьбы. Владимир Иванович пристально следил за современной литературой, лихорадочно искал новых пьес, которые помогли бы театру энергичнее ворваться в жизнь. Нередко подбадривал себя – в борьбе с усталостью, разочарованиями, приступами апатии и вялости (бывало и такое) – смелее, смелее, еще смелее! Ему полюбилась римская поговорка – «жить – значит воевать!».
Воинствующим пафосом утверждения гражданской миссии МХТ, чувствах! патриотической ответственности за его роль в судьбах России, русского общества и особенно интеллигенции пронизана деятельность Немировича-Данченко. Прав П. А. Марков, когда писал, что еще в своей драматургии Немирович-Данченко «постоянно касался самой важной для него проблемы – о силе и бессилии русского интеллигента, о его противоречивой судьбе в условиях современного ему общества»[9]. Интеллигенция – мозг страны, от ее выбора, от выдвинутой ею программы, зависело очень многое. Ее крен в пользу все более отчетливого радикализма многое предопределил в развязавшейся социально-классовой борьбе.
Немирович-Данченко испытывал постоянную тревогу за избранный МХТ курс. Как никто он чувствовал постоянную опасность для театра (не имеющего постоянных субсидий и вынужденного зарабатывать на свое содержание) соскользнуть в сторону коммерческого, забавляющего, поверхностного искусства. Подстерегала и распространявшаяся эпидемия чисто формальных исканий, увлечений декадентской модой. МХТ не вполне избежал этих болезней.
И потому административный глава театра не уставал призывать к бдительности. В письмах, статьях и речах, в интервью и обращениях к труппе он взывал к гражданским чувствам своих соратников. Приведем некоторые из его наставлений. Еще до открытия МХТ Немирович-Данченко касался проблемы соотношения в репертуаре классики и современной драматургии. Его точка зрения была достаточно категорична: «Если театр посвящает себя исключительно классическому репертуару и совсем не отражает в себе современной жизни, то он рискует очень скоро стать академически мертвым… Театр должен {15} служить душевным запросам современного зрителя!.. Отзывчивость… в ответах на его личные боли. Если бы современный репертуар был так же богат и разнообразен красками и формой, как классический, то театр мог бы давать только современные пьесы и миссия его была бы шире и плодотворнее, чем с репертуаром смешанным»[10], Необходим захват обширного круга «мучающих современного зрителя вопросов». Спустя четыре года он волнуется, почувствовав стремление сделать МХТ «модным», опасается, что «в нашем театре форма совершенно задушит содержание и, вместо того, чтобы вырасти в большой художественный театр с широким просветительским влиянием, мы обратимся в маленький художественный театр, где разрабатывают великолепные статуэтки для милых, симпатичных, праздношатающихся москвичей»[11]. В обращении к членам товарищества МХТ Немирович-Данченко пишет: «Наш театр должен быть большим художественным учреждением, имеющим широкое просветительное значение, а не маленькой художественной мастерской, работающей для забавы сытых людей»[12]. Его приводит в «уныние», тревожит то, что возникшее «стремление к новизне формы, к новизне во что бы то ни стало, к новизне преимущественно внешней, пожалуй, даже только внешней, это стремление начало уже давить полет идей и больших мыслей… Театр изящных статуэток никогда не захватывал меня»[13]. По мере приближения к революции 1917 года обостряется внутреннее душевное состояние руководителя МХТ. Он чувствует нарастание кризиса, в нем кипит негодование, поднимается «злоба» и бунт при одной «мысли о нашем обществе, о его малодушии, снобизме, мелком, дешевом скептицизме, отсутствии истинного, широкого патриотизма, вообще о всей той душевной гнили и дряни, которая так свойственна рабски налаженным буржуазным душам»[14]. Немирович критикует свой (поставленный ранее совместно со Станиславским) спектакль «Горе от ума» за то, что он «все-таки сведен к красивому зрелищу, лишенному самого главного нерва – протеста», и, размышляя о красоте, сделает резкий, но справедливый вывод: «В настоящий момент особенно ярко чувствуется, до какой степени красота есть палка о двух концах, как она может поддерживать и поднимать {16} бодрые души и как она, в то же время, может усыплять совесть. Если же красота лишена того революционного духа, без которого не может быть никакого великого произведения, то ока преимущественно только ласкает бессовестных»[15] (1915).
В мхатовской практике случались отступления от высокой просветительской миссии, но они никогда не становились правилом, не перерастали в тенденцию. В следовании жизни, в отношении к идейным задачам лидеры театра ориентиров не меняли. «В конце концов, ведь и Вы и я, – писал Немирович-Данченко Станиславскому в 1936 году, – можно сказать, почти не меняли нашего направления с момента возникновения Художественного театра»[16]. И незадолго до смерти Владимир Иванович скажет молодому сотруднику МХТ: «Весь театр существует для познания человеческого»[17].
Немирович-Данченко и стремится выбирать пьесы, в которых дышит жизнь, отражаются больные, неотложные общественные проблемы, где через судьбы отдельных людей просматривалась бы судьба Родины. Его требовательной волей на афише МХТ утверждается не только А. П. Чехов, но и М. Горький, Л. Н. Толстой, появляются произведения Л. Н. Андреева, Г. Ибсена. Напомним, что все они – современники Художественного театра.
Уважением к достоинству личности, романтической верой в свободу, в возможность и необходимость поднять со дна жизни всех людей был пронизан спектакль «На дне». «Человек – это звучит гордо!» – воодушевленно призывал очнуться и задуматься о себе со сцены Сатин – К. С. Станиславский. «На дне» имело невероятный резонанс в публике. Немирович был в этом спектакле сопостановщиком Константина Сергеевича. Растроганный Горький подарил ему экземпляр «На дне», украшенный богатым переплетом с серебряной и золотой отделкой, на котором написал: «Половиной успеха этой пьесы я обязан Вашему уму и таланту, товарищ!»
В МХТ утвердилось восторженное отношение к Горькому. Вскоре на афише появились его «Дети солнца» (в той же совместной режиссуре). Спектакль ворвался в напряженную революционную атмосферу событий 1905 года как мощный снаряд, как обвинительный документ, направленный против прекраснодушия, безответственности и краснобайства русской интеллигенции, зараженной либерализмом. Глубокая достоверность спектакля привела на премьере к драматическому {17} недоразумению. Массовую сцену в финале Немирович поставил так, что эту «мою артель штукатуров публика приняла за черносотенцев, которые пришли громить театр, начав с артистического персонала» («Из прошлого», с. 207). Зрители, у которых нервы оказались послабее, повскакали с мест, бросились из зала.
В сходной атмосфере, вызывая бурные реакции, шли ибсеновские «Доктор Штокман» и «Бранд». Благородный Штокман – едва ли не лучшая роль Станиславского – во имя истины мужественно и самоотречение шел наперекор обывательскому, мещанскому большинству. Требовательным максимализмом (все – или ничего!) захватывал публику Бранд – В. И. Качалов, мечтавший о счастье человечества, призывавший к радикальному переустройству общества: «Всею душою должны вы хотеть нового, все гнилое, старое – вырвать с корнем». «Бранд» казался его постановщику Немировичу-Данченко «самой революционной пьесой… революционной в лучшем и самом глубоком смысле слова»[18].
Духом протеста, смелой перекличкой с политической злобой дня были пронизаны и некоторые из постановок классиков. Весьма современным, актуальным стало мхатовское прочтение «Юлия Цезаря» Шекспира, поставленного Владимиром Ивановичем в канун революции 1905 года. Потрясающее воздействие на зрителей оказывала сцена гибели Цезаря. Политический смысл его убийства, историческая правда трагедии волен режиссера входили в соприкосновение с предгрозовой обстановкой в России. Сенатор Цинна у тела поверженного Цезаря подхватывал шест с надетой на него красной холщовой шапкой и, обращаясь ко всем, потрясая шестом, кричал: «Свобода, вольность, мертвым пал тиран. Бегите, провозглашайте это по улицам!»
Стремясь насытить репертуар «взрывными» произведениями, Немирович-Данченко пытается в 1905 году включить в него пьесы, ранее запрещенные цензурой. Но задуманные к постановке «Саломея» О. Уайльда и «Каин» Байрона не были осуществлены – общая цензура их разрешила, но твердое вето наложило высшее церковное руководство – Синод.
Подъем и последующий спад протестующего пафоса МХТ, радикалистских настроений в его коллективе, в репертуарных стремлениях отражал трансформацию общественного сознания. Театр имел своим основным кругом зрителей – либеральную интеллигенцию и молодежь, студенческую в особенности. Их настроения, мировоззрение {18} и чаяния в значительной мере питали и определяли идейно-художественную платформу МХТ. Характерна запись Немировича в дежурном дневнике театра в ноябре 1917 года: «Состав утренней публики почти обычный – средней интеллигенции…»[19].
Опыт революционных событий 1905 – 1907 годов произвел на интеллигентские круги ошеломляющее впечатление. Рухнули прекраснодушные романтические утопии, многое происходило совсем «не по Шиллеру». Вскрылись новые кричащие противоречия. От зоркого глаза Немировича-Данченко не могло укрыться, что «взбудораженная жизнь выбрасывала на поверхность и справедливое негодование и всякую муть и дрянь» («Из прошлого», с. 201).
Противоречия МХТ этой поры – типичные противоречия русского интеллигентского сознания начала XX века. Не миновали они и Немировича-Данченко. Он переживал происходившие в стране события остро, трудно, болезненно. Тревога глодала душу, лихорадочно работала мысль – травмированная, ищущая, жаждавшая духовной опоры. В резко изменившейся после потерпевшей поражение революции социально-исторической обстановке театр не мог оставаться на прежних позициях. «Чеховские милые скромно-лирические люди кончили свое существование», – вырвалось у Немировича в июне 1905 года[20]. Ему кажется, что театр отстает от времени, даже что ему грозит «гибель», которая заключается «не в отсутствии новых сил, а в том, что старые силы не хотят возвыситься над уровнем изображения обыденной жизни»[21]. И позднее, боясь, что искусство МХТ может лишиться своей актуальной силы, режиссер высказывает опасение, что и А. Н. Островский может показаться скучным, что и «Месяц в деревне» и «На всякого мудреца довольно простоты» (поставленные в МХТ) «могут вконец усыпить общественную совесть»[22].
Вслед за Станиславским Немирович-Данченко был убежден, что Театр никогда не смеет стариться, останавливаться на достигнутом, застывать в каком-то одном направлении, Театр всегда должен следовать за Жизнью, за человеком и его мечтой… Но понять, куда же стала двигаться жизнь после событий 1905 года, оказалось совсем не просто. Все казалось таким ясным, весенне-радостным и светлым – совсем еще недавно, в те бурные кануны, когда призывным набатом {19} звенело горьковское «Пусть сильнее грянет буря!». После бури пришли смятение и растерянность… Апатия и подъем сменяли друг друга. «Театр наш мечется, вертится волчком, волнуется, кипит, бурлит, выбрасывает на поверхность много скверной накипи»[23], – писал Немирович-Данченко на исходе 1900‑х годов. И сам он в ту пору во власти серьезного внутреннего разлада: «Я сейчас переживаю огромные потери… Многое в моей жизни разваливается»[24]. Ему кажется, что его обступают корыстные, чуждые его душе люди – «клопы и тля, клещи».
Кризис сознания порождала возникшая в стране необычайно сложная, напряженная и драматическая общественно-культурная и политическая ситуация. «Духи злобы поднебесной», хищно нацелившиеся на Россию, действовали с нарастающей энергией. Тогда, как выразился выдающийся мыслитель и публицист С. Н. Булгаков, «легион бесов вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит». Сызнова завязалась борьба с многоголовым драконом, пролог которой развернулся еще в предшествующем XIX веке. В народном восприятии и дуэль Пушкина с Дантесом – это бой со Змеем Горынычем, бой за честь Отчизны.
Деятельность МХТ продолжалась в весьма конфликтном культурно-историческом контексте. Становилась все более очевидной разобщенность значительных слоев интеллигенции (в том числе и художественной) с народом. Нарастало вторжение чужеродных русской культуре сил, подъем нигилизма и демонофильства. Развивалась разрушительная деятельность модернистов, декадентов, энергично штурмовавших каноны национального искусства, ту «красоту», призвание которой, по Достоевскому, в том, чтобы «спасти мир». «Образы прекрасного» засевались «адским семенем растления и смерти» (Вл. С. Соловьев). Андрей Белый в своих публицистических статьях писал тогда о вторжении «пришлых людей», «оскопителей», самозваных посредников между народом и его культурой, которые стремились «интернациональной культурой» и «модерн-искусством» «разделить плоть нации от ее духа так, чтобы плоть народного духа стала бездушной, а дух народный стал бесплоден»[25].
Во многих явлениях искусства вместо умерщвленной жизни, взамен духовного света представал «труп красоты» (С. Н. Булгаков). Не {20} случайно рождение именно в ту пору змееборческого цикла монументальных трагических полотен художника Виктора Васнецова, запечатлевших в разных вариантах борьбу добра и света со Змеем Горынычем.
Болезненные разрастания в идеологии, культуре, искусстве приобрели всякого рода «искательство», тяга к созданию надуманных химерических доктрин, концепций и прогнозов. Подобным мировосприятием были заражены значительные слои российской интеллигенции, которую не случайно называли «самой бродячей из всех на свете». Философия М. Штирнера, Ф. Ницше, а также разного сорта доморощенных Смердяковых, люциферический гипноз теории сверхчеловека опьянили тогда многие головы, породив настоящую эпидемию в интеллигентских кругах. Всякого рода «искателей», с глумливой ухмылкой бросавших под ноги достижения многовековой культуры, XX век плодил с поразительной быстротой и неутомимостью.
Конечно, искусство МХТ находилось на противоположном полюсе общественной борьбы. Но это не значит, что болезни времени его не коснулись. Как уже говорилось, театр и его руководители порой теряли чувство гражданской ориентировки, начинали двигаться по обочине общественной жизни. Быстрее других это понимал и чувствовал Немирович-Данченко.
В 1909 году, начиная репетиции новой пьесы Л. Н. Андреева «Анатэма», Владимир Иванович признавал, что за последние годы МХТ «отстал от своего назначения – идейности… Мы очень отстали от идей свободы, в смысле сочувствия страданиям человечества». Он говорил об измельчании реализма («потому только, что мы сами становимся мелки»), снова напоминал, что все должно идти от жизни, и именно жизнь должна быть самым первым источником сценического воплощения. В горьких сетованиях режиссера на то, что «мы стали ужасными октябристами», что жизнь мхатовских артистов «более буржуазна», чем следовало, угадывалось его стремление скорректировать мхатовское искусство общенародной точкой зрения. Он знал, что общественная миссия театра неполноценна без понимания актерами «крупных страданий»[26].
Для таких чутких художников, как Немирович-Данченко, была ясна неотвратимость новых – близких и крутых перемен. Подземный гул истории становился все слышнее, суля великие землетрясения. Назревала потребность в идейно обновленном углублении художественного творчества. Немирович с его зоркостью и удивительной интуицией {21} предсказывал (1910), что очень скоро наступят боевые дни, и звал готовиться к ним, смелее обновлять репертуар, чтобы не оказаться на «запятках»[27].
И потому надо быть более смелым и мужественным и не бояться «смотреть в глаза ужасу», смело «изображать ужас»[28], обрушивая его на всех усталых, дряблых, трусливых, в ком уснула совесть, пробивая броню равнодушия и самодовольства мещанского зрителя, эпатируя консерватизм «октябристской публики». Стыдно художнику бояться жизни, ему необходимо идти навстречу живым, бодрым, боевым силам, которые движутся впереди, обгоняя время, открыто исповедуют патриотический, народный идеал.
Да, в России уже накапливался «ужас», надвигалась удушливая трагическая тьма, въедавшаяся в души, – одним она слепила глаза и помрачала разум, в других будила хищное, звериное вожделение, у кого-то парализовала волю, сеяла отчаяние. Но вновь поднималось и встречное движение, зрела готовность к сопротивлению и борьбе, пробуждались патриотические чувства. В печати тогда неоднократно говорилось о «явном возрождении героических настроений русского общественного сознания вообще и молодежи в частности»[29]. Все участники грядущих катаклизмов (их прологом стал 1914 год, когда началась первая мировая война) были налицо, многие пока еще только толпились в кулисах Истории, но в любой момент готовые рвануться к ее авансцене.
Немирович-Данченко продолжал искать пьесы с «боевыми нотами», в которых бы «звенела» современная жизнь. Но их не находилось… Владимир Иванович, вероятно, разделял общественную позицию, высказанную Станиславским в одном из обращенных к нему писем (1906): «Я думал и продолжаю думать, что Вы сами хотите, чтобы наш театр не был ни революционным, ни черносотенным. В этом направлении я и действовал. Не хотел бы возбуждать ни революционеров, ни черносотенцев»[30].
Поиски сызнова привели к русской классической литературе. Интуиция помогла найти автора, чье творчество выводило театр к современности: режиссер «штудирует» Достоевского, перечитывает его романы. Выбор падает на «Братьев Карамазовых».
{22} В пору, когда смердяковщина и карамазовщина все ощутимее заявляли себя в действительности, выбор был актуальным. Спектакль МХТ, поставленный Немировичем-Данченко по собственной инсценировке в 1910 году с участием лучших артистов, стал этапным в биографии театра. Не менее злободневной была и постановка следом спектакля «Николай Ставрогин» по роману Достоевского «Бесы».
Режиссер главное внимание сосредоточил на внутренних, психологических процессах – на том, что происходит в душах героев. Мысль писателя о том, что «дьявол с богом борется и полем битвы являются сердца людей» («Братья Карамазовы»), не могла не стать ключевой для сценического истолкования. Вот откуда убежденность Немировича в том, что «форма» спектакля – простая, реальная постановка и простая, реальная игра, а «самое великое – углубление психологии с актерами». Он не раз повторял: «Карамазовы» могут идти «только на прекрасной игре». И репетируя «Николая Ставрогина», он уверен: «Если удастся стихийность всех этих перипетий, одержимость “бесами”, внутренняя, а не только внешняя, – то должно получиться представление замечательное»[31].
Обращение МХТ к произведениям, поднимавшим проблемы огромного духовного масштаба, ключевые для путей национальной истории, было продиктовано тревогой, чувством боли за судьбу страны, стремлением прочесть ответы в душах людей, в русских характерах, освещенных «проникновенной прозорливостью» Достоевского.
На рубеже 1910‑х годов, в пору рождения «Братьев Карамазовых» на сцене МХТ, тема России, которая «проснулась и не заснет» (М. Горький), продолжала утверждаться в общественном сознании, особенно в публицистике. А. А. Блок, например, ощущал эту тему как самую большую и жизненную. В декабре 1909 года он писал К. С. Станиславскому: «Недаром… произношу я имя: Россия. Ведь здесь – жизнь или смерть, счастье или погибель. К возрождению национального самосознания… влечет, я знаю, всех нас»[32].
И Немирович-Данченко, поясняя интерес МХТ к Достоевскому, указывал на национальную самобытность его произведений как неистощимый источник духовного обогащения артистов. Не случайно ему тогда представлялось, что «самым благородным материалом для подлинного актерского творчества являются лишь образы русской жизни»[33]. Спектакли МХТ по романам Достоевского включались в {23} силовое поле той «огромной концепции» живой могучей России, которая, по словам Блока, была завещана потомкам нашей литературой от Пушкина и Гоголя до Толстого.
Эта встреча имела важное значение для продвижения в театр наследия Достоевского, но гораздо больший смысл заключала она для судеб режиссерского искусства, для судеб сценической реформы, осуществлявшейся МХТ. Именно «Братья Карамазовы» сделали окончательно очевидным все могущество, огромные возможности режиссуры, а одновременно ограниченность «условностей» старой театральной эстетики. «Если с Чеховым театр раздвинул рамки условности, то с “Карамазовыми” эти рамки все рухнули, – писал Немирович-Данченко после премьеры. – Все условности театра как собирательного искусства полетели, и теперь для театра ничто не стало невозможным… Это не “новая форма”, а это – катастрофа всех театральных условностей, заграждавших к театру путь крупнейшим литературным талантам»[34]. На этом спектакле театральная реформа МХТ прошла этапную проверку.
Как известно, с протестом против включения Достоевского в репертуар МХТ выступил М. Горький, его упреки метили прежде всего в Немировича-Данченко, как инициатора такого репертуарного выбора. Протест Горького прозвучал достаточно одиноко, крайний субъективизм его позиции был очевиден. К тому же статьи «О “карамазовщине”» и «Еще о “карамазовщине”» (1913) он писал, не видя спектаклей. Одновременно в печати появился ответ МХТ: «Нам тяжело было узнать, что М. Горький в образах Достоевского не видит ничего, кроме садизма, истерии и эпилепсии, что весь интерес “Братьев Карамазовых” в Ваших глазах исчерпывается Федором Павловичем, а “Бесы” для Вас не что иное, как пасквиль временно-политического характера. Наша обязанность, как корпорации художников, напомнить, что те самые “высшие запросы духа”, в которых Вы видите лишь праздное “красноречие, отвлекающее от живого дела”, мы считаем основным назначением театра»[35].
В русской публике, в широком общественном мнении утвердилось иное, чем у Горького, мнение об инициативе МХТ, – сходное тому, которое было высказано Немировичем-Данченко в письме Леониду Андрееву: «Постановка Достоевского достигает результатов как раз диаметрально противоположных – подъема созидательного, а не разрешительного, {24} возбуждения и жажды громадных положительных идей, а не отрицательных»[36].
Воодушевленный успехом, Немирович-Данченко предполагает продолжить и развить идею синтеза театра и литературы. Он мечтает инсценировать романы и повести «Война и мир», «Анна Каренина», «Обрыв», «Вешние воды», «Записки охотника». Его привлекает разработка библейских сюжетов.
Однако можно было бы напомнить режиссеру его собственное предостережение – если театр посвящает себя исключительно классическому репертуару, он рискует очень скоро стать академически мертвым. Нужда – и острейшая! – в пьесах о современной жизни не иссякала. Театр должен беспокоить, тревожить публику, даже злить, – иначе он «катится вниз». «Самый страшный для меня вопрос сейчас – на каких пьесах можно что-нибудь доказывать…», «я начинаю приходить в отчаяние от “беспьесья”…» – характерные настроения Немировича-Данченко 1910‑х годов[37]. Необходимо было еще и оградить театр от проникновения пошлой, бульварно-развлекательной драматургии, которая захлестывала русскую сцену. И руководитель МХТ в конце концов принимает решение использовать репертуарную «паузу», чтобы «укрепить старый репертуар», пересмотреть весь опыт Художественного театра, все его «дело», искусство, организацию, проверяя их правдой, искренностью, строгостью к самим себе. Владимиру Ивановичу представляется, что МХТ «болен, и очень сильно». По его инициативе возобновляются старые спектакли, он сам энергично входит в эти репетиции, «чтобы хоть те пьесы, которые составляют наш старый Художественный театр, шли действительно образцово». Можно согласиться с мнением исследователя, что Немирович-Данченко искал для МХТ «спасения в русской классике, как бы нащупывая в истоках прошлого опору для будущего. Он противопоставлял величие русской классической литературы временному торжеству упадочной литературы… И Художественный театр был для него в первую очередь русским театром, хранившим великое идейно-творческое наследие русской литературы, театром Чехова и Горького, Толстого и Грибоедова, Островского и Тургенева, Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина»[38].
Вероятно, эти глубокие опоры, верность правде и духовным идеалам {25} отечественной культуры, постоянная самопроверка по камертону вечных ценностей и обусловили необычайную «живучесть» МХТ, которая помогла ему выстоять в дальнейших потрясениях, пройти сквозь суровые испытания революционных лет, стать нужным в новую эпоху. Силу мхатовцам давало «самое главное» – беззаветная любовь, вложенная ими в театр, по словам Владимира Ивановича, любовь была «и цементом и воздухом дела».
Этой любви сохранили верность до конца оба мхатовских «капитана» – и Станиславский, и Немирович-Данченко. Театр был их гражданским служением России; искусство, идущее от жизни и обращенное к ней же, к народу, являлось фундаментом мировоззрения. Вряд ли можно согласиться с Немировичем-Данченко в том, что МХТ не имел политического лица. МХТ объективно выражал взгляды русской интеллигенции начала XX века, в некоторых моментах соприкасаясь с радикальным ее крылом. Как всякая либеральная идеология, она в данном случае не имела резкой политической отчетливости. Силу ей давала ясность общечеловеческого и общенационального идеала, имевшего последовательную демократическую устремленность, а это ставило МХТ выше однонаправленных групповых, партийных или эстетических притязаний, выше какой-либо моды. Немирович-Данченко писал, что ни он, ни Станиславский никогда не задумывались над тем, должен ли быть их театр «по репертуару либерален, или консервативен, или народническим, по инсценировке – символическим или натуралистическим». Они делали, что «находили нужным делать», направляя свое искусство по пути «общехудожественной формулы»[39].
Продиктованная крупно взятыми культурническими и нравственно-педагогическими задачами, независимостью от политически мелкой злобы дня, широта мхатовской позиции обусловила ту особенность ее восприятия, о которой Немирович-Данченко сказал: «Все находят в нашем театре что-то интересное и всякий же может найти что-то, что ему не нравится»[40].
Так происходило и до и после Октябрьской революции. Узкопонятые политические мерки просто неприложимы к театру, который в короткий срок достиг репутации лучшего в стране и достойно поддерживал эту репутацию несколько десятилетий. Что из того, что пьесу Немировича-Данченко хвалил император Александр III, что {26} сильное впечатление спектакли МХТ произвели на обер-прокурора синода Победоносцева и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича? Посещал театр и кайзер Германии Вильгельм и даже наградил Немировича-Данченко и Станиславского орденами «Красного орла».
Поклонником МХТ были В. И. Ленин и первый нарком просвещения А. В. Луначарский. Именно Ленин оказал театру поддержку в самый трудный для него период – в годы гражданской войны. Немирович-Данченко не однажды выражал признательность Луначарскому за его внимание к нуждам МХТ.
В 1920‑е годы МХТ подвергался бешеной травле со стороны левого фронта искусств, разного рода авангардистов, добивавшихся монопольного положения в театре, позднее – со стороны рапповской критики. По свидетельству Немировича-Данченко, МХТ был не однажды на грани катастрофы и гибели, но сам руководитель не терял веры в его жизнеспособность. И радовался тому, что среди многих театров Москвы «впереди всех по успеху пока все тот же Художественный театр (всегда полно)» (ноябрь 1921 года). Более того, Немирович-Данченко мечтал и надеялся, что МХТ накопит силы и соберется в новый, великолепный, опять первый театр в мире, свежий и богатый, на новые десять лет, по которому опять будут равняться все другие театры. Отчасти так оно и произошло. Обновленная актерами «второго призыва», труппа МХТ в 1920 – 1930‑е годы – как считал режиссер – была лучшей в мире по ансамблю и по яркости дарований.
Руководители Художественного театра своими выступлениями (и спектаклями!) сыграли огромную роль в развенчании левых течений в искусстве. Их бездуховность, абсолютизация формы, эклектика, дилетантизм получили беспощадную оценку Станиславского и Немировича-Данченко. Станиславский в последних главах книги «Моя жизнь в искусстве» (созданной в 1923 г.) протестовал против увлечения новизной ради новизны, театральностью ради театральности, против пристрастия к тому, что «более доступно глазу и уху» в ущерб большим чувствам, жизни человеческого духа. Резко выступил против профанации театра и Немирович-Данченко. В статье «Шарлатаны» (1923) он разоблачал и осмеивал «нагло-самоуверенных», крикливых фальсификаторов, которые властно врываются в атмосферу современных искусств, «портят воздух удушливостью», обманывают зрителей «подменой», суррогатами, мнимой новизной, подчиненной постороннему, «коммерческому расчету», разрушающему чистоту {27} и целомудренность художественной правды. «Чем в толпе больше жажды новизны, – говорилось в заключении статьи, – тем раздольнее шарлатанам… В русской толпе шарлатанству так же обеспечен успех, как и хлестаковщине. Эти два явления очень родственны».








