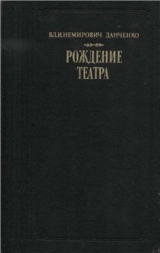
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)
Так были выброшены сюда волной Горький и Шаляпин. Чтоб еще больше укреплять веру в творческие силы народа. Через искусство.
Про Шаляпина кто-то сказал: когда бог создавал его, то был в особенно хорошем настроении, создавая на радость всем.
Про Горького можно было бы сказать, что бог, создавая его, было особенно зол на Петербург.
В отношении Горького к Петербургу не могло быть двух мнений.
Что Горький был для Петербурга определеннейший, ярый классовый враг, никто же не мог в этом сомневаться. И никто не тешил себя надеждой, что этот враг может перелицеваться. А между тем влечение к нему росло, росло с каждым месяцем, с каждой неделей. И влечение не только со стороны молодежи, его естественных сторонников, а именно со стороны высшей буржуазии, {195} его злейших врагов; самая гуща буржуазии, самый важный объект революции интересовались Горьким, искали его, пленились им.
У нас в театре было несколько бедных учеников, хотелось помочь им. Жертвовать каким-нибудь спектаклем было невозможно. Горький согласился сам читать «На дне» (он очень хорошо читал), но с условием маленькой аудитории. Сделали это чтение в два часа дня в небольшом фойе театра на сто «приглашенных» и взяли по 25 рублей за вход. Цена безумная, но билеты расхватали бы также, если бы мы брали вдвое.
Коварство искусства. Высокое произведение искусства всегда революционно, всегда разрушает какие-то «устои». Публика в бриллиантах, мехах и во фраках аплодирует прекрасному спектаклю, увлекаясь искусством и беспечно игнорируя зерно революции, которое в нем тайно заложено. Это особенно ярко чувствовалось в Петербурге при постановке «Мещан».
Какой любопытный политический треугольник на почве искусства: Петербург, Художественный театр и Максим Горький.
Глава четырнадцатая
1
Дело было так. Первая пьеса Горького была «Мещане». Всем нам очень хотелось, чтоб он написал пьесу из жизни босяков, – быт, – тогда еще нетронутый и особенно нас интересовавший, но из опасения цензуры надо было начать скромнее. Театр не успел поставить «Мещан» в Москве, и премьера должна была состояться в Петербурге, куда театр уже выезжал каждую весну. За это время – от ялтинской встречи до «Мещан» – слава Горького росла с такой быстротой, что он уже был избран почетным членом Академии. Президентом Академии был великий князь Константин Константинович. Поэт, театрал, сам драматический любитель. На него со стороны высшей администрации был сделан нажим, и он опротестовал выборы Горького. Это вызвало возмущенные толки, и в виде контрпротеста Чехов и Короленко, бывшие уже членами Академии, заявили о своем уходе.
{196} На представлениях «Мещан» ожидались демонстрации, враждебные великому князю. И, как полагается в таких случаях, выход был найден простой: запретить пьесу.
Мы начали хлопотать. Мне была устроена аудиенция у товарища министра кн. Святополк-Мирского, прославившегося либеральными проектами. Мне удалось убедить. Пьеса была разрешена условно – только для абонентов.
Художественный театр имел в Петербурге успех чрезвычайно широкий. Им увлекались все слои населения, каким театр был доступен, – и придворные с царской фамилией, и светские круги, и вся огромная интеллигенция, и вся передовая молодежь. Последняя особенно считала Художественный театр своим. Мы играли в первые годы в частном театре, приспособленном для оперных представлений, в котором в верхних ярусах было очень много мест плохих, из которых слышно, но не видно; эти места мы не продавали; однако они заполнялись в огромном количестве «зайцами», т. е. безбилетниками. Этих зайцев бывало до пятисот человек. Мы это знали и смотрели сквозь пальцы, так как это все была студенческая молодежь.
Я часто ходил к ним туда наверх беседовать в антрактах. Помню, одно из представлений «Доктора Штокмана» Ибсена – которого совершенно замечательно играл Станиславский – совпало с днем бурной кровавой манифестации у Казанского собора. Казалось, вечером молодежи будет не до театра; ведь значительная часть ее участвовала в этой манифестации; там было много товарищей, раненых, избитых, свезенных в больницы, арестованных; общее настроение было насыщено политикой. И, однако, вечером верхи театра были переполнены, как всегда. Пришли не остывшие от физической перепалки, возбужденные, голодные, но пропустить спектакль Художественного театра не могли. Помню, как говорила одна девушка, горячая, страстная:
«Ведь эта пьеса (“Доктор Штокман”) по ее политической тенденции совсем не наша. Казалось бы, нам надо свистать ей. Но тут столько правды, и Станиславский так горячо призывает к верности самому себе, что для нас этот спектакль и праздник, и такое же “дело”, как манифестация у Казанского собора».
{197} Несколько вечеров перед «Мещанами» я ходил к ним наверх просить не устраивать никаких демонстраций. Нам этот спектакль нужен, чтоб Горький писал для театра, – убеждал я, – а беспорядки вызовут репрессии, и мы потеряем такого автора.
Молодежь обещала и свое обещание выполнила. Только в последний спектакль «Мещан» кто-то, уж на прощание, не мог сдержаться и как бы для собственного удовлетворения пробасил на весь театр только один раз: «Долой великого князя».
Таким образом, со стороны молодежи спектакль был обеспечен. Но надо было еще гарантировать его от покушений высшего чиновничества, от самого министерства. Вот тут-то и начинается треугольник.
Нам помогли петербургские дамы, жены министров и, в особенности, одна из них, наиболее влиятельная, значит, и наиболее честолюбивая, – тут и честолюбие, и снобизм, и мода на Художественный театр, на Горького, и желание показать, что она имеет большое влияние на мужа.
Недаром говорили, что и в театре, и в художественной литературе успех всегда делают женщины.
Прежде чем получить окончательное разрешение на публичное представление, мы должны были сделать показную генеральную репетицию для начальства. На ней должно было решиться, насколько пьеса опасна сама по себе. И вот, с той быстротой, какая свойственна светской молве, об этой генеральной разнеслось по всему beau monde[104], нас забросали просьбами о ложах и первых рядах кресел для семей высшего чиновничества, для дипломатического корпуса, и репетиция собрала такую блестящую, в дневных выездных туалетах, элегантную и политически влиятельную аудиторию, какой позавидовал бы любой европейский конгресс.
Настроение у залы было приподнятое, а особенным успехом мы были совершенно сюрпризно обязаны не пьесе и не искусству театра и даже уже не самому Горькому, потому что его и не было в Петербурге, а одному из исполнителей, – причем, самому некультурному в нашей труппе и впервые выступавшему в ответственной роли.
То, что через двадцать лет будет называться «типажом», что будет основой актерской части в кино, на чем {198} Рейнхардт однажды построит свой спектакль (Artisten)[105], то Художественный театр не раз пробовал у себя. В «Мещанах» одной из главных фигур был певчий из церковного хора, бас. У нас среди начинающих оказался как раз такой певчий: большой, плотный, неуклюже-пластичный, с великолепной «октавой». Он был действительно певчий, а все свободное от службы время отдавал театру. Точно Горький списывал с него своего Тетерева. Фамилия его была Баранов. Как и все басы-певчие, он умел очень много пить и часто бывал буйным. Если бы он дожил до революции, он мог бы замечательно играть Распутина.
Вот он-то и произвел настоящий фурор. Именно дамы, именно петербургские светские дамы пришли от него в настоящий экстаз. От чего? От изумительного сценического воплощения? Какого-то сверхискусства? Или когда сама жизнь врывается в искусство и лязгает своим натурализмом? Конечно, так. Но что-то было тут еще, потому что после представления, за кулисами, эти дамы, душистые, изящные, всегда все красивые, окружили этого быка и наперерыв восхищались его «непосредственностью»…
2
Судьбой «Мещан» Горький уже мало интересовался, он уже писал «На дне» и был поглощен этой пьесой. Она сразу восхитила театр, работа над нею сразу закипела. Искание нового «тона» для горьковского диалога тоже прошло быстро.
Во все время постановки «На дне» Горький был среди нас, но тут наши роли часто менялись: часто уже не он властвовал над театром, а театр над ним. Я не люблю заниматься разгадыванием чужой психологии, но тут было слишком очевидно, что Горький как бы отдался своему успеху: отдался, может быть, впервые так полно, так вовсю. Тут надо было и идти навстречу множеству людей, которые рвались к нему по-настоящему, дружески, с серьезными запросами… Я встречал его у Скирмунт. Если память мне не изменяет, у них и жил он. Скирмунт, Бларамберг – один из лучших людей, каких я знал, редактор «Русских ведомостей» и композитор, жена его артистка и певица Бларамберг-Чернова… Эти люди, много {199} работавшие для народного просвещения, были в числе друзей Горького[106].
Надо было отдавать какое-то время и просто «шумихе», которая неизбежна в столичной жизни, если она затянет. Горький был, что называется, нарасхват. Одним из главных, если не главным, местом его пребывания был Художественный театр, состав которого был все-таки пестрый. Репетиции, обеды, ужины, встречи, выражения поклонения, беседы, чтения… Всегда очень энергичный и всегда с огромным самообладанием; смотрит в упор, хочет вас хорошо понять и если вы «свой», сейчас же полюбит вас; в вопросах, что хорошо, что дурно, не колеблется ни секунды и также непоколебимо уверен в себе. На репетициях был прост, искренен, доверчив, но где надо, и безобидно настойчив. Весь этот период, пожалуй, всю эту зиму (1902 – 1903), он вспоминается мне стремительным, довольным, как бы наконец вознагражденным за много лет тяжелой жизни. Во время премьеры «На дне», имевшей самый большой успех, какой бывает в театрах, он выходил кланяться, естественно, смущенный, без привычки выходить на публику, особенно рядом с искушенными в этом актерами, но очень довольный. «А хорошо, черт подери!» – восклицал он, входя в кабинет прямо со сцены, после вызовов, горячий, улыбающийся, тыкая в пепельницу папиросу, с которой так и выходил кланяться, или закуривая новую.
«Вот история-то с географией!» – выражение, которое он часто повторял.
Вот. Театр отдает все свое мастерство, максимум своего вдохновения, вся труппа охвачена радостью, вся – и лучшие из нее, играющие главные роли, и те, кто выходят в толпе босяков, громил и хулиганов, – все находятся в том высшем напряжении, когда человек успешно и радостно выполняет главнейшую задачу своей жизни; боевой тон, бьющие, как хлыстом, слова, революционно насыщенная подоплека пьесы нашли сильное, обаятельное {200} театральное воплощение; а из аудитории, которая в огромнейшей своей части состоит из злейших классовых врагов автора, из этой самой аудитории, против которой направлен весь гнев пьесы, несутся овации.
Коварство искусства.
Пройдет четверть века. В этом самом театре, в этих самых стенах будет играться эта самая пьеса, даже большинство актеров будут те же, только ставшие законченными мастерами: Луку будет играть тот же Москвин, Барона – тот же Качалов, и декорации и мизансцены останутся те же, не коснется их четвертьвековая эволюция театрального искусства, – словом, ничто на сцене не изменится. Совершенно неузнаваемо изменится только аудитория. Она вся будет новая, 25 лет назад эта аудитория не знала входа в этот театр, едва ли даже слыхала о нем около своих станков и машин. А теперь она сама заняла все места театра и с удовлетворенным чувством хозяина сама будет слушать те же слова, следить за теми же страстями, радоваться тому же искусству знаменитого Художественного театра. И еще восторженнее будет приветствовать актеров, и еще овационнее вызывать своего любимого гения. И когда выйдет автор с совсем не поседевшими и все еще очень густыми волосами, с глубокими бороздами по всему лицу, то с поразительной наглядностью обнаружится метаморфоза, происшедшая в этих строгих стенах знаменитого театра.
Глава пятнадцатая
1
Успех «На дне» стал мировым; для искусства Художественного театра этот спектакль после чеховских – один из самых показательных. Сезон 1902 – 1903 года можно назвать шедшим «под знаком Горького», так как из четырех поставленных пьес две принадлежали ему, а две других – «Власть тьмы» Л. Толстого и «Столпы общества» Ибсена – не заслонили его успеха. Однако на этом творчество Горького непосредственно для Художественного театра почти окончилось. Потом была еще одна его пьеса «Дети солнца», но ее судьба оказалась кратковременной. Это было уже в 1905 году.
За это время у нашего театра было много крупнейших переживаний, и среди них присутствие Горького играло не малую роль.
{201} Когда припоминаешь теперь эти три года, когда воображение рисует спектакли, какими они являлись перед публикой, вспоминаешь зрительный зал, захваченный высоким искусством, атмосферу художественной гармонии, радости, какую несли в публику «Юлий Цезарь», «Одинокие», «Вишневый сад», «Иванов», – и когда, вместе с тем, всматриваешься в закулисную атмосферу всех этих спектаклей, припоминаешь настроения в труппе – тревожные, дерганные, нервновзвинченные, неудовлетворенные, раздражительные, сбивчивые; там хотят растревожить нас новыми задачами, политическими, здесь впадают в уныние; где тоскуют, а где уже предсказывают близкий конец, – когда видишь это громадное несоответствие между настроениями по сю сторону занавеса и по ту, – тогда поистине поражаешься этой колоссальной, чудодейственной, прекрасной и блистательной лжи, которую ткет сценическое искусство.
Материала для бодрости и веселости у труппы было много. Начать с того, что мы уже имели постоянный театр – правда, с контрактом, ограниченным двенадцатью годами, но для молодого дела это казалось сроком огромным. Очень вкусно и уютно были сделаны артистические уборные, – у каждого актера своя, которую он отделывал, как ему хотелось, – везде большой порядок и чистота. Затем это были первые годы «Товарищества»; артисты, т. е. главные из них, становились хозяевами дела. Успех театра у публики был громадный, и тем больший, чем больше проникали в публику слухи о коллективном и интеллигентном духе за кулисами. Театр уже брал в руки руководящую роль, он уже вел за собой так называемую «общественность», уже начались те годы, о которых впоследствии, в течение десятков лет люди науки и «свободных профессий» будут говорить:
«Мы воспитывались на Художественном театре».
Каждый актер наш был желанным в клубах, в отдельных кружках, в салонах и гостиных. А так как артисту вообще не следовало часто показываться на публике без грима и костюма и наши очень долго держались этого правила, то это еще больше притягивало к ним внимание и любопытство.
Успех художественный был в эти годы особенно выдающийся. Постановка «Юлия Цезаря» побила славу знаменитых германских мейнингенцев, которые привозили {202} «Юлия Цезаря» как свой коронный спектакль. На этой постановке, помимо ее чисто художественных и артистических качеств, ярко обнаружился организационный талант Художественного театра, его коллективизм. Ни я, ни Станиславский не достигли бы таких успехов, если бы в постановке не принимал участие весь театр, в буквальном смысле весь.
В эти же годы был написан и поставлен «Вишневый сад» – лебединая песня Чехова, – спектакль, ставший потом «козырным тузом» в нашем сценическом искусстве.
Словом, сколько поводов было радоваться и бодро смотреть вперед. И возраст у труппы был самый благородный: пожилых людей было всего несколько человек, а то все от двадцати до сорока.
Но радость чистая посылается, очевидно, только как редчайшее благо, обыкновенно же она всегда бывает чем-нибудь отравлена, с червоточиной.
«Вишневый сад» и Чехов. Это только потом, много лет спустя могло казаться сплошным праздником; а на самом деле:
пока пьеса мучительно писалась автором, мучительно было ее ожидание в театре;
когда она пришла, она не произвела такого эффекта, на какой рассчитывали;
репетиции были очень неспокойные; было много трений с автором: Чехов хотел бывать на всех репетициях, но скоро убедился, что, пока актеры только «ищут» его присутствие больше мешает им, чем помогает; кроме того, его не удовлетворяли некоторые из них;
самый спектакль сначала вовсе не был принят публикой так шумно, как «Федор», «Чайка», «Штокман», «На дне», «Юлий Цезарь»;
а что еще любопытнее, – и сборы довольно скоро начали ослабевать. Я уже говорил в главе о Чехове, что такова была судьба всех его пьес: их оценивали по-настоящему только в дальнейших сезонах.
Прибавьте к этому потрясающее для театра событие: смерть Чехова. Через пять месяцев после премьеры «Вишневого сада».
Вот сколько мотивов, отравлявших атмосферу за кулисами.
А «Юлий Цезарь»?
{203} 2
Ну кто бы в зрительном зале поверил, что этот сверкающий непрерывной радостью спектакль – один из самых тяжелых и мучительных за кулисами? Настолько тяжелый и мучительный, что, несмотря на его громадный и художественный, и материальный успех, я его на второй год уже снял и продал в Киев: продал декорации, костюмы и даже дал киевскому режиссеру для использования мой режиссерский экземпляр. Публика, конечно, жалела об этом, а за кулисами были равнодушны или даже довольны.
Здесь мы встречаемся с интересными явлениями театральной «кухни».
Спектакль был очень сложный по количеству и по значению так называемых «народных сцен». Всю постановку мы трактовали как если бы трагедия называлась «Рим в эпоху Юлия Цезаря». Главным действующим лицом был народ. Главными актами были – улицы Рима, Сенат – убийство Цезаря, похороны Цезаря, восстание и военные сцены. В спектакле участвовало более двухсот человек. Для театра, приспособленного скорее для пьес интимного характера, это было много. А самое главное, что эти двести человек не были простыми «статистами», ремесленно отбывающими свою повинность за определенное вознаграждение. Это были вторые актеры, ученики нашей школы, студенты университета, с радостью искавшие заработка именно в нашем театре, итак называемые «сотрудники», служившие днем в разных учреждениях, а вечером в театре.
Пока шли репетиции, пока через весь этот люд раскрывалась римская трагедия в шекспировских образах, пока режиссура создавала в толпе интересные красочные группы, возбуждала страсти, искала пластических форм, – словом, пока шла работа и даже пока шли первые представления, все эти наши двести помощников, – люди все интеллигентные, горячие поклонники искусства – радовались, горели, отдавали все свои силы. В этом была главнейшая привлекательность народных сцен в Художественном театре, – что все участвующие в них приносили в театр все свое воображение и всю энергию, с такой же страстностью, как и исполнители главных ролей. Сколько мне приходилось позднее встречать в жизни адвокатов, учителей (даже двух ставших крупными писателями), которые говорили:
{204} «Вы меня не помните? Я был студентом в толпе “Юлия Цезаря”?.. или в толпе “Бранда”… или в “Штокмане”…»
И каждый неизменно прибавлял:
«Если бы вы знали, как многому мы научились на этих репетициях. И в психологии толпы, и в психологии личности, и во взгляде на исторические события, и – уж конечно – в развитии вкуса».
И вот, пока создавались целые роли в толпе – вольных гуляк, сенаторов, воинов, горячих патриотов, заговорщиков, жрецов, заклинателей, танцовщиц, куртизанок, весталок, матрон, торговок, – было радостно. И играть их – гримироваться, одеваться, выходить на рампу – было очень интересно. Но постепенно, после двадцати – сорока спектаклей, чувство новизны притуплялось, интерес исчерпывался, исполнение обращалось в заученное ремесло и начинало приедаться. А дисциплина продолжала предъявлять свои требования. Малейшая оплошность любого из этих двухсот заносилась в протокол и на завтра подвергалась замечанию, выговору или взысканию. Режиссура театра не допустила бы тех банальных, бездумных, сорных, неритмичных, непластичных народных сцен, какие бывают во всех театрах. И то, что раньше, в пылу новизны, не замечалось, теперь утомляло и угнетало: тяжесть кольчуг, щитов, вооружений, звериных шкур, головных уборов, тог, за складками которых надо было все время следить, утомительность переодеваний, непрерывность внимания, и все это то на сцене, то под сценой, то где-то над сценой, – это было тяжело, а подчас невыносимо.
Американский менеджер этого не поймет. Для него каждый из этих двухсот – определенный номер и больше ничего. Со своей точки зрения он и прав. Для нас же это живая душа, ее интересы не могут ограничиваться получаемым вознаграждением. В особенности надо считаться с учениками. Чем они талантливее, тем скорее им хочется выбраться из толпы и заиграть роли, а режиссура со своей стороны не может отказаться от их участия в толпе, где они дают великолепные «пятна» и отличный темперамент.
В дальнейшем Художественный театр избегал пьес с большим количеством народных сцен, но хороших «интимных» пьес, как Чехова или Островского, так мало.
{205} Вот это все отравляло закулисную атмосферу «Юлия Цезаря». Но не только это.
Всякий спектакль должен быть радостью для самих актеров, тогда он будет настоящей радостью и для публики. Иначе он, в лучшем случае, только отличное «искусство», всегда холодноватое, если не согрето прекрасным настроением актера. А в «Юлии Цезаре» играть было радостно, пожалуй, только для двоих: для Качалова, замечательного Юлия Цезаря, и для Вишневского, имевшего большой успех в Антонии. Публике и в голову не приходит, какое терзание испытывает актер, когда она его не принимает. Да еще в спектакле, имеющем успех, да еще когда другие рядом «пожинают лавры». Замечательная актриса петербургского театра Савина в таких случаях со второго же спектакля отказывалась от роли. У нас это было невозможно: если можно было бы заменить, то сделали бы это на репетициях. Поэтому призрак неудавшейся роли гораздо больше пугал актеров во время репетиций, чем в других театрах.
А вообразите, если еще актер уверен, что он-то именно и идет по истинно художественному пути, что это публика не доросла до его вкуса, – что, разумеется, бывает очень часто. Так было здесь со Станиславским.
Он задумал образ «последнего римлянина» ярким, жгучим, революционным, а публика хотела видеть в Бруте один из «нежных» колеблющихся образов Шекспира. Как он ни совершенствовался в своем замысле от спектакля к спектаклю, эта трещина между ним и публикой не заполнялась. Настроение у него было нервное, и это давило на окружающих.
3
Наконец, было за кулисами очень тревожно в эту эпоху и от событий за стенами театра.
Японская война казалась бессмыслицей, ничем к тому же не оправдывавшей громадных жертв. Назревала революция 1905 года. Воздух все откровенней насыщался ненавистью.
«Мабуть[107], у нас хозяин плохой», – кричал мне приятель-крестьянин в деревне через улицу: он спросил меня «ну, как там у вас в столицах дела», я ответил «плохо». Под «хозяином» он явно подразумевал главу государства. И – вот видите – уже не стеснялся выражать свое мнение очень громко.
{206} Или еще: я ехал с юга. В летнее, праздничное после-обеда, около самой станции большого завода наш курьерский поезд убил работницу, каким-то странным ударом, только в висок. Во время длительной остановки я пошел в помещение, где она лежала на столе, – молодая, красивая, полуоголенная, – как-то особенно блестело очень белое тело, – с очень маленькой ранкой над ухом. В окружавшей толпе на чем-то высоком сидела крупная работница с красивым, широким, чисто русским лицом, мокрым от слез, и грызла семечки.
«Гляди, гляди, – вдруг заговорила она, смотря в мою сторону злыми глазами, – полюбопытствуй, покуда тебя самого не раздели этак же…»
Взбудораженная жизнь выбрасывала на поверхность и справедливое негодование и всякую муть и дрянь.
Один джентльмен рассказывал… Возвращался он под утро, когда люди идут на работу, из клуба, с хорошим выигрышем, в отличном утреннем настроении недосыпа, на великолепной извозчичьей пролетке… На одном перекрестке пришлось задержаться. Тут же, около самой пролетки задержалась и группа рабочих, переходивших улицу. Один из них внимательно посмотрел на седока и влепил ему такую фразу:
«Нацеловался, сукин сын?»
(Он произнес другой глагол, непечатный.)
Или еще: Возвращался я из Екатеринослава. На станции Маленькое Синельниково поезд стоял минут двадцать. Было около полуночи. Я был в купе один. Окно выходило на сторону за поездом от станции. Платформа, покрытая белыми морскими ракушками, была залита зеленоватым светом от невидимого электрического фонаря. Ни души. Подальше – товарный поезд, с кондукторским фонариком, оставленным на ступеньках вагона. Я прислушивался к тишине, и мне все казалось, что ракушки поскрипывают под чьими-то шагами. А недели за две перед этим я слышал, что около одной из вот этих станций в поезде было ограбление. Вспомнив об этом, я стал внимательно всматриваться вдоль моего поезда: никого. Но только что после звонков поезд двинулся, как от самой стенки моего вагона, почти под моим окном, отделилась фигура и встала на ступени. А за нею другая. Я бросился в коридор искать проводника. Его не было. У окна с этой стороны стоял пассажир.
– На что вам проводник?
{207} – Мне кажется, в вагон вошли какие-то подозрительные люди.
– Ну, вот еще… Пустяки, – рассмеялся он.
Однако я ушел в купе и запер дверь на ключ и на цепочку. Через несколько секунд я слышал, что мой храбрый сосед сделал то же.
Поезд уже несся. Вдруг ручка моей двери задвигалась. Потом завертелся ключ, цепочка не пустила. Потом сильный шепот: «На цепочке!» Дверь тихо прикрылась. В это время с противоположной стороны коридора с шумом вошли, громко разговаривая, двое, и в то же мгновение – бац! бац! – один за другим два выстрела и падение тел. Я кинулся отворять дверь, но вовремя сообразил, что подставлю грудь под выстрел, в это время зашипел тормоз, и поезд грузно остановился. Очевидно, те соскочили, в коридоре тишина, я открыл дверь, на полу два тела и фонарик, я кинулся к ближайшему, кровь… Мой храбрый сосед крепко притаился в своем купе. Я к своему окну. Далеко направо на пути стояла бригада кондукторов в белых кителях, освещенные луной. Обер-кондуктор уже кричал мимо меня машинисту: «Ступай! Ничего нет». Я их позвал.
Наш проводник оказался убитым, а его товарищ серьезно раненным.
Глава шестнадцатая
1
В эволюции русского актера, – от бродячих Несчастливцева и Аркашки[108] до актера – гражданина Советского Союза, – в этой эволюции быт Художественного театра играл большую роль. Здесь актер больше чем где-нибудь был вовлечен в жизнь и интересы передовой интеллигенции.
Подумать только: когда я впервые попал за кулисы знаменитого Московского Малого театра, там первый актер Самарин еще говорил актеру на маленькие роли, почтенному Миленскому, «ты», а тот ему «вы», «Иван Васильевич».
Потом от такого обычая не осталось и следа, а все-таки между группой блестящих премьеров и вторыми актерами была ощутимая пропасть.
Лучшие столичные актеры обладали прекрасным литературным вкусом, любили и хорошо знали классиков {208} литературы, но были далеки от новых кипящих течений – и не только в жизни, но и в литературе. И их быт – связи, привычки, мораль… Конечно, они не были так отрезаны от общества, как актеры провинции, где благочестивые обыватели все еще чурались «комедиантов»… В Москве, в Петербурге они имели крепкие связи с семейными домами, друзей среди профессоров университета, были членами клубов, вообще пользовались почетом и уважением, но они все еще продолжали брать «бенефисы»; на этих бенефисах принимали всякие подношения – и цветочные, и ценные, и серебряные сервизы, и меха. Как ни толкуй, что это дань любви, симпатии и т. д., а все-таки это ставило актера в обособленное положение. В Художественном театре борьба с привычками старого театрального быта шла по всем фронтам. Бенефисов не было, цветы и даже венки отправлялись артисту в уборную; актеры даже не выходили кланяться публике на аплодисменты. Да и внешне на актерах, в особенности на актрисах, не было этого специфического актерского cachet[109]. Это шло, вероятно, и от самого искусства, ведь оно кладет свою печать и на дикцию, и на манеру говорить, двигаться: чем больше простоты в искусстве, чем меньше в нем «искусственности», тем проще актер в жизни.
И пульс общественной жизни чувствовался в Художественном театре сильно. У труппы были связи во всех слоях. Симпатии актеров были, конечно, до крайности различны. У одних их душенные наклонности, их музыка жизни складывалась под такими влияниями, какие можно было бы назвать «чеховскими» или «толстовскими», нечто антиреволюционное, а может быть, и вовсе аполитичное. Одна из наших крупных актрис не считала нужным скрывать, что никогда не читает газет. Но по многим горящим глазам можно было догадаться или в каких-то сдержанных беседах по углам подслушать и музыку того, что надо было назвать «горьковским».
«Права не дают, а берут!»[110]
В главе о Морозове я рассказывал про его трагическое увлечение революцией. Наш главный пайщик, миллионер-фабрикант.
В молодежи, если одни увлекались Метерлинком, Бодлером, д’Аннунцио, Оскаром Уайльдом и уже мечтали о новых сценических формах, то другие заняты были {209} планами народных театров и, для осуществления их, даже уходили от нас.
Большое впечатление за кулисами театра производило поведение Марии Федоровны Андреевой. Едва ли не самая красивая актриса русского театра, жена крупного чиновника, генерала, преданнейшая любительница еще «кружка Алексеева», занявшая потом первое положение в Художественном театре, она вдруг точно «нашла себя» в кипящем круге революции, ушла от мужа, а скоро после этого и бросила сцену.
В конце концов, когда ставилась следующая пьеса Горького «Дети солнца», атмосфера в театре была совсем-совсем не такая, как три года назад. С самого начала чувствовалось, что публику не удастся мобилизовать в театр. Антрепренеры знают, что во время войны сборы в театрах поднимаются, во время же революционных брожений сильно падают. Японская война уже была проиграна; Витте заключил в Портсмуте двусмысленный мир, за что получил графский титул; в Петербурге делали bonne mine au mauvais jeu[111]; по всей России поднимались угрожающие волны; по Москве ходили толпами, с площадей то и дело разгоняли; площадь около памятника Пушкину, удобная для митингов, начала приобретать историческое значение. В это же время «земские люди» уговаривали царя спасти положение конституцией, но он еще верил, что революционеров во всей России немногим более ста сорока.








