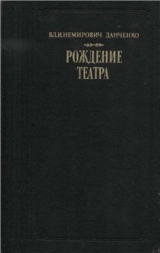
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
{179} 5
Летом состоялась их свадьба[97], совершенно интимная, о которой узнали только на другой день, когда они уехали и прислали телеграмму (я один был посвящен в секрет). К этому времени Морозов помог нам организовать товарищество, состоящее уже не из директоров Филармонии, а из самих артистов, причем Чехов также вступил пайщиком. И стал к театру еще ближе.
Я думаю, что все это время было самой счастливой порой его второй молодости. Дальше пошло хуже: чем больше любви, тем больше тоски; они были разлучены; он прикован к югу и скучал и тосковал сильнее прежнего. К их взаимной неудовлетворенности прибавились еще ее терзания совести – точно она изменяла какому-то своему священному долгу: смеет ли она отнимать у него такую для него дорогую близость, смеет ли оставлять его в отчаянно скучном одиночестве ради своей сценической карьеры? Стоит ли ее карьера этих лишений?
Как сейчас вижу ее фигуру зимой за кулисами, перед выходом на сцену; сидит в сторонке, избегает с кем-нибудь разговаривать, каждую секунду готовая заплакать. А в так называемом «обществе» всех сортов – сплетницы, завистницы, любительницы заниматься чужими делами или истерически увлекающиеся поклонницы таланта Чехова – и мужчины, похожие на таких женщин, создали атмосферу какого-то порицания Книппер.
Письмо.
Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучает, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Но как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена, и я чувствовал бы угрызение совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе, то есть, когда женился, ясно сознавал, что зимы ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным. Напротив, мне кажется, что все идет хорошо или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями. В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди, уповай. Уповай и больше ничего.
{180} Счастье было урывками: то едет она в Ялту на пять дней, я должен был заменять ее в репертуаре, чтобы отпустить раньше окончания сезона.
Такая уж значит моя планида. Я тебя люблю и буду любить, хотя бы даже ты побила меня палкой…
Нового, кроме снега и мороза, ничего нет, но все по-старому. Каплет с крыш, весенний шум, но заглянешь за окно – там зима. Приснись мне, дуся.
Рассказов он уже почти не пишет: за два года написал только два. Он глубоко и искренне морализирует, причем с изумительным художественным чутьем обходит опасность впасть в резонерство. В «Трех сестрах» есть замечательный, пророческий монолог:
«Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять или тридцать лет будет работать уже каждый человек. Каждый».
Успех он имеет в это время огромный. Успех его пьес придал ему какое-то еще новое обаяние, читали его все больше и больше, вчитывались и все больше и больше любили. Он мог бы еще десять лет ничего не писать, а слава его росла бы. Занят он был только пьесой. Задумывал ее еще летом, гостя у Алексеевых в Любимовке, – в той самой Любимовке, где происходила моя первая беседа со Станиславским. Чехов думал о «Вишневом саде». Впрочем, большую часть времени посвящал своему любимому занятию – удил рыбу.
6
Ни одной пьесы, ни одного рассказа он не писал так медленно. То сюжет «Вишневого сада» кажется ему в самом деле водевилем:
Хотелось бы водевиль написать, да холодно. В комнатах так холодно, что приходится все шагать, чтобы согреться.
То пьеса ему кажется не в четырех, а в трех действиях. То он не видит у нас актрисы для главной роли.
{181} Если и напишу что-нибудь пьесоподобное, то это будет водевиль.
Пишу по четыре строки в день и то с нестерпимыми мучениями.
Погода ужасная, сильный ревущий ветер, метели, деревья гнутся. Я ничего – здоров. Пишу. Хотя и медленно, но все же пишу.
Я никак не согреюсь. Пробовал писать в спальне, но ничего не выходит: спине жарко от печи, а груди и рукам – холодно. В этой ссылке я чувствую и характер мой испортился, и весь я испортился.
Ах, дуся моя, говорю искренне, с каким удовольствием я перестал бы быть в настоящее время писателем.
А писать надо было потому, что мы из Москвы напирали, нам во что бы то ни стало надо было иметь от него новую пьесу.
Ялта – прекрасный, очаровательный городок, такой жемчужины не найти ни на всей Французской, ни на Итальянской Ривьере, но она оторвана от Москвы, от тех, которые были близки его душе, от столичного шума и от столичных интересов, к которым он так привык. Всегда жизнерадостный, он чувствовал себя здесь не в своей стихии. Он никогда не был кабинетным человеком. Ему всегда были нужны люди. Здесь, за одним-двумя исключениями, жили, может быть, люди и прекрасные, но для него скучные, приходили к нему, как говорится, «почесать языки».
Из его письма ко мне:
Мне скучно ужасно. День я еще не замечаю в работе, но когда наступает вечер, приходит отчаяние. И когда вы играете второе действие, я уже лежу в постели, а встаю, когда еще темно. Представь себе: темно, ветер воет и дождь стучит в окно.
Да, вот представьте себе: в то время, когда Москва в его воображении – вся в вечерних огнях, когда в его любимом театре играют второе действие, может быть даже как раз второе действие его «Трех сестер», где осевший в провинции Прозоров говорит: «С каким бы удовольствием посидел я теперь в трактире Тестова», когда публика, {182} пользующаяся самыми простыми благами столицы, плачет над участью тех, кто томится в скучной, тоскливой глуши, – тогда именно автор, вызвавший эти слезы, испытывал отчаяние, как заключенный. А когда все, о ком он вспоминает, еще раным-рано спят, он уже встает: и вот – ветер воет, дождь стучит в окно, и еще темно.
Я пишу эту главу как раз в Ялте. Только что был в том доме, где теперь Чеховский музей. Героическими заботами сестры Антона Павловича дом благополучно пережил разруху гражданской войны. Ею же, Марьей Павловной, в образцовом порядке содержится музей. Сотни туристов со всех концов Союза, юных строителей новой жизни, наполняют его ежедневно и с жадным интересом вглядываются в каждый уголок, в каждый портрет. Дом весь белый, с белой крышей, хорошенький. За тридцать лет после смерти поэта сад удивительно разросся; деревья, которые Чехов сам сажал, уже большие-большие. Его кабинет не тронут. Если бы не стеклянный колпак-витрина над столом, мне казалось бы, что я недавно тут беседовал с Антоном Павловичем. Даже календарь на столе за последний день не оторван. Этот знакомый камин, на котором на камне нарисован пейзаж его друга, знаменитого Левитана… На этом камине прежде лежали заготовляемые каждый день воронки из бумаги для отплевывания, которые А. П. тут же бросал в камин. Огромное окно в сад с видом далекого моря. Когда Чехов умер, перед этим окном сестра его посадила кипарис. Теперь он высокий, стройный, мощный, стоит так красиво, точно стережет память о тосковавшем здесь за окном хозяине.
Кто-то сказал: прошлое ближе к вечности…
7
Наконец, от 12 октября:
Итак, да здравствует мое и ваше долготерпение. Пьеса уже окончена, окончательно окончена, и завтра вечером или самое позднее – 14‑го утром будет послана в Москву. Если понадобятся переделки, то, как мне кажется, очень небольшие. Самое нехорошее в пьесе то, что я написал ее не в один присест, а долго, очень долго, так что должна чувствоваться некоторая тягучесть, ну, да там увидим.
{183} Очень мало поправок потом он внес в эту его лебединую песнь, песню тончайшего письма. Образы «Вишневого сада» реальны, просты и ясны и в то же время взяты в такой глубокой кристаллизованной сущности, что похожи на символы. И вся пьеса – простая, совершенно реальная, но до того очищенная от всего сорного и обвеянная лирикой, что кажется символической поэмой.
8
Через большую борьбу с докторами и женой, обманывая самого себя, надувая себя как врача, Антон Павлович решил, что зимой ему можно приехать в Москву, что для туберкулеза вредна слякоть, а крепкие московские морозы – нисколько. И пишет он жене:
Милая моя начальница, строгая жена. Я буду питаться одной чечевицей, при входе Немировича и Вишневского буду почтительно вставать, только позволь мне приехать. Ведь это возмутительно – жить в Ялте и от ялтинской воды и великолепного воздуха бегать то и дело в 00. Пора уж вам, образованным людям, понять, что в Ялте я всегда чувствую себя несравненно хуже, чем в Москве. Если бы ты знала, как скучно стучит по крыше дождь, как мне хочется поглядеть на свою жену. Да есть ли у меня жена? Где она?
В начале декабря по старому стилю он приехал в Москву, приехал в разгар репетиций. Ему страшно хотелось принимать в них большое участие, присутствовать при всех исканиях, повторениях, кипеть в самой гуще атмосферы театра. И начал он это с удовольствием, но очень скоро – репетиций через четыре-пять – увидел, что это для автора совсем не так сладко: и со сцены его на каждом шагу раздражали, и сам он только мешал режиссерам и актерам. Он перестал ходить.
Зато дома он чувствовал себя счастливым. И жена была около него, и люди приходили такие, каких он хотел и какие не только брали от него, но и сами кое-что ему приносили. Он был все время окружен.
И опять он волновался за пьесу, и опять не верил в успех.
«Купи за три тысячи всю пьесу навсегда», предлагал он мне не совсем шутя.
{184} «Я тебе дам, – отвечал я, – десять только за один сезон и только в одном Художественном театре». Он не соглашался и, как всегда, молча только покачивал головой.
«Вишневый сад» стал самым ярким, самым выразительным символом Художественного театра.
Первое представление состоялось в день его именин. Это было совершенно случайно, без всяких гадалок и предчувствий. Чехов в театр не приехал, просил передавать ему, когда захотим, по телефону. Но Москва предчувствовала, что она в последний раз может увидеть любимого писателя. По городу знали, что у него процесс и в легких, и в кишечнике сильно обострен. В театре собралась вся литературная и театральная Москва и представители общественных учреждений, чтобы чествовать любимого писателя. Телефонировали Чехову, чтобы он приехал. Сначала он отказывался, но за ним поехали и уговорили. Чествование было глубоко трогательно и глубоко искренне. Я сказал ему, выступая от театра:
«Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: это мой театр, театр Чехова».
9
В половине февраля он возвращается к себе в Ялту, и оттуда до самого лета его письма уже не такие унылые, как были в предыдущие две зимы; они бодрые, веселые, несмотря на то, что он был очень недоволен некоторыми исполнителями «Вишневого сада». Точно у него гора с плеч свалилась, точно он вдруг почувствовал право жить, как самый простой обыватель – без каких-либо литературных или театральных обязательств. Как писатель, он, кажется, больше всего боялся быть скучным и повторяться. И теперь радовался, что ни театр и никакие редакции не насилуют его спокойствия.
10
Весной была объявлена война с Японией[98]. Мы в это время играли «Вишневый сад» в Петербурге. В том тонком пласте театральной публики, который был ближе к актерам, в среде окружающих нас поклонников, на банкетах, какие давались театру, как и во всем «обществе», – интеллигентном и чиновничьем, – оторванном от {185} подводных народных течений, не было, кажется, человека, который сомневался бы, что мы этих «япошек» накажем за дерзость, как щенков. Театральная атмосфера в военное время накаляется. Театры всегда полны. Интересы жгучие, острые, интересы войны, смешиваясь с театральными эмоциями, еще дальше отвлекали этих людей от назревавших событий, от того, что накоплялось там внизу в настроениях солдат, идущих на войну – куда-то к черту на кулички – и в ропоте крестьян, их провожающих. Никому и в голову не приходило, что войну мы можем проиграть. Только очень чуткие, вглядываясь в ближайшее будущее, предсказывали, что приближается конец и этой беспечности наверху, и столичной шумихе, и казавшемуся мирным покою в деревне, в степи, в заводах. Только очень чуткое ухо улавливало носившееся в воздухе: скоро начнется – там убили губернатора, там забастовка, и скоро всей этой верхушке «общества» нельзя будет с такой легкостью и беззаботностью ходить на ничтожную службу, посещать ресторан и вечеринки, ездить в дремотном покое по усадьбам и хуторам.
«Надвигается громада, готовится здоровая, сильная буря».
11
3/16 июня он с женой уехал за границу, а 3/16 июля я получил у себя в усадьбе от нее телеграмму из Баденвейлера:
Badenweiler 15, 8, 12. Anton Pawlowitsch plotzlich an Herzschwдche gestorben. Olga Tschechoff[99].
Перед этим она писала мне в усадьбу:
12/25 июня. В дороге Антон Павлович почувствовал себя очень хорошо, начал спать, есть с аппетитом. Но выглядит он страшно. Был у него в Берлине местная знаменитость Prof. Ewald, но так шарлатански вел себя, что по его уходе мне сильно хотелось написать ему неприятное письмо.
Или он нашел здоровье Антона настолько безнадежным, что не стоило заниматься, но и тогда это можно было сделать деликатнее…
{186} Как мне по ночам жутко бывает, если бы Вы знали! Когда Антон не спит, когда он так мучительно кашляет и лицо такое безумно страдальческое! Здесь ему велено лежать все время на солнце в chaise longue[100], хорошо питаться; утром делают легкое обтирание водой. Температуру измеряют 3 раза. Вот и все. Одышка ужасна. Двигаться он почти не может. Я ему читаю немецкие газеты, то есть считываю по-русски. Получаем две русские газеты. Пасьянс раскладывает, полеживает[101].
19 июня/2 июля. Антон Павлович хотя на вид и поправился и загорел, но не важно чувствует себя. Темп, повышенная все время, сегодня даже с утра 38,1. Ночи мучительные. Задыхается, не спит, вероятно, от повышенной температуры. Хотя не сознает этого. Кашляет сильно, то есть по ночам. Настроение можете себе представить какое. Кушает он очень хорошо, помногу, но стол надоедает ему. Сегодня первый день нет аппетита. Обтирание водой прервали на несколько дней, он думает, что не от них ли температура.
Катаемся почти каждый день по часу, и Антону это нравится. Весь день он сидит покорный, терпеливый, кроткий, ни на что не жалуется. Так хочется делать для него все, чтобы хоть немножко облегчить его тяжелые дни.
27 июня/10 июля. Антону Пав. нехорошо. Страшная слабость, кашель, температура повышенная. Я не знаю, что делать, буквально. Думаю, что прямо ехать в Ялту. Он мечтает пожить на оз. Комо. Затем из Триеста морем кругом через Константинополь в Одессу. Здесь ему сильно надоело. В весе теряет. Целый день лежит. На душе у него очень тяжело. Переворот в нем происходит.
Впоследствии она рассказывала, как он почувствовал себя плохо, как она позвала доктора; потом: «как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки: “Я умираю”, потом взял бокал, улыбнулся своей удивительной улыбкой и сказал: “Давно я не пил шампанского”, {187} покойно выпил все до дна, потом лег на левый бок и вскоре умолк навсегда».
Город Баденвейлер поставил в одном из своих скверов памятник Чехову, но когда в 1914 году разразилась война между Россией и Германией, немецкие патриоты этот памятник сняли.
12
Несмотря на глухое летнее время, дебаркадер вокзала в Москве был полон съехавшимися со всех концов летнего отдыха. Когда поезд подошел, мы, вместе с вышедшей к нам в полном трауре вдовой, в глубоком молчании и почтительно двинулись к товарному вагону, где находился гроб. И…
право, словно с того света сверкнул в последний раз юмор Чехова:
на том месте вагона, где обозначают его содержимое, крупными буквами было написано: устрицы.
13
В Москве был наш общий любимый приятель, врач Н. Н. Оболонский. Недавно его вдова доставила мне неопубликованное письмо Чехова (из г. Петербурга):
«Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Николай Николаевич. Я хожу в Милютин ряд[102] и ем там устрицы. Мне положительно нечего делать, и я думаю о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи.»
«Горьковское» в Художественном театре
Глава тринадцатая
1
После «Чайки» и «Дяди Вани» стало совершенно ясно, что Чехов – автор, самый близкий нашим театральным мечтам, и что необходимо, чтоб он написал новую {188} пьесу. А Чехов сказал, что он не станет писать новую пьесу, пока не увидит Художественный театр, пока сам наглядно не поймет, что именно в искусстве этого театра помогло успеху его пьес. А в Москву ехать ему не позволяли доктора, он был прикован к югу. Тогда мы решили поехать к нему в Ялту всем театром. Всей труппой с декорациями, бутафорией, костюмами, рабочими, техниками. Для подкрепления бюджета сыграть по пути в Ялту несколько спектаклей в Севастополе. Только богатая немецкая труппа герцога Мейнингенского позволяла себе такую роскошь – путешествовать со всем имуществом. В России об этом не решались бы и подумать. Но мы были, во-первых, дерзкие: мудрено было остановить нас, если мы видели перед собой важную цель; а во-вторых, скромные в наших расчетах: окупить расход было уже идеалом.
Подъем у молодой труппы был огромный. Та радость театрального быта, которая проходит красной нитью через всю жизнь актера, – тяжелую, мучительную и, тем не менее, непрерывно радостную – здесь била ключом. Товарищеское общение, спаянность в переживаниях и личных и сценических, гордость успехов, горячая вера в будущее, пламенное и самоотверженное следование за любимыми вождями, – все было подъемно. Ничто не страшно. Все преодолимо. Шипение все нарождающихся врагов только укрепляет боевое настроение. Даже в случаях личных обид и огорчений слезы, жгучие, горячие, быстро сжигают самое горе. А тут еще весна, нежное солнце, море, очаровательные белые города – Севастополь и Ялта, встреча с писателем, к которому труппа питала чувство настоящей влюбленности. Вся поездка была как весенний праздник.
Я уехал из Москвы раньше, чтоб осмотреть театры. Телеграфировал Чехову, что приеду в Ялту из Севастополя с пароходом в среду на страстной неделе.
Пароход отходил от Севастополя в час дня. В шесть он должен был уже быть в Ялте, но поднялся необыкновенный, густой туман. Когда подплывали к Ялте, то на палубе люди не видели друг друга в трех шагах. Пароход едва двигался и очень долго не мог пристать. Выли сирены, в ялтинской церкви непрерывно звонили, пароход то и дело стукался о мол, не находя входа в гавань.
Было уже совсем темно, часов девять, когда я добрался до отеля.
{189} Чехов только недавно построил свою дачу. Ту самую дачу над городом, белую, узорчатым фронтоном на море, которая так скоро, после смерти поэта, стала местом паломничества для всех туристов. Теперь в городе ее еще знали мало. Извозчик – ялтинские хорошенькие парные корзины-экипажи – сказал, что это где-то там наверху, и мы поехали искать. Кривая, узкая, гористая улица восточного города была пуста. Туман почти уже сполз, но ни души. И спросить не у кого, это ли дача Чехова, или вон та, или она еще дальше. Я влезал на какие-то заборы, заглядывал в окна, где был свет, рассчитывая увидеть знакомую фигуру. Но вот сверху показался человек, который шел прямо нам навстречу. Мы подождали, он приблизился и сразу начал смотреть на меня очень пристально.
Роста выше среднего, худой, но крепко сколоченный, с отметным утиным носом, толстыми с рыжинкой усами, с очень приятным басом, легким волжским упором на «о», в высоких сапогах, в матросском плаще.
Портретов Горького еще не было, и я не знал его внешности.
Он предупредительно и точно объяснил, где находится вилла Чехова. Когда мы отъехали, а он зашагал вниз, у меня в душе остался след его взгляда, как бы внимательно рассматривавшего меня.
Чехов сам открыл мне дверь, и первая фраза его была:
«А сейчас только ушел Горький. Он ждал тебя».
О Горьком уже гудела молва как о босяке с Волги с громадным писательским талантом. Это была моя первая встреча с человеком, который будет играть такую огромную роль в истории русской культуры, – первая встреча поздним вечером, в пустынной уличке восточного города, в полутумане.
2
В таком праздничном подъеме, каким была охвачена труппа, было что-то покоряющее. Наша вера в то, что будущее – наше, не заражала только закоснелых рутинеров.
И вот актерам было дано задание: увлечь и Горького написать пьесу, заразить его нашими мечтами о новом театре.
{190} Мы привезли в Крым четыре спектакля: «Чайку» и «Дядю Ваню» Чехова, «Одиноких» Гауптмана и «Эдду Габлер» Ибсена. Гауптман был очень близок душе русского передового интеллигента. Недаром Чехов так любил его. И на Горького «Одинокие» производили очень большое впечатление. Но «Эдда Габлер» оставляла публику холодной, несмотря на то, что ее очень хорошо играла красавица Андреева и очень интересно играл гения Левборга Станиславский. В центре же внимания и настоящего, нового театрального волнения были, конечно, пьесы Чехова.
Горький был чрезвычайно захвачен и спектаклями и духом молодой труппы.
Мы сыграли в Ялте восемь спектаклей, значит, пробыли там всего дней десять, а впечатления и результаты были огромны. Вечером играли, день уходил на прогулки, катания и встречи с Чеховым и Горьким. У Чехова двери дома на все это время были открыты настежь. Вся труппа приглашалась обедать и пить чай каждый день. Если Горького не было там, значит, он где-нибудь, окруженный другой группой наших актеров, где-нибудь сидит на перилах балкона, в светлой косоворотке с ременным поясом и густыми непослушными волосами; внимательно слушает, пленительно улыбается или рассказывает, легко подбирая образные, смелые и характерные выражения.
Новый большой талант, какой появляется раз в ряд десятилетий. Фейерверочко яркий. Из самых кедр народа. С судьбой, окутанной легендарными рассказами. В бедном детстве почти безграмотный, потом парень на побегушках, потом босяк, обошедший пешком пол-России. И вдруг – увлечение литературой и встреча с Короленко, – писателем редкой, своеобразной репутации: он имел огромный успех сразу, сразу дал два‑три опуса, законченных и совершенных, но на этом и остановился. Зато потом надолго сохранил обаяние общественника-народника. С помощью Короленко или по его советам Горький начинает учиться и становится писателем.
Вот так гудела молва.
К этому времени уже вышло три тома его рассказов. Уже шумели «Мальва», «Челкаш», «Бывшие люди». Захватывали и содержание и форма. Захватывали новые фигуры из мало знакомого мира, – как будто они смотрят на вас из знойной степной мглы, или из пропитанных {191} угольной копотью дворов, смотрят сдержанно-дерзко, уверенно, как на чужих, как на завтрашних врагов на жизнь и смерть, – фигуры, дразнящие презрением к вашей чистоплотности, красотой своей мускульной силы, и, что всего завиднее, – свободным и смелым разрешением всех ваших «проклятых вопросов». Захватывало и солнечное, жизнелюбивое освещение этих фигур, уверенно-боевой, мужественный темперамент самого автора. Но захватывало и само искусство: кованая фраза, яркий, образный язык, новые, меткие сравнения, простота и легкость поэтического подъема. Новый романтизм. Новый звон о радостях жизни.
Очень интересно было проследить отношения между Чеховым и Горьким. Два таких разных. Тот – сладкая тоска солнечного заката, стонущая мечта вырваться из этих будней, мягкость и нежность красок и линий; этот – тоже рвется из тусклого «сегодня», но как? С боевым кличем, с напряженными мускулами, с бодрой, радостной верой в «завтра», а не в «двести – триста лет». Влюбленность нашей актерской молодежи в Чехова могла подвергнуться испытанию; Горьким она тоже сильно увлекалась. Но результат наблюдения был замечательный. Горький оказался таким же влюбленным в Чехова, как и все мы. И чувство это сохранилось в нем навсегда. Перед нами теперь вся жизнь и деятельность Максима Горького. В ней вспоминаются не раз резкие выступления против «лирики», и все же к Чехову, величайшему из русских лириков, он всегда оставался таким же, каким был там, в Ялте, смолоду.
Много раз рассказывалось о случае, бывшем в Художественном театре как раз в зиму после этой крымской поездки. Горький получил разрешение приехать в Москву и был у нас в театре на представлении чеховской пьесы. Публика узнала и рвалась увидеть его. Был антракт. Горький находился у меня в кабинете, а за дверью весь коридор был набит толпой. Она так настойчиво просила, чтоб Горький вышел к ней, что ему пришлось выйти. Но какое это было разочарование. Вместо сияния на лице, к какому публика привыкла, когда делает кому-нибудь овацию, она увидела выражение нахмуренное и сердитое. Овация сконфуженно растаяла. Публика затихла, и вот он заговорил. Заговорил просто, голова чуть набок, жестикулируя одной рукой, тоном убеждения, говорком на «о»: «Чего вам на меня смотреть? Я не утопленник, {192} не балерина, – и прибавил – и в то время, когда играется такой замечательный спектакль, ваше праздное любопытство даже оскорбительно».
Кстати, Горький очень не любил этого праздного любопытства. Вспоминается такой случай. Не помню, на каком-то вокзале, в ожидании поезда, в буфете. Мы сидели в стороне. За столом кутила купеческая компания. Заметили Горького. Главный из них, купчик, плотный, сытый, выпивший, двинулся к Горькому с бокалом и бутылкой шампанского, весь сияющий приветом и широтой своего размаха.
«Господин Горький! Позвольте выпить за ваше здоровье, позвольте бокальчик от нашего поклонения. Гениальный господин Горький!»
Алексей Максимович неподвижно смотрел на него, ни один мускул не дрогнул на его лице. И вдруг:
«Если бы вы видели, какая у вас пьяная рожа!» – просто и четко произнес он.
Купчик опешил:
«Как вам угодно‑с». И отходя, весь красный, бормотал: «С этакой гордостью, конечно…»
3
Обещание написать пьесу было дано. Завязалась переписка. Писал Горький всегда на крупном листе почтовой бумаги в линейку, отличным ровным почерком, без единой помарки, с четкой подписью: «А. Пешков». Он был в ссылке. Имел право жить только в Нижнем Новгороде, а потом даже только в уездном городе той же губернии – Арзамасе. Так как он всегда страдал грудной болезнью, то летом ему разрешали жить в Крыму, конечно, под строгим надзором. Однажды разрешили пожить недолго в Москве.
Я ездил к нему и в Нижний Новгород, и в Арзамас. Он был женат, имел сына лет шести, которому позволялось все, чего бы он ни захотел. Разве за очень уж большие проказы отец в наказание сажал его на шкаф.
«Зато я теперь выше тебя, Алексей», – философствовал мальчик сверху. Он называл отца «Алексей».
В Нижнем Новгороде Горького посещало множество людей.
Врезалось в память у меня одно посещение. На вид вроде Сатина из «На дне», плотный, живописный; вчера {193} еще форменный босяк, сегодня чуть-чуть приодетый, с отличным, выразительным лицом, прекрасным голосом. Когда он ушел, Горький сказал:
– По-моему, из него вышел бы хороший актер.
– А сейчас он что? – спросил я.
– Сейчас живет чем попало. Если встретит вас в глухом переулке, потребует полтинник и скажет: «Давайте скорее, а то сам возьму больше…»
Я потому запомнил его, что из него, действительно, стал превосходный актер.
От Арзамаса у меня осталось впечатление паршивого, пыльного городишка, с немощеными улицами, с дощатыми танцующими тротуарами. К открытым окнам просторной комнаты Алексея Максимовича то и дело подходили нищие. Без конца много нищих. Алексей Максимович давал каждому, давал как-то особенно просто, не придавая этому никакой окраски – ни сожаления, ни милостыни, точно выполняя какую-то простейшую необходимость, как передвигают стулья, сметают пыль, закрывают то и дело распахивающуюся от ветра дверь. Этих нищих было так много, что они мешали разговаривать. Зарождалось подозрение, что они злоупотребляли добротой Горького. Но он не пропускал ни одного.
«Какого черта, сколько вас тут развелось», – ругнётся он громко, тем не менее горстями отдавая мелочь.
Когда у него уже не хватало или надо было разменять он шел в другие комнаты искать жену. Скоро и у нее не было, тогда он брал у меня. Тоже совершенно просто, как берут спички, чтоб закурить.
А в двенадцать часов ночи продолжать нашу, все еще не окончившуюся, беседу мы ушли на какую-то пыльную пустынную площадь, за которой из пустой темной рощи мелькали белые кресты кладбища.
Уездный город Арзамас.
Это было уже в августе 1902 года, когда он только что закончил пьесу «На дне жизни». (Впоследствии он сократил название: «На дне».) А еще весной я ездил к нему в Олеиз, дачное место под Ялтой, где он прочел мне первые два акта. Помнится, когда я приехал, пришлось ждать. Екатерина Павловна[103] (жена Алексея Максимовича, всегдашняя и всеобщая любимица Художественного театра) сказала, что он с Шаляпиным еще третьего дня забрали провизии и вина и уплыли вдвоем на простой лодке очень далеко в море с тем, чтобы вернуться на берег {194} только сегодня вечером. Чтобы там на морском просторе купаться, лежать под солнцем, есть, пить, спать, болтать. И, действительно, вернулись они с таким запасом кислорода, и физического и духовного, такие великолепные в их орлино-вольном настроении, такие веселые и внутренно пластические, братски улыбающиеся, что, глядя на них, верилось в самую пылкую романтику.
Были годы наружного спокойствия, полного благополучия, даже процветания, а из глубин сташестидесятимиллионного человеческого моря неслись волны тяжелого дыхания, глухого, тревожного. Тут был Петербург, двор, гвардия, великие князья, высший свет, полусвет, Мариинский театр, опера, балет, парады, балы, «Новое время», чиновничество, Париж, Лондон, блеск цивилизации. А от невидимых волн пахло потом и гарью и веяло жестоким холодом беспощадности. Чувствование двух враждебных миров становилось все ощутительнее. Массивы, венцом которых был Петербург, казались непоколебимыми, но невидимые волны подтачивали их. Между двумя мирами – одним видимым, беспечным и праздным, другим скрытым, несущим трагедию – была рубежная зона. Каждое дыхание сташестидесятимиллионного человеческого моря расширяло и укрепляло эту зону. Оно выбрасывало сюда новые силы, новые верования, новую бодрость. Миллионы кропотливо несли здесь саперную службу, расчищая дороги внизу или отравляя сомнениями, расслабляя волю врагов наверху.








