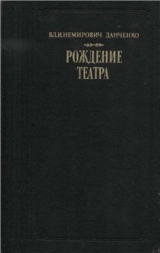
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 39 страниц)
А с другой стороны, в условиях школьной обстановки, близости, неверной перспективы чаще были и ошибки, переоценка. Сколько случаев бывало такой переоценки! Сколько иллюзорных надежд возлагали преподаватели на своих учеников! Сколько талантов, не оправдавшихся на практике!
Стремясь избежать по возможности ошибок, я с первых лет моей педагогической работы пришел к убеждению, что школа не должна быть оторвана от театра, что ученики должны проходить свою учебу в театральной атмосфере. Это мое убеждение и привело к созданию Художественного театра в связи с Филармоническим училищем…
И тут счастье не покидало Александру Александровну. Через два года практики у Корша она вернулась в атмосферу Малого театра и опять под контроль Гликерии {316} Николаевны Федотовой, артистки громадного вкуса, беспредельной преданности сцене и искусству Малого театра. Такую же преданность воспитала Федотова и в нашей юбилярше. Но при всем этом для того, чтобы стать тем, чем стала наша юбилярша, надо было обладать еще двумя качествами: громадной любовью к актерской работе, любовью к сцене, или, как у нас любят говорить, любовью к искусству, любовью и сильной волей, направленной к актерским переживаниям. Любовью, подчиняющей сценической работе все другие жизненные задачи.
А кроме того, нужна была и очень большая скромность.
Я не помню у Александры Александровны никогда ни намека на зазнайство. Скромность, благодаря которой она непрерывно училась. Это сторона очень важная. Ее великая учительница была все-таки во власти искусства, лишенного той великолепной простоты, которая постепенно завоевывала первенствующую роль в русском театре. Она и сама это сознавала и боролась с наследием старой школы. Федотова не раз говорила мне, что учится простоте у Ольги Осиповны Садовской.
… Перед глазами нашей юбилярши были Ермолова, Садовские, Медведева. Благодаря своей скромности она не переставала работать над собой и в этом направлении.
Нужна была стихийная любовь к сцене для того, чтобы переиграть такой громадный репертуар, как это сделала Александра Александровна. Ей не удавалось играть много ведущих ролей в Малом театре, потому что у нее были такие сильные конкурентки, как Федотова, Ермолова, а потом отчасти, может быть, и Лешковская. Но способность быстро овладевать ролями, смело и с уверенностью отдаваясь им, дала ей возможность переиграть множество ролей с теми же актерами Малого театра в летних поездках. Большинство их она перенесла потом и на сцену Малого театра. Эта любовь к сцене и к театру буквально с самых малых лет привела к тому, что вся ее жизнь находилась во власти театра. Александра Александровна – настоящий театральный человек.
И теперь, когда исполняется пятьдесят лет с ее первого спектакля, просто поражаешься ее кипучей энергии. У меня по крайней мере нет в памяти ни одного пятидесятилетнего юбилея артиста, который бы находился до такой степени в полном расцвете, как наша сегодняшняя юбилярша.
{317} Из речи на похоронах К. С. Станиславского[171]
Товарищи простят мне, что моя речь будет негладкой. Я прямо с вокзала[172]; я узнал о кончине Константина Сергеевича сегодня ночью, въезжая в Союз, на станции Негорелое. Кроме того, моя память хранит так много переживаний за сорок один год, так много переживаний, охватывавших не только искусство, но и личную жизнь, что, потрясенная, она не дает мне возможности быть красноречивым.
За сорок один год нашей связи в театр вкладывались не только художественные идеи, но, в полном смысле этого слова, – вся жизнь.
Станиславский имел гениальную способность вести за собой так, что человек действительно отдавался искусству целиком. Работа творческая так сплеталась с жизнью, все интересы, все стремления так сливались в нечто целое и гармоничное, что нельзя было разобрать, где кончаются личные переживания, где начинаются переживания художников.
Все те, которые начинали дело Художественного театра, – сам Станиславский, присутствующие при этом печальном прощании его осиротевшая вдова Мария Петровна, брат Владимир Сергеевич[173], сестры Зинаида Сергеевна и Мария Сергеевна[174], или так хорошо известные вам Москвин, Книппер, Вишневский, или такие соратники, как Григорьева [М. П. Николаева], Титов, Гремиславские… да простят мне другие, что я не упоминаю их сейчас, – все они, все положили в любимое дело свои жизни, как и сам Станиславский. Затем принесли сюда свои жизни Качалов, Леонидов. Это был первый пласт, охваченный напряженной волей Станиславского к созданию искусства благородной красоты, реально-честного, глубоко правдивого, захватывающего все существование работников.
И тут так много было пережито неповторимого! Сколько я последнее время ни думал о возрождении тех чувств, которые захватывали нас при создании Художественного театра, я приходил к убеждению, что это неповторимо. И не только по обаянию талантов, которые создавали этот театр, но самое важное, если можно так выразиться, по влюбленному жречеству, каким была охвачена воля Станиславского. Именно влюбленное жречество, {318} а не только почтительное отношение к искусству и понимание прекрасного.
Это стихийное стремление отдавать себя всего, целиком, осуществлению тех глубоких идей, которые его волновали, это горение, охватывавшее всех остальных, и было залогом, самым подлинным залогом успеха Художественного театра.
… Повторяю, – личное и творческое так сплеталось в наших переживаниях, что разобрать, где кончаются дружеские чувства и где начинаются чувства художника, не было никакой возможности. Но мы все в личной жизни все-таки отдавались и другим страстям, удовлетворяли и другие стремления. У Станиславского же было только искусство, и до последней минуты своих трудов и своей жизни он принадлежал и отдавался только этому жречеству.
Я не знаю глубинных миросозерцании Станиславского… Я не знаю, как он думал о бессмертии. Но для нас именно здесь и начинается его бессмертие.
Пока моя мысль волнуется в стенах Художественного театра, около того, что создано Художественным театром, я вижу разрывы между искусством Станиславского и другими художественными течениями театра. Станиславский говорил, что искусство становится богаче, если в нем могут быть другие течения. Важно, чтобы конечная цель была бы настоящим торжеством правды. Как искусство переливается за границы театра, широко и далеко, как оно вливается в души всего народа, какими путями и что именно в искусстве проникает и наполняет сердце народа – в этом разберется история. Здесь же, на наших глазах, начинается бессмертие Станиславского.
… И мне хотелось бы, чтобы все находящиеся здесь, у гроба, мои товарищи по Художественному театру дали только одну клятву: клянемся относиться к театру с той глубокой и священной жертвенностью, с какой относился Станиславский. Принимаем, как великий оставленный им лозунг. Клянемся относиться так, как относился он.
{319} О театральном искусстве. О творчестве актера и режиссера
Интересный спектакль[175]
Он состоялся в пятницу в Немецком клубе.
Любительский спектакль с ценами от 10 руб. за кресло! Мало того. Любительский спектакль, на который трудно было достать билет! И этого мало. Любительский спектакль с прекрасной, ровной игрой!
Вы мне не верите. Вы думаете, что я делаю рекламу Обществу искусства и литературы. Как вам угодно. Мне все равно, что вы думаете. Я утверждаю, что никто и никогда не видел такого образцового исполнения у любителей. Да если бы вы не были убеждены, что это любители, – вы бы и не поверили. Комедия гр. Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» была разыграна с таким ансамблем, так интеллигентно, как не играют хотя бы у Корша.
Сама пьеса… Можно мне сказать правду? Сама пьеса мне не понравилась.
Как?! Что?! Какой-то там Гобой[176], глупый инструмент из оркестра, смеет!!. О! О!
Не понравилась. Что хотите, то и делайте со мной.
Свирепый критик «Московских ведомостей», г. Ю. Николаев[177], предлагал назвать эту пьесу «Плодами невежества». Тогда бы я еще подумал.
По-моему, вся барская часть пьесы карикатурна, интрига – французская. Если бы это была не комедия с яркой тенденцией, а фарс, – он был бы гениален, хотя и несправедлив.
Кто станет спорить, что у нас есть глупые господа, которые от нечего делать занимаются вздором? Есть и профессора тупицы, есть и доктора шарлатаны, и контролеры жулики, и умные горничные, и замечательно нравственные мужики. Всякого народа у нас довольно! Но чтобы глупые баре – с одной стороны, а великолепные мужики – с другой, было абсолютной параллелью, – этому {320} никто не верит и никто не поверит. И слава богу, что никто не верит.
Я кусал себе губы от досады. Мне было обидно, что такой талант так криво смотрит на людей. Dixi et animum levavi[178].
Спектакль был в пользу Братолюбивого общества. В большой зале Немецкого клуба было почему-то темновато. Кто это сэкономничал на освещении? Братолюбивое общество или администрация клуба? Публика жалостливо поглядывала на незажженные люстры. На дамах были элегантные туалеты, а света мало. Это даже жестоко.
Однако я разглядел публику. Тут собрался цвет Москвы. И представители высшего света, и богатое купечество, и пресса, и театральные завсегдатаи.
На сцене тоже знакомые все лица.
Во главе их К. С. Станиславский. Конечно, псевдоним. Псевдонимы не принято раскрывать, но я вам намекну, кто это Станиславский. Это будет простительно, во-первых, потому, что это секрет Полишинеля, а во-вторых, потому, что любители берут псевдонимы только по рутине, давно утратившей смысл.
Станиславский – высокий молодой человек из богатого купечества, когда-то очень покровительствовавший Обществу искусства и литературы, талантливый и умный любитель.
Если бы я был театральным рецензентом, я бы посвятил ему, как и многим другим, целую статью. Так много тонких и характерных подробностей вложил он в роль самого Звездинцева.
Жену Звездинцева прекрасно играла М. А. Самарова, если не ошибаюсь – присяжная актриса. Бетси – В. Ф. Комина. Вы ее знаете. В прошлом году на балу Общества искусства она получила вторую премию за костюм цыганки. Здесь она тоже щегольнула несколькими прелестными туалетами. Любительница опытная.
Вово – также известный любитель Н. С. Сергеев, тоже из богатого купечества. Молодой человек университетского образования, художник, гласный думы, талантливый любитель.
Доктор – И. А. Прокофьев. Это не псевдоним. Опять известный любитель.
{321} Профессор – А. П. Вронский, недавно появившийся на горизонте Общества искусства. Играл ровно и аккуратно. К чести гг. Станиславского, Прокофьева и Вронского должен прибавить, что они значительно сгладили излишние нападки автора на барина, доктора и профессора. Петрищев – Н. А. Александров. Ну кто ж не знает этого элегантного молодого фабриканта? Я и не подозревал за ним способностей прекрасно изображать светских фатов!
Таня, горничная, – М. П. Лилина. Мне легко было бы сказать вам, кто это г‑жа Лилина, даже не называя ее. Но, видите ли, г‑жа Лилина давно играет под таким псевдонимом в спектаклях Общества искусства. Года два назад она вышла замуж. Я и думал, что для афиши она возьмет псевдоним мужа. Она не взяла. Стало быть, я должен молчать. Играла она премило.
Дивно играли мужиков А. А. Федотов, сын Гликерии Николаевны, В. М. Владимиров (псевдоним), брат известного молодого философа.
В ничтожной роли старого повара был необыкновенно типичен А. Р. Артем. Это целая художественная фигура.
В пьесе гр. Толстого так удивительно набросаны лица, что мне стоит большого труда удержаться в рамках моей статьи. Я готов был бы рассказывать вам о каждом лице отдельно и очень много, хотя вы и знакомы с пьесой по Юрьевскому сборнику.
Очень типичны были и выездной лакей, и буфетчик, и буфетный мужик, и 2‑й мужик.
Кажется, всех похвалил, кого хотелось! Совсем маленькие роли тоже были переданы со смыслом.
Знаете ли, о ком я вспомнил во время спектакля?
О графе Соллогубе.
Бывало, без него не обходились такие представления.
Гобой
«Дуэль» А. П. Чехова[179]
О новом произведении Чехова появилось уже с полдюжины обширных рецензий.
Вы знаете, что нет ничего шаблоннее газетного языка.
{322} То же можно сказать и о рецензиях наших присяжных критиков. За двумя, много – тремя исключениями, все они выработали себе известный шаблон, по которому не только пишут, но и мыслят.
Мне даже кажется, что у присяжных рецензентов от постоянного обязательного чтения притупляется и аппетит, и вкус.
Чтобы усвоить намерения автора и его образы такими, какими он их создал, надо обладать фантазией, не обремененной беспрерывными и однородными впечатлениями. А критик ко всякому новому произведению приступает с готовым масштабом, выработанным известной привычкой. С первых же шагов персонажей нового произведения критик отдается во власть рутины и относит их к категории лиц, уже знакомых ему из других произведений. Поэтому от него легко ускользает какая-нибудь характерная черта, не лишенная новизны.
Сравните впечатления двух театральных зрителей: один – завсегдатай, а другой – редкий посетитель театра. Первый до того привыкает к индивидуальным особенностям актеров, что ему трудно разглядеть замысел автора за знакомыми ему интонациями, жестами, глазами и т. д. Второй же воспринимает образы автора гораздо непосредственнее. И случается сплошь да рядом, что этот неприсяжный театрал уловит замысел автора лучше опытного и присяжного.
До какой степени шаблонно отношение критиков к писателям, можно судить по рецензиям о «Дуэли» Чехова.
Все они начинают с ламентаций об обманутых надеждах. Всякий считает долгом уронить слезу на талант Чехова, якобы остановившийся в развитии. Но если бы кто-нибудь из них добросовестно заглянул в свои статьи, напечатанные пять лет назад, то он убедился бы, что и заговорил-то о Чехове только в то время, когда публика уже любила этого писателя.
В жизни всякого выдающегося писателя есть два трудных момента. Я говорю об отношении к нему нашей критики. Первый момент наступает, когда критика определяет писателя в генеральский чин. Происходит это большею частью сразу, внезапно, одинаково неожиданно как для писателя, так и для самой критики.
Он писал уже несколько лет. Его читали, его любили, в публике то и дело рекомендовали его. Но критика, загроможденная {323} отчетами о произведениях патентованных знаменитостей, или не замечала его, или трусливо замалчивала.
Вдруг кто-нибудь из сильных обмолвился о нем добрым словом. Или его выдвинул случай, не имеющий ничего общего с его талантом. Тогда все разом, точно сговорившись, поднимают шум, и через месяц-другой вчерашний рядовой производится в генеральский чин.
Тогда для писателя наступает новое испытание.
Он знаменит, каждая его строка ловится на лету, но он не удовлетворяет своих поклонников. От него ждут высших откровений, а он – изволите видеть – пишет почти так же, как писал два месяца назад. Словно из-за того, что критика обратила на него внимание, он должен стать во сто крат гениальнее, умнее, образованнее.
Счастлив тот, кто сумеет спокойно обойти эти подводные камни. Часто же случается так, что у писателя от одуряющего фимиама славы кружится голова, он в самом деле ищет в своем творчестве божественных откровений, не удовлетворяется сюжетами, которые подсказывает ему фантазия, все ему кажется мелко и бесцветно. Самолюбие его гложет, и из здорового писателя он становится неврастеником или мудрит не в меру и не пользуется теми самыми красками своей палитры, которые создали ему славу.
Мне кажется, что этот трудный момент испытания переживает теперь и Чехов. Что бы он ни выпустил в свет, наши критики принимают с разочарованной гримасой. И – помяните мое слово – они так же проглядят его лучшую вещь, как проглядели зарождение его успеха и спохватились только тогда, когда он и без критики пробил себе дорогу к сердцам читателей. Если бы Чехов слушался своих рецензентов, то ему следовало бы в продолжение десяти лет не показывать свету ничего из написанного, а потом сразу поразить всех чем-нибудь вроде «Мертвых душ».
Мне же думается, что истинных любителей литературы должен радовать каждый поступательный шаг, хотя бы и маленький, в росте писательской личности Чехова. И если не предъявлять к нему невозможных требований, то не трудно заметить, что его последнее произведение – лучшее из всего, что им до сих пор написано. Постараюсь доказать это.
В. Н.
{324} Театр и школа[180]
I
Представьте себе средней руки губернский город с числом жителей от 30 до 50 тысяч. В нем нет высшего учебного заведения, стало быть, нет профессоров и студентов. Зато все остальные характерные черты большого города налицо. Мужские и женские гимназии с обширным кругом преподавателей и преподавательниц, губернское земство с управой и, конечно, с Обществом взаимного кредита, отделения государственного, дворянского, крестьянского, Волжско-Камского и еще какого-нибудь частного банков; окружной суд с членами, товарищами прокурора, поверенными, нотариусами; городская дума с домовладельцами; всякого рода казенные палаты – губернская, контрольная, чертежная, казначейства; канцелярия губернатора, чиновники особых поручений, местный «beau mond»[181], почтово-телеграфная контора; больница, земские и вольные аптеки, медицинский персонал; содержатели множества магазинов с приказчиками; фабриканты, заводчики, техники, архитекторы; и, наконец, один, два или все три из трех крупных элементов – военного, инженерного или землевладельческого.
Словом, «интеллигенция», захватывающая, по современной ходячей терминологии, всякого, кто носит платье от «статского и военного портного», имеется в типичном представительстве.
Такой город «чувствует потребность» в театре. По крайней мере, если вы, житель столицы, вступите в беседу с любым из горожан, то он, пожаловавшись сначала на безденежье и безлюдье – «людей нет» – и поговоривши о том, что было бы в случае войны с Германией, в конце концов неминуемо, без всякого с вашей стороны почина, заведет речь о театре. Разговор его будет наивный. Он совершенно не сведущ в драматической литературе. Случится, что даже из Шекспира знает только «Гамлета» и «Отелло», знает Гоголя, Грибоедова, то есть «Горе от ума», чуть-чуть Островского и стоп! Говоря о театре, он больше склонен назвать несколько имен артистов, а преимущественно артисток, очень любит тех, которые кажутся ему «порядочными женщинами», то есть не слишком доступными, и любит прихвастнуть, что такой-то или {325} такая-то из столичных артистов «ведь начинал у нас» и «как же, я помню его в такой-то роли!»
Пойдемте же в этот театр. Не будем предъявлять к нему строгих требований! Нам известно, что столичные театры стягивают лучшие силы, знаем, с другой стороны, что в данном городе и газовое-то освещение еще не по всем улицам, и мостовые плохи, и банки помещаются в частных зданиях, слишком много нужд, относящихся к области «материальной пищи», а для «духовной» нет значительных средств. Поэтому постараемся воздержаться от глупого тона столичных приезжих, которые посмеиваются в провинциальных театрах не потому, что они понимают дело, а для того, чтобы пощеголять своей принадлежностью к людям «бывалым и видавшим виды».
Мы с вами идем не из пустого любопытства и не для того, чтобы убить вечер, которого нам некуда девать. Нас серьезно интересуют вопросы: точно ли город «чувствует потребность»? Не фраза ли это, придуманная с целью показать нам, что и они «не лыком шиты», что и их «занимают не одни сплетни и карты»? И если они, действительно, нуждаются в театральных зрелищах, то в какой мере русский артистический мир, «представители искусства», «просветители толпы» – и как еще они там именуют себя, – в какой мере удовлетворяют они такой законной и благородной потребности?
Разберемся в спросе и в предложении и, может быть, мы подойдем к самому корню театрального дела в провинции.
Кто сколько-нибудь знаком с ним, тот вперед скажет, что выводы будут не утешительны. Но это слишком мягкое выражение. Выводы будут ужасные, обнаруживающие такое грузное падение провинциального театра, что для подъема его нужны десятки лет и воспитание целого поколения…
Здание театра плоховато. Но это еще не беда. Дело не в бархатной обивке лож и в плюшевых занавесах. Пускай за внешней роскошью гонятся содержатели кафешантанных заведений. Там надо брать не мытьем, так катаньем. Здесь – было бы только не сыро, да не сквозило бы по всем рядам кресел. Правда, отсутствие комфорта отражается на том, что театр почти не посещается местной аристократией. Ее дамская половина любит выезжать на люди в элегантных туалетах, а такие ложи, как здесь, могут испортить платье и посещение театра {326} обойдется слишком дорого. Но господь с нею, с аристократией! Мы знаем, что она чувствует потребность в театре, как в таком месте, где можно показать туалет, «ошейник» из бриллиантов, дочь-невесту и т. д. Говорить о том, что мужская аристократическая молодежь смотрит на актрис «с своей точки зрения» и потому предпочитает оперетку, значило бы повторять общее место. Но, например, если я сообщу, что «Гроза» считается во многих семействах безнравственной пьесой, которую нельзя показывать 18‑летним барышням, то – не правда ли это может показаться выдумкой? А это так.
Нас больше интересует вопрос: кому принадлежит театр и на каких условиях сдан он артистам?
Он перестроен или из цирка, или из склада сельскохозяйственных машин, или из большого здания, в котором магазины не окупали расходов по ремонту. В редких случаях здание специально построено для театра. А принадлежит он частному лицу, сдающему его артистам за довольно высокую арендную плату.
Вот первый риф, на который мы наталкиваемся.
В России, в зимнее время, считается более двухсот театров. Можно сказать, без малейших преувеличений, что из них не наберется десяти таких, которые сдаются артистам или с субсидией, или просто бесплатно. Правда, во многих городах существует такой порядок, что плата за театр окупается «вешалкой» и «буфетом», то есть сдачей того и другого в аренду. Но за норму следует принять такой расчет: театр с отоплением, освещением и прислугой обходится труппе в треть валового сбора. Только две трети идут на остальные расходы, то есть декорации, костюмы, реквизит. Уплата авторского гонорара (от рубля до трех рублей за акт, от пяти до пятнадцати рублей за вечер), библиотека, жалованье артистам, режиссерам, суфлерам и проч.
Кое‑где существуют театры, принадлежащие «городу». Но и здесь театр числится в «приходной статье». При этом, помимо денежных обязательств, на артистов возлагаются и другие, в форме инструкции, где значится, в какие часы должны начинаться и оканчиваться спектакли и репетиции, каков должен быть репертуар, в каких помещениях можно курить и т. д. И назначается для заведования театром особое лицо за особое вознаграждение и играет оно здесь роль бесконтрольной власти. И хорошо еще, если он не обяжет труппу принять такую-то {327} «превосходную артистку», с которою он, по выражению Островского, «отдыхает от забот по вверенному его управлению ведомству».
Я взял за норму расход по зданию в треть валового сбора. Но очень часто артисты работают почти исключительно только для покрытия этого расхода. Поработают так месяца два, конечно, бросят театр и уедут «искать другой город». Это «искать другой город» классическая фраза из жизни провинциального актера!
Но хозяин театра не боится, что его здание останется пустым. Если одни актеры, за отсутствием сборов, переселяются «из Керчи в Вологду»[182], то другие, наверное, идут «по шпалам» из Вологды в Керчь. Всякий актер считает самого себя и лучше и счастливее других. «Мало ли что такие-то не сделали сборов! Мы сделаем!» Да и все равно есть нечего, отчего не рискнуть! И рискуют, и довольны, если получат гроши, чтобы иметь возможность добраться великим постом до Москвы в надежде получить хороший ангажемент. А там, в сущности, повторяется та же история.
Бывает, однако, что и у хозяина театра лопнет терпение. «Новый хорошенький театрик, выстроенный частным владельцем, купцом г. Текутьевым, – читаем мы в корреспонденции из Тюмени, Тобольской губернии (“Театральная библиотека”), – после его убыточной антрепризы в прошлом зимнем сезоне, вероятно, навсегда закроет свои двери. Как передают, г. Текутьев вознегодовал на равнодушие тюменцев, труппы держать более не будет, а самое театральное здание нашел более выгодным приспособить под лабазы своей мучной торговли». Характерная корреспонденция. Ее можно обратить в клише для большинства русских театров. Нашелся человек, поверивший в успех театра в своем городе, выстроил здание, потратил и время и деньги и, убедившись в равнодушии публики, сломал сцену, вывез стулья и приказал наполнить храм муз мешками с мукой.
Г‑н Текутьев совершенно прав. Но виновата ли публика – это еще вопрос. Я привык принимать за аксиому, что нет такой публики, которая не поддержала бы хорошего театра. Поэтому, сильно подозреваю, что здесь виноваты кое-кто другие…
Итак, театра, как городского учреждения, в России не существует. «Потребность», о которой все любят говорить, – {328} сомнительного качества. Я не помню, чтобы где-нибудь какой-нибудь гласный думы «держал речь» о том, что театр необходим городу, ну хоть по крайней мере так же, как необходимы общественные сады, бульвары, скверы, разбиваемые на площадях для очищения воздуха; как нужны артезианские колодцы, если другие источники воды заражены; памятники знаменитых людей, построенные, хотя и на пожертвованные, но все же городские суммы; мостовые и т. п. В том же выпуске «Театральной библиотеки» мы встречаем такую заметку: «Здание иркутского театра строится почти исключительно на частные пожертвования. После пожара, истребившего старый театр, иркутский генерал-губернатор взял на себя почин в сборе пожертвований на сооружение нового театрального здания. На призыв к пожертвованиям откликнулись очень многие и уже к началу 1892 года было прислано в распоряжение иркутского генерал-губернатора 141 600 рублей». Всего же со страховой премией и процентами наросло до 197 900 рублей.
Значит, можно собрать деньги для театра. Нужны только энергия и желание. Правда, в Иркутске очень много богатых людей. Но ведь и сумма в 200 тысяч громадная. Для губернского города средней руки достаточно и 50 – 75 тысяч, если город пожертвует клочок земли. Пусть потом для ремонта управление берет в свои руки и вешалку и буфеты, но дайте труппе возможность жить безбедно, не «смотреть в окно» или «искать другого города». Тогда можно будет окончательно убедиться в том, что город действительно «чувствует потребность».
Московский Малый театр делает около 150 тысяч валового сбора в год. Как ни сокращайте труппу, попробуйте наложить на нее обязательства по зданию театра, освещению, рабочим и т. д., уничтожьте пенсии – никогда ей не выдержать расходов. В настоящее время одна труппа стоит 190 тысяч в год. Сократите жалованье вдвое и все-таки вы получите дефицит в 75 тысяч.
Нет никакой надобности ораторствовать на тему о «глубоком воспитательном значении» театра. Это почва шаткая, по ней легко впасть в комическую крайность. Будем смотреть на него, как на самое разумное развлечение, способное если не вкладывать в обывательские мозги новые мысли, то хоть освежать их от цифр и шкурных интересов. И тогда необходимость каждому городу иметь свой театр будет все-таки неоспорима.
{329} Рано ли, поздно ли, все, интересующиеся этим делом, придут к такому убеждению. И это будет первым шагом для подъема театрального дела в провинции. В этом отношении ближе всех у цели – Одесса. Там антрепренеру дается театр с имуществом и субсидия, если не ошибаюсь, в 25 тысяч. При таких условиях город вправе требовать зрелищ, действительно достойных считаться «разумным развлечением».
Так же поставлено дело в Новочеркасске и не слыхано, чтобы там бывали «крахи», публика не посещала театра, или город оставался без порядочной труппы.
А вот город, больше, чем Новочеркасск, с 60 – 70 тысячами жителей, с огромным сталелитейным заводом – Екатеринослав[183]. Это город, растущий, как говорят, не по дням, а по часам. А в нем до 1892 года не было совсем зимнего театра. Не было даже порядочного Общества любителей, как в Киеве. Наконец, театр состряпали из какого-то цирка – а их там два, – сдали в аренду и первый же сезон оказался для антрепризы таким печальным, что вряд ли скоро найдутся охотники брать театр. То есть, если хотите, охотников найдется много. Но театра в хорошем смысле этого слова не будет. Антрепренер для сохранения собственного кармана неминуемо придет к оперетке, которая до сих пор еще является спасительницей дела от крахов!
II
Но перейдем к другой, еще более важной стороне дела – к самим актерам. Допустим, что все российские города прониклись убеждением в необходимости иметь театры, выстроили прекраснейшие здания, ассигновали субсидии и приглашают господ артистов «живым словом» будить благороднейшую сторону человеческой души. Не кажется ли вам, что господа артисты не оправдают возложенных на них ожиданий?
Я в этом глубоко убежден.
Поставим вопрос иначе.
Надо заметить, что на равнодушие публики жалуется не один тюменский купец, выстроивший хорошенький театрик и сам взявшийся за антрепризу. Это любимый мотив всех актеров, которым приходится возвращаться в Москву «по шпалам», мотив, до такой степени избитый, что уже стал банальным. Разговоритесь с актером в каком-нибудь ресторане «Ливорно» на Кузнецком мосту.
{330} Спросите его, когда он нарасскажет вам небылиц о своих необычайных успехах: – А сборы у вас были?
– Да разве эта пустоголовая толпа ходит в театр? Ей нужны клуб, карты, оперетка, цирк, фокусники!
Но он никогда не скажет себе: а не виноват ли я и сам в том, что наш театр не посещался?
К сожалению, он отчасти прав. Толпа, действительно, проявляет больше склонности к зрелищам, резко бьющим по нервам. Но жаль, что он прав, потому что на эту склонность он уже сваливает собственное бессилие.
Задавали ли себе провинциальные актеры такой вопрос: кому нужно стараться о том, чтобы я, скромный обыватель, привыкший к службе, послеобеденному отдыху и клубу, полюбил театр?
Сомневаюсь.
Однако не губернатору же делать предписания по всем учреждениям? Не с околоточным же тащить публику в театр? И не хожу я вовсе не потому, что предпочитаю клуб, а потому что к клубу я привык, а к театру нет. Кому же нужно, чтобы я полюбил театр больше клуба, как не самим актерам?
Не задумываться над таким вопросом слишком низко для высокой души актера. Актер, в его типичном представителе, стоит в своих собственных глазах на высоте недосягаемой. Ему незачем и заботиться, чтобы я полюбил его искусство. По его мнению, если я не знаю, что есть на свете актер Завихряев-Замухрышкин, то я круглый невежда и не стоит на меня обращать внимания. Он жрец, он понтифекс. Я должен плениться им при одном его выходе на сцену. А если я, повидавши его, на другой день все-таки пошел в клуб, а не в театр, то судьба моя решена, я принадлежу к «пустоголовой толпе».








