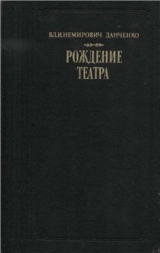
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
{301} Так рисуется мне Максим Горький в воспоминаниях о первой встрече.
В эту пору он уже шел по горе своей славы, но имя его еще не было истрепано репортерами и интервьюерами, фотографий его не было совсем, только катилась молва о каком-то босяке громадного литературного таланта, который был полуграмотен и которого, как гласила молва, Короленко вывел на литературную дорогу, – молва о новой литературной звезде, сразу выдвинувшей еще неведомый мир босяков и охваченной тоном такой бодрости, силы, крепкой цепкости за жизнь, по какой интеллигенция так тосковала в эту пору сумерек, кислого тона, всяких лишних и хмурых людей безвременья.
Публика, любящая литературу, театр, в сущности говоря, мало интересуется самим искусством, может быть, потому, что мало его понимает. Нужно непрерывно находиться в атмосфере искусства, чтобы понять, какую радостную веру возбуждает появление нового настоящего таланта. Публика схватывает только содержание, пожалуй, еще общее настроение; Горький увлек сразу и тем и другим. Но публика не схватывает: там метко найденного выражения, там сочного густого мазка краски, там какой-нибудь едва уловимой, но яркой черточки характера, словом, всех тех проявлений настоящего таланта, творящего искусство, который одуряет ароматом жизни, нашедшей новые, прекрасные выражения. Понятно поэтому, что любопытство к личности Горького, охватившее всю читающую публику, было особенно остро в людях театра и литературы. Ну, и, разумеется, нас, зачинателей молодого театра, сейчас же должно было охватить желание подбить Горького писать для этого театра пьесу. Театру, стремившемуся сказать новое слово, конечно, нужны были и новые авторы.
Вся поездка Художественного театра в Крым[159] и без того носила праздничный характер: было молодо, свежо, красиво, духовная артистическая бодрость молодых сил и молодого театра сливалась с яркими весенними красками крымской природы и с блеском моря. Все расцвечивалось радостью близкого свидания с любимым автором, а тут еще присутствие другого молодого поэта, так волновавшего в это время лучшие круги русской интеллигенции.
Когда труппа съехалась, я сообщил ей об этой неожиданной {302} встрече и сказал, что нашему театру предстоит задача не только пленить своим искусством Чехова, но и заразить Горького желанием написать пьесу.
Почти две недели вся труппа проводила с Алексеем Максимовичем неразлучно целый день, и, очевидно, миссию свою она выполняла успешно, так как расстались мы, получив от него обещание написать пьесу. Больше всего, конечно, манил актеров мир босяков, но вместе с автором мы предчувствовали, что не только изображение этого мира, но даже имя самого автора встретит в цензуре настроение угрожающее, и как-то сошлись на том, что первая пьеса еще не тронет «бывших людей».
Следующий зимний сезон был одним из самых блестящих в Художественном театре. Это был сезон «Доктора Штокмана» и «Трех сестер». В этом сезоне, если память мне не изменяет, Горький впервые знакомился с Художественным театром в Москве[160], но жить ему в Москве подолгу было нельзя; кажется, он больше наезжал сюда. Помнится, что для свидания с ним я ездил к нему в Нижний Новгород, помнится еще, что когда он оканчивал первую свою пьесу «Мещане», то слушать ее ездил наш режиссер, покойный И. А. Тихомиров, тоже в Нижний Новгород, что потом по болезни Горькому было разрешено уехать на весну в Крым, а затем он был выслан на жительство в Арзамас. Это уже в 1902 году.
Алексей Максимович сдал в театр «Мещан», но сразу, передавая пьесу, уже говорил, что у него в замысле другая, более важная, более нужная. И даже когда мы начали репетировать «Мещан», он мало интересовался постановкой, занятый следующей пьесой. Эта следующая – «На дне» – была написана даже до того, как «Мещане» появились на сцене. Той же весной 1902 года, приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Олеизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта «На дне». Это было в мае, а в августе я уехал к нему в Арзамас, где он мне прочел уже всю пьесу. В самой первой редакции пьеса называлась «На дне жизни».
Работа над «Мещанами» настолько затянулась, что первое представление пьесы состоялось уже не в Москве, не зимой, а весной, в Петербурге. Как мы и ожидали, имя автора было встречено в драматической цензуре хмуро. Однако, помирившись на немногих цензурных вымарках, пьесу «Мещане» нам отстоять удалось.
{303} И. А. Сац[161]
И. А. Сац в Художественном театре так и остался незамененным… Сац был самым замечательным театральным музыкантом, каких я когда-либо знавал, – музыкантом сцены, музыкантом творимого театром спектакля. Он обладал совершенно исключительным даром, с одной стороны, чувствовать пьесу, режиссера, актеров, характер спектакля и с другой – находить на своей музыкальной палитре такие образы и краски, которые в чудесных и причудливых гармониях органически сливались с актерами, с режиссером, с пьесой, со всем спектаклем.
Кто из композиторов, самых крупных, не производил иллюстраций драматических спектаклей! Есть прекрасные и популярные иллюстрации Мендельсона, Чайковского, Грига. «Пер Гюнт» Грига едва ли уступает «Пер Гюнту» Ибсена. Но «Пер Гюнт» Грига, вдохновленный Ибсеном, совершенно самостоятельное произведение. Его место – концертный зал. И когда играют поэму Ибсена в сопровождении музыки Грига, как это и было допущено в Художественном театре, то слушатели обретаются в непрерывной раздвоенности, их напряженное внимание то и дело переносится из настроений концертных в театрально-драматические. С ощущением чувствительных сдвигов или толчков. И от этого драма теряет в своей непосредственности, в своей динамической непрерывности, а музыка – в той четкости и незасоренности, какую она имела бы в концерте.
Это одно из любопытных театральных заблуждений на протяжении многих десятков лет: когда ставится пьеса, в особенности так называемая постановочная, то заказывается сопровождающая ее музыка. Так же, как в былое время, заказывали декорации, то есть без подчинения всех элементов спектакля единой воле. Художник писал декорации, композитор музыку, режиссер создавал мизансцену, актеры интерпретировали пьесу. Каждый вкладывал в постановку свое ощущение пьесы, но без того, чтобы всем вместе найти общее духовное направление. При этом еще музыка не вливалась в драматический спектакль, как все, что составляло его по ту сторону занавеса, а выносилась сюда, в оркестр, сидящий перед занавесом, с дирижером, являвшимся как бы каким-то персонажем пьесы.
{304} [К 100‑летнему юбилею А. Н. Островского][162]
Если Островского хотят поставить в образах для строительства Новой Жизни, то надо брать от него не форму, не его драматургическую технику… В этом отношении можно уйти далеко вперед… даже не быт, как таковой, а вот именно его учение о добре и зле, его верховный мудрый глаз на грешную землю. Там, где в основу строительства жизни, как краеугольный камень, ставится ненависть, там Островский будет лишним. Не формально надо брать его. К этому разные театры уже готовы, они уже говорят, что роли у Островского – те же маски из итальянской комедии. Этакая у нас страсть отдавать свое добро! От этакого использования Островского толка не будет. Мне не важно, как формально будут играть Островского – в декорациях ли передвижников, на сукнах или в порядке конструктивизма, – если эта внешняя форма придет от глубинного понимания духа Островского. Вот это мне важно. Важно, чтоб актер всем своим существом нес в публику правду Островского. Миролюбие его честное, его Доброе, его Улыбчивое, его яркое, красочное слово – в этом искал обаяние, в этом заимствовал уроки для сценического воздействия – Живую жизнь! <…>
[Об Островском][163]
Оценивать значение Островского для нашего времени вне театра, вне Островского-драматурга, все равно что обесценивать его на добрые пятьдесят процентов.
Ведь, в конце концов, писателей, соединяющих огромный литературный талант с таким же сценическим, наперечет по всем национальностям мира. А между тем именно этой стороной специально занимаются у нас недостаточно.
Мы называем это «чувством театра». Что это такое? В чем именно проявляется оно у Островского? Какие особенности его творчества дают ему театральный успех? Почему пьесы иных крупных литературных талантов не звучат так сценично, как пьесы Островского?
Нам, людям театра по преимуществу, иногда кажется, что это чувство театра у Островского чрезвычайно родственно актерскому чувству. Оно должно быть врожденным {305} или может быть воспитываемо. Мы знаем актеров со сценическим даром таким легким, заразительным и так рано проявлявшимся, что невольно считаем его врожденным. И знаем актера, тоже добившегося больших успехов, но в течение десятка-другого лет преодолевавшего в себе какие-то сценические затруднения.
В настоящей краткой заметке я пробую только наметить пути для изучения сценического таланта Островского. Он, по-актерски чувствует звучание (в театральном резонансе) образа, темперамента, слова, ритма, в особенности сценические положения. Он художественным чутьем оценивает силу неожиданностей, тех неожиданностей, которые сначала могут казаться театральными deus ex machina[164], а на самом деле необходимы.
Все эти черты особенно ярко проявляются у сценического таланта в первых выступлениях. Дальше уже чувство театра переходит в мастерство. Его образы великолепно помогают актерскому творчеству. Его замечательнейший «язык» чрезвычайно выигрывает, когда произносится со сцены, потому что он характерен для каждого образа в отдельности. Он создает роли.
Актерский мир в течение десятков лет и в своем быту говорил языком Островского – до такой степени сливалась личная актерская психика со сценическим восприятием образов Островского. Его пьесы обладают той счастливой ясностью, которая так помогает сценической реакции. Островский чувствует театральное время. Он не боится кажущихся неестественными театральных скачков. У него в первом действии «На всякого мудреца довольно простоты» Курчаев, уйдя со сцены, возвращается минут через пятнадцать – двадцать, а рассказывает, что он уже побывал и у Мамаева и в Сокольниках у Турусиной; словом, что потребовало бы в действительности по крайней мере часа полтора.
Реалиста, склонного к натурализму, такое несоответствие действительного времени с театральным могло бы смущать. Островский не останавливается и перед сокращением психологических интервалов.
Но есть еще более важные черты, делающие пьесы Островского такими сценичными. Это, во-первых, атмосфера добра в его произведениях, ясная, твердая симпатия {306} на стороне обиженных, на что театральный зал всегда чрезвычайно чуток. И затем – то, что мы называем художественной идеализацией образов. Это вовсе не значит, что Дикой, Хлынов, Рисположенские, Брусковы, Коршуновы, Чугунов и вся эта галерея отвратительных людей возбуждают в Островском хотя бы примирение с ними. Его глубоко враждебное отношение к таким образам не может подлежать ни малейшему сомнению. Но как художественные создания они носят в себе те же черты пленительности, как и самые положительные лица. Так сказать, воспитательное значение такого творчества остается во всей силе. В жизни вы отвернетесь от этих людей с презрением, а в театре проводите их бодрым, жизнерадостно-честным смехом.
Не останавливается Островский и перед умилением, в особенности в финалах своих произведений, нигде не переходя в мелодраму. Правда, эта атмосфера добра, так рисующая Островского мудрым, глядящим на жизнь то трогательно-ласково, то строго-проницательно, с годами, в позднейших пьесах, как будто переходит в добродушие, в квиетизм – качества для крепкого молодого поколения даже неприемлемые. Особенно ярко это отразилось на второй редакции «Воеводы».
Можно бы, анализируя его сценическое творчество, наметить еще целый ряд маленьких, второстепенных проявлений этой «тайны» – чувства театра.
[И. С. Тургенев][165]
Я начал любить Тургенева с малых лет. Осталось в памяти огромное впечатление от Герасима и Муму. Когда уже в зрелом возрасте я перечитывал этот рассказ, я не мог хорошо понять, почему он произвел такое потрясающее впечатление на меня, десятилетнего мальчика.
Сильнейшее впечатление на меня производили «Отцы и дети» и «Вешние воды».
Моим учителем словесности в гимназии в Тифлисе был человек знающий, но не любивший ни нас, учеников своих, ни того святого волнения, какое возбуждала в нас передовая художественная литература. Но в параллельном классе был учитель Горяинов, заслуживающий самой благодарной памяти. Он некоторое время собирал учеников {307} во внеклассные часы и беседовал с нами. Потом ему это запретили. Ему мы обязаны были многим, и между прочим любовью к Тургеневу.
«Рудиным» я увлекался меньше, «Дворянским гнездом» больше. Любил я всегда и «Затишье», и многое в «Дыме», и в «Накануне», даже не в такой сочной вещи, как «Новь», но «Отцы и дети» и «Вешние воды» захватывали меня, сколько бы раз в жизни я ни возвращался к ним. А это было очень-очень много раз, до самых последних лет.
Едва я начал работать по театру, как моей мечтой стало увидеть на сцене «Месяц в деревне» с сохранением того аромата, каким веяло от романов Тургенева. Это была мечта о литературном театре, каким не всегда был даже самый лучший из русских театров – Московский Малый и какой я старался осуществить в Художественном.
Что больше всего я ценил, в Тургеневе?
Мало кто из мировых поэтов умел так волнительно рассказывать о любви и в особенности о любовных катастрофах. Это, по-моему, самое сильное в Тургеневе.
Но он же умел вдохновлять красотой гражданского мужества, в особенности в женском образе. Громадное большинство наших юных встреч с девушками – гимназистками и курсистками – были проникнуты тургеневской идеологией. «Что делать?» Чернышевского, Достоевский и Тургенев, но больше всех Тургенев.
Одно время, не совсем без основания, называли Чехова сыном Тургенева. Его влияние можно было бы указать не только на отдельных кусках Чехова, но и на особенной тургеневской мягкости красок и на отношении к русской природе. Есть у Чехова даже несколько выражений целиком из Тургенева. Но в то же время никто так ярко и решительно не обрушивался на устарелую форму изложения Тургенева, как именно Чехов. Тягучесть, повторность, обилие придаточных предложений, излишняя декоративность в описаниях природы – все то, чему так подражали в Тургеневе второстепенные писатели и что сам Тургенев впоследствии называл «плохой литературой». «Сын» резко сметал эту манеру со своего литературного пути: мужественной сжатостью, отсутствием деепричастий, – «который», «словно», огромного подбора слащавых эпитетов и пр. и пр.
{308} Люди театра не забудут Луначарского[166]
Сколько ни живешь на свете, как ни философствуешь, а все не можешь отделаться от взрыва досады, сдавленного негодования, бессильной злобы при известии о смерти человека, каждый день которого мог нести людям или пользу, или радость, или то и другое вместе…
Смерть Луначарского не явилась неожиданностью и все-таки потрясает. В первые часы после известия ярко и быстро мелькают лишь главные черты воспоминаний: о его богатом общественном прошлом, об участии в громадных революционных сдвигах, об успехах и ошибках…
Прежде всего: исчез огромный ораторский талант. Кто только не находился под обаянием красочной убедительности и огневости речей Луначарского! Люди театра не забыли, как в первые месяцы революции они приходили на собрания, заряженные «протестом» до зубов, со стиснутыми скулами, а после полуторачасовой зажигательной речи, под мягкими, но беспощадными ударами железной логики сбрасывали с себя все сомнения и с места рвались в бой за вожаком. Самые непримиримые, самые упрямые!
Потом – какая-то, почти не поддающаяся объяснению эрудиция. Безошибочно можно сказать, что в истории культуры всего мира не было ни одного явления, ни одного имени, которых бы Анатолий Васильевич не знал и по которым не мог бы тут же, без справок с книжной полки, дать более или менее обстоятельные сведения.
Как человек, призванный быть администратором, он, казалось, всегда находился в борьбе со своим добрым сердцем. Он мучился, если ему надо было отказать в чем-нибудь. При этом, если только его собеседник не был явным политическим врагом, Анатолий Васильевич прежде всего видел его достоинства и почти забывал о недостатках собеседника. Он вовсе не старался быть приятным, но тем не менее был им, особенно благодаря искреннему и какому-то доверчивому тону.
Немало надо будет сказать о его драматургии, о его своеобразных подходах к театру…
{309} Через 30 лет (Чехов)[167]
Близость между Художественным театром и Чеховым была чрезвычайно глубока. Родственные художественные идеи и влияния Чехова на театр были так сильны, что кажутся несоизмеримыми с тем коротким сроком, который они продолжались. Ведь это всего на протяжении пяти с небольшим лет. В первый год существования театра Чехов его не знал совсем, и в театре только очень немногие знали Чехова лично, даже после блестящего успеха «Чайки» – истинной создательницы Художественного театра. Многие в театре, начиная с Константина Сергеевича даже, поняли и полюбили Чехова только после того, как приобщили свое творчество к его творчеству. А потом, через пять лет, он уже умер. И за этот короткий срок произошла такая художественная сплоченность, что в театре едва ли проходила какая-нибудь серьезная репетиция, во время которой на том или на другом примере не было бы произнесено имя Чехова.
Какие задачи ставил театру Чехов-драматург?
Освободиться от заскорузлых наслоений сценической рутины и литературных клише старого театра.
Вернуть сцене живую психологию и простую речь.
Рассматривать жизнь не только через ее вздымающиеся вершины и падающие бездны, но и через окружающую нас обыденщину.
Отыскивать театральность драматических произведений не в пресловутой сценичности, отдавшей театр на много лет во власть особого рода мастеров и оттолкнувшей от него живые литературные таланты, а в скрытом внутреннем психологическом движении.
Искусство Чехова – искусство художественной свободы и художественной правды. Искусство художника, который любил жизнь тем более, чем менее имел на нее права вследствие своей болезни. Любил ту простую жизнь, какая дана всякому человеку. Любил березу и солнечный луч чистого утра, любил извилистую степную речку, которую «камыш украшает, как брови красивые глаза девушки». Любил мягкий посвист перепела и тоскливый крик совы. Беззаботный смех, молодость, наивную веру, женскую любовь, литературных друзей, даже обывателей, над которыми смеялся. Любил русский язык, его славянский лиризм, его меткие сравнения, неожиданную образность. И более всего любил «тешить свой ум мечтами».
{310} Он был искренен, и говорил и писал только так, как чувствовал.
Он был глубоко добросовестен, и говорил и писал только о том, что знал крепко.
Он любил быт, как только может любить его художник-колорист. И глядел он на него простыми, умными глазами.
И вдруг… отчего произошла эта тоска? Эта знаменитая «чеховская тоска», которая так ошеломила читателя красотою субъективной правды? Точно вскрыл он внезапно то, что носил тогда в душе каждый русский интеллигент. Вскрыл и стал так близок душе читателя.
Откуда она подкралась? От недуга ли, подтачивавшего его жизнерадостность, или от мечтаний о лучшей жизни?
Тем, что в душе Чехова было самым глубоким и серьезным, он не делился даже с близкими. Как человек большого содержания и скромный, он любил одинокость чувства и одинокость мысли. Но при всей сдержанности иногда, в особенности в письмах, он не мог скрыть мучительного тяготения к самым простым радостям жизни, доступным всякому здоровому человеку. В эти пять лет близости к Художественному театру он был прикован к югу, к лакированной зелени Крыма, которого не любил, вдали от литературных кружков, от близких, от левитановской природы, от Москвы, к которой чувствовал особенную нежность, и часто тосковал ужасно.
«Мне ужасно скучно. День я еще не замечаю в работе, но когда наступает вечер, приходит отчаяние. И когда вы играете второе действие, я уже лежу в постели. А встаю, когда еще темно. Представь себе: темно, ветер воет и дождь стучит в окно».
Да, вот представьте себе. В то время, когда Москва грезится ему сверкающей вечерними огнями, когда в его любимом театре играют второе действие, может быть, даже как раз то второе действие его «Трех сестер», где осевший в провинции Прозоров говорит: «С каким бы удовольствием посидел я теперь в трактире Тестова», когда публика, пользующаяся всеми простыми благами столицы, плачет над участью тех, кто томится в скучной тоскливой глуши, – тогда именно автор, вызвавший эти слезы, испытывал «отчаяние», как заключенный. А когда все, о ком он вспоминает, еще ранним-рано спят, он уже встает. И воет ветер, и дождь стучит в окно. И еще темно!
{311} Я не имею возможности обращаться здесь к тем многочисленным трогательным, ласковым и печальным воспоминаниям, которыми окутана близость Чехова к Художественному театру. Один из наиболее дорогих нашему сердцу писателей и «коллективный художник» театр слились в самых трепетных своих мечтах и стремлениях. За пять лет, силою судеб, дружественно и тесно сблизились их жизни для того, чтобы укрепить в искусстве новое движение.
Тридцать лет прошло со дня смерти Чехова, и когда разглядываешь пути сценического творчества за этот период, то ясно видишь, какую огромную роль сыграло это движение. Несмотря на каскад «новых форм», их сущность, их живая природа исходят от все тех же источников непрерывно очищаемого от штампов русского реализма.
С детства «театральная»
(А. А. Яблочкина)[168]
Люди театра, конечно, сделают основательную характеристику нашей юбилярше как актрисе и сумеют оценить ее громадную деятельность. Я хочу остановиться на самом начале ее театральной карьеры, на ее «школе»…
Придется, пожалуй, окунуться в глубь далеких воспоминаний.
После покорения Кавказа и до начала семидесятых годов театр в Тбилиси был казенный, императорский. Культивирование театра входило в программу русификации края. Театр находился внутри караван-сарая. А караван-сарай – это нечто вроде гостиного двора. Помню небольшой уютный театральный зал в ультравосточном вкусе. Помню с боков у среднего входа ложи с решетками – это для скрывающих лицо женщин. Кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич, брат царя (Александра II), не жалел казенных средств на театр. Тут сосредоточились все роды сценического искусства: была и итальянская опера, и русская драма, и комическая опера, и даже – немного – балет. Меня, мальчика, мать очень часто водила в театр. Я помнил огромное количество слышанных мною опер. В течение трех, много четырех лет я переслушал все ходовые тогда в Италии и в Петербурге оперы Беллини, Доницетти, Россини, Моцарта, {312} Галеви, Обера, Флотова. Я помню ясно «Горе от ума», «Маскарад», «Гамлета», «Шутников», «Бедность не порок», «Мудреца», «Грозу»… Среди всего этого помню и «Дочь полка», и «Птички певчие», и «Орфея в аду», после постановки которого в гимназии было вывешено запрещение посещать театр, потому что актер Соколов (впоследствии Градов-Соколов) в роли Юпитера зло острил насчет директора гимназии… Сейчас я даже плохо представляю себе, как такой колоссальный репертуар умещался на одной сцене. А кстати, плохо представляю себе и то, как я мог запомнить до сих пор такое громадное количество спектаклей, виденных мною на протяжении нескольких лет отрочества.
Драматическая труппа составлялась преимущественно из театральной молодежи московского Малого и петербургского Александринского театров.
Так вот, в этом театре в караван-сарае помню «Грозу», в которой Катерину играла Михайлова, а Варвару – Светланова[169]. А были это псевдонимы. Потому что эти две актрисы, как рассказывалось тогда, приехали в Тбилиси полуконтрабандой, без официального разрешения петербургского начальства, а настоящие фамилии их были: г‑жа Яблочкина 1‑я и г‑жа Яблочкина 2‑я – молодая жена актера и режиссера А. А. Яблочкина и дочь его от первого брака, как все называли ее, – Женя Яблочкина.
Может быть, это было первое представление «Грозы» в древней столице Грузии Тбилиси, в театре, помещенном между лавками караван-сарая и построенном в восточном стиле, с решетчатыми ложами.
Михайлова несла репертуар первой драматической актрисы. Светланова была одной из талантливейших ingйnue[170] того времени. Через два‑три года после этого пребывания в Тбилиси она прославилась исполнением Агнии в премьере «Не все коту масленица» в Петербурге.
Должно быть, семья Яблочкиных полюбилась Тбилиси и Тбилиси полюбился ей, потому что вот как было дальше.
Яблочкины уже возвратились на место своей постоянной службы в Петербург, как в Тбилиси затрещал театр. Казначейство наместника нашло, что дело русификации через театр обходится слишком дорого; дирекция {313} во главе с полковником Филосовым (какие вздорные подробности остаются иногда в памяти!) была упразднена, и театр сдан частному предпринимателю, антрепренеру Надлеру. Труппа теперь была уже только драматическая, собранная из провинциальных актеров. Дело было малоинтересное и заслуживает памяти разве потому, что в труппе был молодой, входивший в славу А. П. Ленский.
Антреприза Надлера просуществовала недолго, и театр был сдан Яблочкину на условиях довольно высокой субсидии и, помнится, сроком на шесть лет. Яблочкину пришлось выйти в отставку и окончательно поселиться в Тбилиси.
Яблочкин был первым крупным режиссером в русском театре. С его именем впервые устанавливается большая самостоятельная власть режиссера. До него на режиссере сосредотачивались почти исключительно административные обязанности, актерам он мало помогал и в художественном отношении был занят только обстановочной частью. Яблочкин прославился постановкой «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого в Петербурге, причем большой успех выпал и на долю так называемых народных сцен. Но он уже и там, в Петербурге, врывался в творчество актеров и становился близок им как режиссер-педагог. От своей личной актерской карьеры он отказался и всю свою огромную энергию направил на театр во всем его объеме. Он и пьесы ставит, он и актеров учит, он же и антрепренер, рискующий всем достоянием своим и своей семьи.
Когда он с семьей переселился в Тбилиси, то оказалось, что семья-то состоит не только из молодой жены под псевдонимом Михайловой и дочери от первого брака под псевдонимом Светлановой, но еще двух детей от второй жены – мальчика Володи и пятилетней девочки Сани, то есть той самой Александры Александровны, юбилей которой мы сегодня празднуем.
Мальчику нужен был учитель. Обратились в гимназию. Директор порекомендовал первого ученика седьмого, предпоследнего класса. Мне было всего пятнадцать лет, но у меня уже был педагогический опыт, так как я начал давать уроки с тринадцати лет.
Яблочкин платил мне щедро, но если бы он и поскупился, я все равно радостно ухватился бы за уроки в театральной семье, за одну возможность приблизиться к дому, где в воздухе носятся слова из театра, где люди, {314} как мне казалось, ходят и говорят не так, как обыкновенные люди, где пахнет театром, костюмами, красками, – к дому, где все полно переживаниями самолюбий, мечтаний, явных успехов и тайных закулисных столкновений, – словом, приблизиться к театральной атмосфере, в какой росла наша юбилярша.
В старину это было очень распространенное явление – несколько поколений семьи отдавалось театру. И «учебе» придавалось очень мало значения, а часто она даже считалась вредной. Хотя школа при императорских театрах существовала, хотя знаменитые Федотова, Ермолова, Никулина вышли из такой школы, тем не менее популярность ее все падала, и первое место в театре занимали все чаще актеры из провинции.
Вот об этом-то я и хотел сказать, взявшись за перо.
А. А. Яблочкина всегда была очень соблазнительным примером для людей, восставших против театральной школы. Практика, практика, практика и советы хороших актеров – вот, по их мнению, лучшая школа. Счастье Александры Александровны было уже в том, что она росла около такого педагога, как ее отец. Помню, я однажды присутствовал на его репетиции. Была такая драма – «Испорченная жизнь» Чернышева. Главную роль играл молодой актер Журин… не могу вспомнить – потом женившийся на Жене Яблочкиной или уже бывший ее мужем… И врезалось мне в память, как Яблочкин заставлял Журина повторять главную сцену множество раз, да во весь голос и всеми нервами, – сцену-монолог, – то заражая Журина своей энергией, то объясняя ему психологическое содержание, то просто показывая по-актерски. Такая режиссура была тогда новостью, во всяком случае, явлением необычным… Шестилетняя Саня не могла не вбирать таких уроков всем своим существом.
Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что в этом же именно спектакле Саня Яблочкина выступала в роли дочери героя и героини пьесы. Это был ее первый выход на сцену.
Счастье Александры Александровны было в том, что уже девушкой семнадцати-восемнадцати лет она попала на курсы Федотовой. Значение школы при Малом театре тогда совсем свелось к нулю. Начались заботы о реорганизации ее. Курсы Федотовой, еще не оформленные каким-нибудь уставом, были только первой ласточкой будущей школы – курсов Ленского, Правдина, Садовского.
{315} Но пребывание в классах Федотовой продолжалось всего несколько месяцев. Вероятно, по настоянию отца она сразу пошла «на практику»; поступила в театр Корша, где ей могли дать ответственные роли на первых же шагах.
И вот, не пройдя никаких определенных курсов, она тем не менее заняла сразу сравнительно крупное положение. Таких примеров было много, они-то, я и говорю, являлись соблазном для противников театральной школы. Причем в их доводах было, к сожалению, много верного. Я сам впоследствии, когда управлял школой, много раз находил какие-то преимущества в том, когда молодые люди начинали свою сценическую карьеру сразу. В таком начале скорее, ярче и вернее проявляются их артистические данные, качества темперамента, сценическая восприимчивость и голос, голос, голос. Голос и дикция, важнейшие качества актера, не раскрываются так ярко в обстановке школы, почти всегда интимной. Качества заразительности – лирической ли, драматической, или смех, или юмор, и одно из необходимых свойств актерской личности – память, – словом, все актерские данные раскрываются скорее и определяются точнее, когда молодому человеку необходимо выступать перед публикой возбужденным, сугубо внимательным, подстегиваемым необходимостью выполнить задачу как можно лучше. Все это имеет и огромные недостатки. Это влечет к так называемым штампам, к безотчетному внешнему подражанию образцам, имевшим влияние чуть не с детства.








