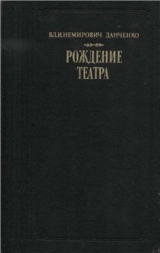
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
За образом Станиславского можно было узнать длинный ряд московских бар, сохранивших аристократизм во {271} всех взаимоотношениях, без всякого чванства, в простоте, деликатности и… инертности, – людей благородной мысли, приятных, но не способных к жизненной борьбе.
Великолепным типом этого же порядка, но более молодого поколения был Качалов (Карелин). Отлично схватили «толстовское» все вторые и третьи персонажи. Очень нравилась публике Лилина (Каренина).
Вообще, это был из тех спектаклей, как «Царь Федор», пьесы Чехова, «Братья Карамазовы», «На всякого мудреца…», – которые часто приводят к мысли, что самое высокое в искусстве исходит только из недр глубоко национальных.
4
До революции актер воспринимал от автора образ по двум основным волнам: жизненной и театральной. Жизненная может снижаться до «житейской», до маленькой, бытовой, натуралистической правды; и может вздыматься до обобщения, до большой правды. Идеологическая линия спектакля поневоле старательно затушевывалась. На репетициях, в беседах о пьесе и ролях, в исканиях переживаний мы забирались глубоко в идеологию, а на спектакль выносили завуалированно. В восприятия современного актера ворвалась новая волна – социалистическая. Современный сценический образ создается из синтеза этих трех восприятий – жизненно-реального, социалистического и театрального.
На пороге новых течений в театре, на пороге новых социальных задач, на переходе к созданию новых образов, складывающихся в жизни Советского Союза, все более и более чувствуется разрыв между тем толстовским мироощущением, о котором я рассказываю, и задачами, вдохновляющими сегодняшнего актера.
Что вошло в психику сегодняшнего актера Художественного театра от переживаний его отцов, от этого «чеховского», «толстовского», – нелегко еще определить. Что останется и будет помогать новым влияниям? А что будет задерживать стремление актерского темперамента отобразить новые жизненные образы? «Вишневый сад» и даже «Царь Федор» волнуют нового зрителя, может быть, не меньше, чем дореволюционного, хотя постановки не подвергались ни малейшим изменениям. Однако искусство актера органически не может быть оторвано {272} от окружающей его жизни. А между тем рядом с чеховской лирикой и толстовской примиренностью звучит мужественной простотой и неустанным призывом к борьбе то «горьковское», что властно сближает сегодняшнего актера со всеми явлениями современности, от крупнополитических до мелкобытовых.
И в то время, когда пишутся эти строки, Художественный театр играет лучшие свои спектакли – «Воскресение» Толстого и «Враги»[139] Горького, – сохраняя глубокую, всеми корнями связь со своими традициями и однако совсем не так, как играл бы эти пьесы прежде.
Социальное положение сегодняшнего актера так резко разнится от прежнего, замкнутого в стенах театра, широчайший жизненный поток страны так захватывает все его существо, что вместе с художественным наследием отцов его психика получает и новое содержание и новый закал.
{273} Статьи. Заметки. Речи. БеседыО деятелях литературы и искусства
Тайны сценического обаяния Гоголя[140]
В одном из своих писем Гоголь говорит: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом». И затем прибавляет: «Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра»[141].
В этих строках вся сущность психологии театра. Какие бы течения ни увлекали драматическое творчество, в какие бы формы ни отливались сценические идеалы времени, – для театра остается неизменным закон единого общего переживания.
Всякое отдаление автора от этого закона угрожает ему равнодушием, а всякое приближение к нему дает автору огромную власть над театральной толпой.
Достижение этой власти так же бесконечно разнообразно, как разнообразны приемы творчества. Существует заблуждение, что так называемая сценичность не относится к области творчества, а лишь к умному, внимательному и расчетливому использованию условий сцены. Золя, как известно, решительно утверждал, что всякий умный писатель может быть драматургом. Но если это неверно само по себе, то относительно Гоголя такой взгляд был бы тяжким грехом неблагодарности.
Когда вдумаешься в психологию творчества такого произведения, как «Ревизор», тогда не знаешь, чему больше удивляться, какая из духовных сил, создавших эту комедию, возбуждает больше поклонения: та ли, которая вдохновляла поэта вылавливать из русской жизни {274} ее самые типичные черты? Та ли, которая поднимала поэта до божеских высот, где находил он крепость и силу мудреца? Та ли, которая углубляла его взор до самых мелких и острых рисунков быта и сообщала автору радость правдивого, чистого, заразительного смеха? Или же та, которая складывала все эти черты в гармоническую картину характеров и столкновений, разбитую на акты, сцены и диалоги, та духовная сила, которая вводила эти акты, сцены и диалоги в неразрывную связь с театральной залой и которая есть гениальное чувство сцены, вдохновенное чувство театра?
Кто может уловить, где находится творческий первоисточник той или другой сцены «Ревизора»? Отлилась ли эта сцена в такую форму потому, что автор нашел ее наиболее соответствующей содержанию, или наоборот – сама сценическая форма вызвала из памяти поэта бытовую черту и самый сценический эффект сообщил ей определенное освещение?
Кто может сказать, чем возбуждается художественное творчество: идеей, сочувственной болью, усмешкой ли над пороком, или красотой и оригинальностью формы, дерзостью новизны ее?
Тем, что я называю сейчас чувством театра, Гоголь обладал в величайшей степени.
Чувством русского, реального театра.
На протяжении всей огромной работы над «Ревизором» он не перестает жить этой неразрывной связью своего замысла с театральной залой. Вдохновенно проникая в эту связь, он дает ей беспрерывное тепло, жизнь, вносит в нее волны возбуждения и подъемов и сам постоянно загорается ею. Только разгоряченный чувством театра, он дает волю темпераменту, который и увлекает его фантазию до высших сценических эффектов – эффектов новых, им самим создаваемых, а не заимствованных у французской драмы, – чего не избег даже его великий предшественник в области русской комедии – Грибоедов.
С какой силой, с какой простотой, с какой гениальной экономией происходит завязка пьесы! Вы знаете, что по теории драмы первое действие посвящается завязке, второе – развитию, третье доводит пьесу до кульминационного пункта, четвертое подготовляет развязку, которая заключается в пятом действии. Самые замечательные мастера театра не могли завязать пьесу иначе, как {275} в нескольких первых сценах. В «Ревизоре» же – одна фраза, одна первая фраза.
«Я пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».
И пьеса уже начата. Дана фабула и дан главнейший ее импульс – страх. Все, что могло бы соблазнить писателя для подготовки этого положения, или беспощадно отбрасывается, или найдет себе место в дальнейшем развитии фабулы. Как сценически крепко надо было овладеть замыслом комедии, чтобы так смело и в то же время так просто приступать к ней!
Если бы вы взялись проследить шаг за шагом, сцену за сценой, развитие этой не сложной, не загроможденной фабулы, проследить не с точки зрения заложенных в пьесу нравственных проблем и не со стороны того общественного значения, какое имеют для нас нарисованные в комедии нравы, а исключительно со стороны ее сценической формы, то вас ни на минуту не покидало бы то радостное изумление, какое посылает нашей душе истинное искусство.
Нет возможности даже в самых подробных догадках охватить тот громадный, разбросанный, разорванный жизненный материал, который мелькал перед напряженным умственным взором поэта во все время его творчества. Встречи – постоянные и случайные, – наблюдения, воспоминания, образы фантазии, размышления, мечты – все, что питает дух великого человека, все это, мелькая, попадает в этот лучистый сноп внутреннего света, «второго зрения». Мелькает и исчезает с быстротой мысли. И только то задерживается, только то движение человеческой души, бытовая краска, жест, выражение лица, слово – только то останавливает на себе упорное и едкое внимание поэта, что поражает, волнует и радует его близостью, родственностью с его замыслом. Происходит непрерывный контроль в выборе материала. И если вообще этот контроль устанавливается тем, что мы называем «художественной идеализацией», и принадлежит всякому роду изящной литературы, то в комедиях Гоголя и в «Ревизоре», по преимуществу, этот контроль дважды, трижды, во сто раз усугубляется чувством сцены. Отсюда вся фабула, развивающаяся в такой простоте и последовательности, как будто бы это была сама жизнь, сами житейские будни, под напряженным напором чувства сцены получает сжатость, сочность и компактность. {276} Когда следишь за сценическим рисунком комедии, то иногда положительно думаешь, что это чувство театра руководило всеми духовными силами поэта.
Пока пьеса развивается еще в покое, чисто сценическое творчество еще не нуждается в особенном напряжении. В самом юморе Гоголя, в колорите, в красках, в миросозерцании, склонном всегда к обобщениям, – во всем заложено то, что вызывает «чудо театра», то обаяние, которое заражает аудиторию.
Как Пушкин одной своей сценой в корчме[142] был провозвестником огромного цикла русских драм, как психологическими романами Достоевского питалась русская драматическая литература в течение двух десятков лет, как женские образы Тургенева вдохновляли русскую сцену, так Гоголь своими повествовательными сочинениями создавал сценический язык пьес, его остроту, меткость и красочность. Всякий драматург испытывал на себе обаяние сценичности гоголевского юмора.
И чувство театра удовлетворяется в полной мере, когда, несмотря на отсутствие так называемого сценического движения, на некоторый застой в развитии фабулы, писатель с увлечением отдается подробностям, согревая их своим юмором. Чувство театра удовлетворяется, потому что юмор этот, освещая подробности светом истины, имеет беспредельную власть над толпой, которая может «засмеяться одним всеобщим смехом».
Но с развитием фабулы сцена требует учащенного темпа, ее температура поднимается, пульс усиливается. Всеми своими нервами поэт чувствует, что для того, чтобы держать власть над театральной залой, нельзя уже оставлять действующих лиц в покое бытовых подробностей, смех может застояться, зала может остыть. Драматург с жестокостью хирурга отрезает все, что ему кажется лишним. (Охватить все далеко не так легко. Многое он заметит только гораздо позднее, когда комедия уже будет окончена.) Требуются сценические толчки…
И вот тут-то с особенным блеском обнаруживается сценический гений Гоголя. Он находит эти толчки не в событиях, приходящих извне, – прием всех драматургов мира, – откуда эта бедная событиями жизнь небольшого русского городка может давать интересные внешние события? Гоголь находит сценическое движение в неожиданностях, которые проявляются в самих характерах, {277} в многогранности человеческой души, как бы примитивна она ни была. Только человеческая душа дает ему материал для сценического развития фабулы. Углубляясь в определенные характеры, поставленные в известные условия, великий комик находит в них такие неожиданности, и эти неожиданности так поражают и наполняют душу художника таким радостным волнением, что он с непоколебимой убежденностью пользуется ими для сценического движения комедии. Он как бы ведет зрителя по пути самого углубления, какое пережил сам, стараясь сохранить свежесть своих непосредственных находок, – и в этом самом пути полагает радостное удовлетворение чувства сцены. Тогда поэту уже нет надобности сдерживать свой темперамент в известных границах.
До сих пор он не давал ему полной воли, потому что это могло внести поспешность там, где требовалось эпическое спокойствие, соответствующее эпическому застою русской жизни. Теперь же, как бы ни разыгралась его фантазия, – все ее источники покоятся в области найденной им правды. Никакие преувеличения, никакая сгущенность красок, никакая быстрота в смене настроений не изменят высшей, художественной правде. И если в четвертом действии этот кипучий, искрящийся темперамент выливается в ряд быстрых и шаловливых сцен, то в последнем он весь сгущается для того, чтобы сосредоточиться на большом финале комедии. Этот финал представляет одно из самых замечательных явлений сценической литературы. Вы его отлично знаете. Пользуясь теми же неожиданностями, которые гениальны по своей простоте и естественности, Гоголь выпускает сначала почтмейстера с известием, что чиновник, которого все принимали за ревизора, был не ревизор, потом, углубляясь в человеческие страсти, доводит драматическую ситуацию до высшего напряжения и в самый острый момент разгара страстей дает одним ударом такую развязку, равной которой нет ни в одной литературе. Как одной фразой городничего он завязал пьесу, так одной фразой жандарма он ее развязывает, – фразой, производящей ошеломляющее впечатление, опять-таки своей неожиданностью и в то же время совершенной необходимостью.
Но было бы легкомыслием считать этот финал только эффектным «театральным ударом». Еще после того, как письмо Хлестакова прочтено, несмотря на беспрерывный гомерический хохот, вы чувствуете, как комедия {278} быстро, неуклонно и с изумительной правдивостью начинает вздыматься до трагических высот. Мало того, вы чувствуете, как конкретный, бытовой случай переживания городничего и его окружающих, силою мощного темперамента во всеобъединяющей мысли поэта, вдруг освещается ярким, широким обобщением, которое в знаменитой «немой сцене» словно срывает внезапно все покровы быта и обнаруживает единую человеческую душу в ее огромном потрясении. Сколько раз вы ни смотрели «Ревизора», как ни были вы подготовлены, вы всегда бывали захвачены этим финалом, поразительным по красоте, по силе экспрессии, по необычайности и совершенной неожиданности формы, по вдохновенному сценическому расчету. Вспомните хорошенько, как ваши нервы доходили до высшего напряжения именно потому, что немая картина держится долго, очень долго. Вся аудитория также застывает в немом лицезрении, как и действующие лица на сцене. Неразрывная связь сцены с театральной залой достигает здесь идеальной силы.
Автор в своей ремарке требует, чтобы сцена держалась полторы минуты. Кто знает, – быть может, много раз переживая эту сцену, стараясь испытать все впечатление, какое она должна произвести в театре, – поэт почти точно вычислил длительность ее. Но, сколько мне известно, не было случая, чтоб она длилась более 52 секунд. И когда я спрашивал суфлера, который должен давать занавес, чем он руководствуется, то он ответил: «Я даю занавес, когда если бы еще секунда и мое сердце разорвалось бы». На одном из последних спектаклей я слышал, как дама, сидевшая в партере и добродушно хохотавшая весь вечер над городничим, через 15 секунд этой немой сцены, с ужасом, боясь нарушить тишину, проговорила: «Господи! с ним сейчас сделается удар». В собственном переживании она непосредственно и наивно почувствовала биение сердца городничего.
Великий драматург достиг того, что «толпа, ни в чем не сходная между собою», весь вечер смеялась одним всеобщим смехом и в конце была потрясена одним потрясением.
Русское общество любит литературу, театр, искусства. Но потому ли, что русское общество все еще никак не может устроить свою жизнь, освободить ее от гнетущих болей и забот, потому ли, что душевные горизонты русского человека так широки и многоцветны, что он никогда {279} не удовлетворится действительностью и его дух вечно останется ищущим и мятущимся, или потому, что искусства еще не вошли в его жизнь, как духовная пища первой необходимости, – русское общество в произведениях искусств интересуется больше всего почти только содержанием, тем «добром», которого «можно много сказать» с этой кафедры – театра. Форма мало привлекает его внимание. Но гений поэта, память которого мы чествуем в эти дни, имеет право на самое глубокое изучение его формы даже в наших условиях жизни, потому что он создал произведение театра, которое мы можем без малейшей натяжки назвать одним из самых совершенных и самых законченных произведений сценической литературы всех стран.
Об А. В. Неждановой[143]
– Я не могу говорить об А. В. Неждановой тоном авторитетного лица, как о певице, но рад о ней говорить, так как вообще человеку приятно поговорить о том, что дает ему большое наслаждение, всегда приносит большую радость.
Впервые я услышал А. В. Нежданову в то время, когда она была уже второй год на сцене. Помню, как в одном из антрактов (шла «Лакмэ»[144]), я начал допрашивать покойного С. Н. Кругликова об его впечатлении. Сам же я был поражен неожиданностью, так как наличность такой прекрасной певицы на Большой сцене была для меня настоящим сюрпризом. Нежданова в то время, как артистка, была гораздо выше своей славы. Кругликов разделил мои восторги и сказал, что у Антонины Васильевны, по его мнению, очень большое будущее. Тут же был У., очень торжествовавший, так как А. В. Нежданова, кажется, обучалась в консерватории на его стипендию.
Вы спрашиваете меня о том, какова Нежданова как артистка, что есть в ней, в самом деле, что так очаровывает, так радует? Постараюсь ответить на это.
Помимо совершенно чудесного голоса и музыкальной техники, наше ухо очень чувствительно как ко всему пошлому, так и ко всему, что избавляет от пошлости, что в искусстве овеяно искренней простотой и настоящим душевным благородством, не тем бутафорским театрально-штампованным, к какому прибегают актеры, а являющимся {280} результатом хорошо воспитанной души. Вот эти черты – искренность, простота и настоящее благородство, мне кажется, – и удерживают Нежданову от тех опостылевших форм, которые царят на оперных сценах. Я не скажу, что считаю ее по драматическому темпераменту лучшей или одной из лучших оперных певиц, но вкус и чувство правды удерживают ее от подделки под сценические страсти, которые никогда, в сущности, никого не волнуют. Это чувство правды, в связи с ее чудесным голосом и прекрасной манерой пения, делает Нежданову необыкновенно гармоническим сценическим явлением.
Речь на 50‑летнем юбилее Г. Н. Федотовой[145]
8 января 1912 года
Высокоуважаемая и дорогая Гликерия Николаевна!
В большой, объемистой книге, не изданной, не напечатанной, но крепко хранящейся в памяти ваших сверстников, книге, рассказывающей о ваших артистических деяниях, написанной на протяжении пятидесяти лет, есть глава, принадлежащая Московскому Художественному театру.
Конечно, не нам судить о ценности этой главы в расцвете русского сценического искусства, но наши сердца, полные глубокой и страстной благодарности, подсказывают нам право громко сказать, что вы сделали для нас, что может сделать энергия одной личности, когда вся она направлена к созданию прекрасного.
Уже наши первые шаги овеяны вашей чудесной энергией. С величайшей искренностью признаем мы, что и на всем движении нашей работы мы смотрели на вас – в лучшем смысле слова – как на светоч. На протяжении с лишком двух десятков лет мы не имели перед собой примера более яркого, более блестящего, как пример вашей артистической личности. И косвенно, созданием прекрасных сценических образов, и в непосредственном общении вы учили безраздельно отдаваться своему искусству, вы учили преданности, близкой к обожествлению его, вы раскрывали радость и красоту долга, вмещавшего в себе всю радость жизни. Всегда убежденная, всегда решительная и смелая, вы возбуждали негодование ко {281} всему пошлому и вульгарному, вы непрерывно толкали по пути к углублению в человеческую душу и к поэтичному воспроизведению ее.
Надо было в самой работе, в совместных исканиях испытывать ваше влияние, чтобы оценить во всей полноте красоту вашей неиссякаемой энергии и высоких образов.
И лучшее выражение благодарности, какое мы можем принести вам сегодня, в день вашего полувекового горения для искусства, – это наше обещание передавать ваши заветы дальше, следующим поколениям.
В этом обещаем и клянемся.
О Г. Н. Федотовой[146]
Из воспоминаний (1939 г.)
Книгу о Федотовой давно надо было написать.
Мне хочется подчеркнуть одно качество в этом образе – качество, которое было необычайно присуще индивидуальности Федотовой, но которое вообще трудно объяснимо. Это то, что называется «обаянием». Оно трудно объяснимо и потому, что является излучением целого комплекса и физических данных артиста – голоса, дикции, пластики, мимики – и душевных черт артиста, лирической заразительности, и потому, что восприятие этого «обаяния» зрителем в какой-то степени субъективно, зависит от вкуса, от художественного воспитания, присущего целой эпохе. И в данном случае я говорю не только за себя, а именно за большую публику, за русскую театральную залу эпохи Федотовой.
Когда я увидел Федотову в первый раз в 1876 году в «Мертвой петле» Николая Потехина, я как бы сразу влюбился. И тут же, студентом первого курса, на целый ряд спектаклей не мог оторваться от Малого театра. Она только что вернулась с гастролей и выступала в своих лучших тогда ролях – в «Каширской старине», «Сумасшествии от любви», «Блуждающих огнях». Влюбился и, в сущности говоря, так и оставался влюбленным более сорока лет, несмотря на расхождения и споры.
Самой характерной чертой ее личности была прежде всего властность – это была настоящая властная натура.
{282} Трудно было не подчиняться ей. Я бы сказал, что эта черта доминировала не только во всех ее жизненных взаимоотношениях, но и во всех ее артистических работах, на сцене, на репетициях, в самом характере ее творчества, во всех ее ролях, особенно в любимых ею, в которых она гастролировала.
В другом месте я рассказывал, что в определенный, довольно большой отрезок времени в Малом театре две артистки – Федотова и Ермолова – до такой степени владели и репертуаром и любовью всей театральной публики, что пьеса без участия той или другой из них была уже тем самым обречена самое большее – на скромный успех. Если участвовали в пьесе обе, то это обеспечивало длинный ряд полных сборов.
Но дело не только в этом. Если в пьесе участвовала Ермолова, то вся организаторская сторона репетиций, все достижения, стройность спектакля находились в руках режиссера и участвующих актеров, и нельзя было поручиться за то, что подготовка пьесы будет проведена в атмосфере высокой художественной дисциплины. Все ложилось на плечи исполнителей и, в особенности, конечно, самой Ермоловой.
Совсем другая картина репетиций была, если в пьесе играла Федотова. Она не только была занята своей ролью – она следила за всем спектаклем. Она в сторонке, около кулис, слушала репетиции сцен, в которых и не участвовала. Конечно, и актеры, занятые в пьесе, тоже хоть бегло, а следили за тем, как налаживаются роли у товарищей, но говорили об этом, обмениваясь мнениями с осторожностью, похожей на равнодушие, в «курилке», заглазно. А Федотова, не считаясь ни со своими правами, ни с самолюбием товарищей, иногда мягко, а иногда и очень жестко вмешивалась в работу всех актеров. И все чувствовали, что где-то тут, под боком, за каждой сценой следит зоркий упорный глаз, контроль, не допускающий никакого успокоения или лени. Понятно, что распределение ролей в пьесе, в которой она участвовала, не могло обойтись без ее участия.
Был такой случай, может быть, настолько смешной, что неудобно рассказывать его в предисловии к серьезной книге, но уж очень типичный. Захожу я в Малый театр вечером за кулисы, в режиссерскую, к главному тогда режиссеру Сергею Антиповичу Черневскому. Сидим, беседуем о том, о сем. Он мне рассказывает:
{283} – Я всегда перед спектаклем отдыхаю. Сегодня перед спектаклем спал и вдруг с криком проснулся. Жена (артистка Щепкина) прибегает: что случилось? Рассказываю ей кошмарный сон. А сон был такой. Будто бы идет спектакль «Мария Стюарт». Первое действие, в котором Марию играет Ермолова, прошло вполне благополучно. Подходит второе действие с Елизаветой – Федотовой. В антракте я с двойным вниманием осмотрел сцену – все в порядке. Вот Федотова уже на троне. Придворные окружают. Можно начинать. Открыли занавес, и вдруг слышу – какая-то, странная пауза, и затем Федотова громко говорит: «Это что же за лохмотья на придворных? Я играть не стану!» И сходит со ступеней трона при открытом занавесе. Я с криком и просыпаюсь.
Вот сон режиссера, который не испытывает особых волнений, когда в пьесе играет одна Ермолова, мягкая, не вмешивающаяся, если волнующаяся, то где-то в стороне, в своей уборной. А вот если играет Федотова, при ней все кругом должно ходить на цыпочках.
Или часто бывало так. Что-то делается, по ее мнению, нехорошо, но сказать решительно это в лицо тому, от которого это «что-то» зависит, почему-нибудь неудобно. И вот Гликерия Николаевна начинает говорить о чем-то, как будто даже неподходящем, с какой-то особенно въедчивой энергией… одно… другое… третье… Слушающий перестает ее понимать, у него начинает путаться в голове, он никак не может догадаться, чего она хочет, «куда она гнет». А она продолжает, как выражались: «она-то крутит, она-то крутит!», пока он, совершенно растерянный, не спрашивает:
– Да вы скажите, чего вы хотите?
Она и еще будет говорить, что ничего не хочет, что ей это вовсе не нужно, а что это нужно для него самого. И в конце концов каким-то особенным приемом, убедительностью доведет до того, что он сделает все так, как она находит нужным.
Не надо забывать, как готовились спектакли до театральной реформы 1882 года[147], пока была монополия императорских театров. В году ставилось не менее двадцати пяти – тридцати пьес; всегда в бенефисы. Никаких генеральных репетиций не было и в помине. Даже такая пьеса, как «Медея», готовилась, вероятно, не более недели. Роль у Гликерии Николаевны была, наверное, значительно {284} раньше, но репетиций на сцене было вряд ли более пяти – семи. И костюмы-то надевались первый раз прямо на спектакле, после примерки у портних.
Федотова играла во многих моих пьесах. Я не помню ни одной из них, чтобы, кроме обычных репетиций на сцене Малого театра, она не устраивала еще частных у себя в доме, находя, что необходимо между несколькими актерами интимно, внимательно, а может быть, иногда гневно разобраться в том, что не ладится.
Роли ей никогда не назначались. Ни директор, ни режиссер не могли бы отвечать за то, что она будет играть в пьесе. Требовалось всегда, чтобы автор получил разрешение от самой Федотовой. И бралась она за новые роли с большим разбором.
А ведь это было и в то время, когда главным заработком артиста было не жалованье, а «разовые». Стало быть, чем больше игранных спектаклей, тем крупнее вознаграждение. Например, знаменитый актер Шумский играл почти во всех спектаклях. Он пользовался большим влиянием, авторы дорожили его участием и рады были, если он играл хотя бы маленькую роль. Федотову подобные соображения не могли заставить играть в пьесе, если роль ей не нравилась.
Не знаю, каким эпитетом определить ее преданность высокому искусству. Эта преданность, эта любовь пронизывает и наполняет всю ее жизнь.
Между прочим, такая черта: в дни, когда она играла большую роль, она никого не принимала. Она с утра была в атмосфере той пьесы или роли, которую она должна была вечером играть. Так ее приближенная и говорила в подъезде пришедшему или приехавшему гостю, негромко, конфиденциально:
«Сегодня она играет, принять никак не может».
Эта любовь к искусству, к лучшим его образцам, воспитанная классическими произведениями русской литературы и лучшими исполнителями знаменитого Малого театра, была ее атмосферой, была неотделима от всего быта ее домашней жизни. Строго отвечающим этой атмосфере было и воспитание сына, Александра Александровича. Пушкин был кумиром дома. Толстого, Тургенева, Грибоедова Александр Александрович должен был знать и знал досконально. И отношение к людям, к друзьям, знакомым, к общественности всегда базировалось на благороднейших идеях русской поэзии.
{285} Федотова не переставала учиться, в самом буквальном смысле слова, до старости лет. Не раз она говорила мне, что простоте учится у Ольги Осиповны Садовской.
И вот, замечательный случай: никогда в жизни ни в одной роли она не была так изумительно, глубоко проста, как в своем последнем выходе, на пятидесятилетии ее сценической жизни[148], в роли царицы Марфы. Не было в зале человека, который не был бы потрясен именно необычайной простотой, никогда в такой степени раньше ей не свойственной.
Об отношении ее к Художественному театру, ко всей его истории, начиная с зарождения в кружке Станиславского и в Филармоническом училище, можно сказать кратко: во всем Малом театре не было ни одного лица, ни одного артиста, кто бы, как она, принимал так близко к сердцу все наши – мои, Станиславского и наших артистов – радости, волнения, тревоги, разочарования, надежды и творческие стремления. Она глубоко интересовалась всем нашим делом со всеми его малейшими подробностями и не раз оказывала огромную моральную поддержку.
Люнье-По[149]
Беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко
Сегодня в Художественном театре состоится лекция известного французского режиссера, создателя театра «L’Oeuvre»[150] – Люнье-По.
В Москве г. Люнье-По появляется впервые, и его имя большой публике или мало известно, или вовсе не известно. Но уже то обстоятельство, что Художественный театр отдал в распоряжение г. Люнье-По свой зал и взял на себя организацию лекции, должно заставить публику отнестись к выступлению г. По с интересом.
Вчера наш сотрудник беседовал о г. Люнье-По с Вл. И. Немировичем-Данченко.
– С Люнье-По, – рассказывает Вл. И. Немирович-Данченко, – нас познакомила Элеонора Дузе. Это было десять лет назад, когда Художественный театр уезжал на гастроли за границу. Элеонора Дузе настаивала, чтобы мы посетили Париж, и рекомендовала нам г. Люнье-По, указав, что он был первым человеком, показавшим ее Парижу. Отсюда началось наше знакомство с г. Люнье-По.
{286} Что такое представляет собою г. Люнье-По?
Мятежник в искусстве – так хочется определить его деятельность.
Г‑н Люнье-По начал свою театральную карьеру в любительском кружке, вдохновляемом протестом. Театральное искусство в Париже остановилось на мертвой точке. Сценические формы заштамповались, пьесы стали походить одна на другую.








