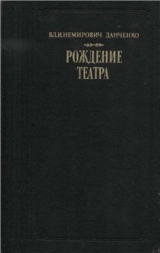
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Мы так условились: месяца полтора в Пушкине будет работать он с Саниным, а я закончу свои литературные обязательства; потом я приеду, приму репетиции в том виде, в каком застану, а Константин Сергеевич уедет на отдых перед труднейшей в жизни зимой.
Главное – до моего приезда должны были они приготовить побольше сцен «Царя Федора». «Чайки» совсем не трогали.
3
Самым лучшим временем года в Москве и ее окрестностях я всегда считал август месяц. Передать это «ощущение августа» очень трудно. Было в нем что-то и легкое, {134} и мягко-радостное. То ли от ласкового солнца, то ли от ясного прозрачного воздуха. Может быть, от того, что летний отдых как будто еще не совсем ушел, а зимние тревоги еще не совсем пришли; что надежды, накопившиеся за время летней беспечности, полны свежей бодрости. Погода в это время стоит великолепная. И кажется, что самый глубокий лиризм, какой охватывал поэтов при созерцании русской природы, ярче всего именно в августе.
Пушкино – верстах в пяти от Любимовки. В моем распоряжении в доме Алексеевых был балкон, выходивший в сад над речкой Клязьмой. В доме и кругом стояла всегда полная тишина, так что, когда я в розовые утренние часы сидел на балконе у себя один, то мог прислушиваться только к этой – не знаю ее имени – птичке, которая как раз в эту пору всегда точно кличет кого-то своим очень скромным зовом в две нотки усеченной кварты сверху вниз. Зовет и подчеркивает тишину. Я испытывал настоящее богатство сбывающихся мечтаний. А в Пушкине, где, стало быть, приходилось проводить нам большую часть дня, все было наполнено взвинченностью, самым лучшим, что было в душах нашей молодежи. Труппа жила коммуной; сами должны были убирать и сцену и зал, сами ставить самовар и по очереди хозяйничать. Ничто не снижало высокого подъема. Даже быстро завязывались свадьбы, что-то около дюжины в первое же полугодие.
Актер Дарский – провинциальный трагик, бросивший свои гастроли и поступивший к нам, воспользовавшись однажды отсутствием Станиславского, начал кричать на меня, что я как директор обязан был запретить Станиславскому по двадцать раз повторять сцены земных поклонов, что это издевательство над актером. Я кротко доказывал ему, что это необходимо для него же самого.
Серьезное, шуточное, вспыльчивое – все было молодо, бодро и с верой. Настроение не упало, даже когда вдруг повеяло катастрофой: готовили «Царя Федора», а актера на роль самого Федора нет.
Это случилось в вечер, когда мне показывали приготовленные акты из трагедии Ал. Толстого.
Москвин, потом так прославившийся в этой роли, Москвин, про которого в Вене будут писать: «Забудьте {135} все известные вам имена артистов, но запомните имя Москвина», – какие только сюрпризы ни выкидывает театральное искусство! – этот Москвин на первых репетициях, еще без меня, настолько не удовлетворил Станиславского, что он у него роль взял, передал другому, потом третьему, писал мне в деревню отчаянные строки, но вдруг письмо – ура, Федор найден!
И – о ужас! – я этого счастливца никак не принял. Помню, как я и К. С. ехали после репетиции по железной дороге, поздно ночью, как он даже не спорил со мной, не защищал плохого Федора, а только все повторял: «Как же нам теперь быть? Как же нам теперь быть?..»
Тогда я взялся за своего любимца Москвина. Очевидно, не зная его индивидуальности, к нему неверно подошли. Репетиции в театрике не останавливались, а я, за неимением помещения, занимался с Москвиным в сторожке дворника, причем сам дворник сидел на скамеечке за открытым окном, прислушивался к нам и улыбался.
«Царем Федором» мы открывали театр. Это было надежнее. Тут играл роль и большой интерес к трагедии, которая тридцать лет находилась под цензурным запретом; и любовь публики к национальным, историческим пьесам; и легче было, – как любил выражаться Станиславский, – йpater les bourgeois, то есть ошеломить публику почти музейными костюмами, замечательными вышивками, сделанными под руководством жены Алексеева, артистки Лилиной, яркой народной толпой и смелыми мизансценами. Словом, во всех смыслах ставить эту пьесу было наименее рискованно и с наибольшей вероятностью успеха. А так как уже намечались и отличные исполнители главных ролей, то тем более «Царь Федор» должен был занять самое почетное место в нашем репертуаре.
Анонс о нашем репертуаре был очень эффектный: объявляли Софокла («Антигона»), Шекспира («Венецианский купец»), Алексея Толстого («Царь Федор Иоаннович»), Ибсена («Гедда Габлер»), Писемского («Самоуправцы») Гауптмана («Потонувший колокол» и «Ганнеле») и Чехова («Чайка»). В смысле исторической репутации каждой пьесы это было очень импозантно, целый флот из броненосцев и дредноутов, тяжелая артиллерия – гаубицы и мортиры. Среди них Чехов с его «Чайкой» {136} казался небольшим судном, в пять тысяч тонн, каким-то шестидюймовым орудием. А между тем…
Из московских театральных критиков лучшие отношения у меня были с Николаем Эфросом. Позднее он займет едва ли не первое место среди театральных журналистов. Он обладал двумя великолепными качествами критика: большой чуткостью к внутренним линиям спектакля, к лирике; другое качество – умел хвалить, умел восхищаться, что гораздо труднее, чем критиковать. Когда я выпустил первый анонс о репертуаре, я спросил Эфроса: «А что по-вашему здесь самое ценное?» Без малейшей заминки он ответил: «Конечно, “Чайка”».
Я был не одинок и отлично чувствовал, что я не одинок.
И это мне предстояло внушить Станиславскому.
По уговору за ним было сценическое veto, ему предстояло готовить мизансцену «Чайки», а между тем, прочитав «Чайку», он совсем не понял, чем тут можно увлечься: люди ему казались какими-то половинчатыми, страсти – неэффектными, слова, – может быть, слишком простыми, образы – не дающими актерам хорошего материала.
Передо мною был режиссер, умеющий из декораций, костюмов, всяческой бутафории и людей добиваться ярких, захватывающих сценических эффектов. Имеющий хороший вкус в выборе красок, – вкус, уже воспитанный в музеях и в общении с художниками. Но направляющий весь свой запал только на то, что может ошеломить, что бьет новизной, оригинальностью, что уже, разумеется, прежде всего – необычно. И была задача: возбудить его интерес именно к глубинам и лирике будней.
Предстояло отвлечь его фантазию от фантастики или истории, откуда всегда черпаются эффектные сюжеты, и погрузить в самые обыкновенные окружающие нас будни, наполненные самыми обыкновенными будничными нашими чувствами.
Когда насчет Федора успокоились, – приготовленный в сторожке дворника Москвин произвел на сцене настоящий фурор и до слез всех обрадовал, – дальнейшие репетиции можно было оставить на попечение правой руки Станиславского – режиссера Санина, самому Станиславскому уехать на отдых и на подготовку режиссерского экземпляра «Чайки», а мне начать работу с актерами.
{137} Станиславский и всегда впоследствии, приступая к новой постановке, говорил: «Вы меня напичкайте тем, что я должен иметь особенно в виду при сочинении режиссерского экземпляра».
И был один такой красивый у нас день: не было ни у меня, ни у него репетиций, ничто постороннее нас не отвлекало, и с утра до позднего вечера мы говорили о Чехове. Вернее, я говорил, а он слушал и что-то записывал. Я ходил, присаживался, опять ходил, подыскивая самые убедительные слова, – если видел по напряженности его взгляда, что слова скользят мимо его внимания, подкреплял жестом, интонацией, повторениями. А он слушал с раскрытой душой, доверчивый.
Алексеев жил всегда в Москве, был московским фабрикантом, имел огромный запас впечатлений из быта купечества, потом стал общаться с миром артистическим, опять-таки московским, знал классический репертуар, знал лучших актеров русских и европейских; когда ездил за границу, то изучал там театральное искусство, посещал музеи, старался как режиссер «грабить» их для своих режиссерских замыслов. Но всей той громады русской провинциальной интеллигенции и полуинтеллигенции, всего того многомиллионного пласта русской жизни, который был материалом для чеховских произведений, он не знал. Ему были чужды и их волнения, и их слезы, недовольства, ссоры, все то, что составляет жизнь в провинции.
А главное – не ощущал того огромного обаяния авторской лирики, какое окутывает эти чеховские будни.
Там, где-то в самых широких кругах интеллигенции, среди людей, мечтающих о лучшей жизни, среди тех, кого засосала обывательщина, кто живет по инерции, но не может примириться с грубостью жизни, страдает от тяжелой несправедливости и в самых укромных и чистых уголках своей души лелеет мечту, – там Чехов был любим, был своим, необыкновенно близким. И близок он был не как отвлеченный поэт, а как такой же ходящий среди нас обыватель, как мы сами, как будто даже ни на вершок не выше – любил то же, что и мы любим, с нами улыбался и смеялся, даже не всегда был глубже нас, только что был зорче и обладал великолепным даром вскрывать наши грехи и наши мечты.
{138} Глава девятая
1
Должен признаться, что эта глава стоила мне много времени. Несколько раз я даже хотел от нее отказаться. Но если мой читатель – этакий заядлый театрал или, еще того больше, актер, – он, пожалуй, задаст мне вопрос: в чем же, в сущности, заключались ваши приемы? Ваше искусство? Вот вы подошли к репетициям «Чайки»; очевидно, вы работали совсем не так, как это было в театре, где эта пьеса провалилась, – в чем же разница? Из предыдущих глав я, читатель, усматриваю разницу организационную: в старом театре сразу идут на сцену и сразу репетируют всю пьесу, а вы сначала долго обсуждаете ее, сидя за столом, и когда начинаете репетировать, то делаете это по кускам. Но, очевидно, дело не только в этом. Очевидно, дело еще в самой сущности вашей режиссерской работы с актером. В чем же дело?
Ответ на этот вопрос очень сложен. Нужна не глава, а целая книга. Рассказать приходится в очень сжатой форме. Все равно что написать короткий синопсис о режиссерском искусстве. Возможно ли это? Кроме того, за тридцать с лишком лет наши приемы подвергались переработке и шлифовке; легко приписать прошедшему черты настоящего. Если бы можно было восстановить фотографически, что у нас делалось тогда, и сравнить с нашими приемами теперь, то разница получилась бы колоссальная. Наконец, придется говорить о самом себе, а это всегда как-то неловко.
Право, очень трудно.
2
Вместе с репетициями «Чайки» атмосфера в нашем театральном «сарайчике» круто изменилась. До сих пор, утро – вечер, утро – вечер, все силы напрягались на то, чтобы отразить Русь XVI века («Царь Федор»), помещичьи усадьбы XVIII века («Самоуправцы»), Венецию сотни лет тому назад («Шейлок»), наконец, Грецию две тысячи лет назад («Антигона»); костюмы самые разнообразные; отдаленный от нас яркий, красочный быт; образы и чувства, имеющие так мало общего с нашей современностью. Станиславский со своими сотрудниками-режиссерами изощрялся в блестящих неожиданных мизансценах, {139} в отыскании движений, костюмов, вещей не похожих на то, к чему привык театральный зритель. Как всякий борец, впадал, естественно, в крайности. Если шапки носили высокие, то нужно делать чрезвычайно высокие; если рукава носили длинные, то надо такие, чтобы их нужно было все время засучивать; если дверь в хоромах была маленькая, то делали ее такой, чтоб в нее нельзя было пройти иначе, как согнувшись наполовину. Где-то вычитали, что, являясь перед царем, делали не три земных поклона, а какое-то большее количество, что-то около сотни, – вот и у нас на репетициях опускались на колени, прикладывались лбом к полу, поднимались и снова опускались – не менее двадцати раз, за что на меня, если помните, и накричал однажды актер Дарский. Словом, чтобы было, как любил выражаться Алексеев, «курьезно».
И вот от такой яркой нагроможденности красок, образов, выкриков – поворот к печальным будням Чехова. Ничего экстравагантного в костюмах; никаких резких гримов; полное отсутствие народных сцен; никакого каскада внешних красок, – словом, ничего, чем бы актер мог защититься от необходимости вскрывать донага свою индивидуальность. Тишина, сосредоточенность, малолюдность.
Прежде всего, мне нужно было считаться с пестрым составом исполнителей. Всех персонажей в «Чайке» – десять: из них четверо – мои ученики, трое – любители из кружка Алексеева и три актера со стороны. Чудесно подходила к тону чеховской пьесы жена Константина Сергеевича, артистка Лилина. Быстро овладел ролью и крепко, доверчиво пошел за мной другой крупный член его кружка, Лужский. Главной же опорой моей были мои ученики – Книппер, Роксанова, Мейерхольд. Среди всех, по началу, какой-то белой вороной казался Вишневский. Провинциальный актер со всеми штампами старого театра. Но он так горячо рвался в наш театр, так слепо верил мне и Станиславскому, что отказался от большого контракта и работал с послушностью и рвением, на какие вряд ли был способен какой-нибудь другой «чужой» актер. И, как увидите дальше, раньше всех поверил в Чехова. Мешало репетициям то, что сам Станиславский отсутствовал, а он играл роль писателя. Приходилось провести десяток-другой репетиций без него.
{140} Когда я припоминаю, как я занимался с учениками и актерами более тридцати лет назад, я нахожу, что основная сущность моих приемов была та же, что и теперь. Конечно, я стал неизмеримо опытнее, приемы мои стали увереннее, острее, развилось известное «мастерство», но база осталась та же: это – интуиция и заражение ею актера. Что это такое? Как это объяснить вкратце?
Однажды у меня был короткий, но своеобразный диалог с Леонидом Андреевым. Когда я работал над его пьесами, он с нескрываемой искренностью радовался, как мне удавалось вскрывать перед актерами его тончайшие замыслы. «Неожиданно верные даже для меня самого!» – восклицал он. И вот однажды он долго не спускал с меня глаз и вдруг с глубокой серьезностью спросил:
«Как вы могли бросить сами писать пьесы, обладая таким даром угадывать человека и анализировать его поступки?»
Я ответил приблизительно так:
«А может быть, мой дар угадывать ограничивается литературой, а не распространяется на жизнь, как она есть? Может быть, я – извините за громкое слово – проникновенно вижу ваше миропонимание, ваши жизненные наблюдения, чеховские, Достоевского, Толстого. Это вы, автор, из-за строк вашей пьесы подсказываете мне знание жизни, а я только каким-то шестым чувством чую, где правда, а где ложь. И уже потом добавляю краски из моего жизненного опыта. Может быть, даже вступаю с вами в спор и даже оказываюсь прав. Но без вашего авторского суфлирования я, наверное, и не остановился бы перед этими жизненными явлениями, в которых теперь так славно разбираюсь».
Когда, много спустя, мы работали над Достоевским и приглашали на репетиции некоторых ученых из Психологического общества, то они неизменно говорили, что не нам у них, а им у нас надо учиться.
Извините, читатель, за хвастовство, но в вопросах театрального искусства это понятие имеет такое громадное значение: верная интуиция. Верное схватывание и глубочайших и тончайших авторских замыслов и стиля произведения. А так как «образы», подсказываемые интуицией, не допускают разнузданности, а требуют строгого контроля в выборе театральных средств, то и по сегодня многие властители театральных направлений боятся ее, избегают, а то и просто гонят из театра, как чуму. Без {141} нее легче, в особенности режиссерам с «гениальными идеями», какими, по выражению Гейне, называется всякий вздор, который лезет человеку в голову.
Под это понятие – верная интуиция – до сих пор в театральном искусстве не подведена научная база, поэтому на репетициях в этом смысле остается единственное средство – заражение актера замыслами, образами, психологическими оттенками – то путем толкования, то приемами простого актерского показа.
Единственная основа, которую много-много позднее я формулировал так:
Закон внутреннего оправдания.
3
Режиссер-директор, единая воля режиссера, – вот в чем была важнейшая разница между старым театром и нами. Это и станет на много лет предметом самых горячих нападок на молодой Художественный театр. Станиславский ли в своих репетициях, я ли, – мы захватывали власть режиссера во всех ее возможностях. Режиссер – существо трехликое:
1) режиссер-толкователь; он же – показывающий, как играть; так что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом;
2) режиссер-зеркало, отражающее индивидуальные качества актера, и
3) режиссер-организатор всего спектакля.
Публика знает только третьего, потому что его видно. Видно во всем: в мизансценах, в замысле декоратора, в звуках, в освещении, в стройности народных сцен. Режиссер же толкователь или режиссер-зеркало – не виден. Он потонул в актере. Одно из моих любимых положений, которое я много раз повторял, – что режиссер должен умереть в актерском творчестве. Как бы много и богато ни показал режиссер актеру, – часто-часто бывает, что режиссер играет всю роль до мелочей, актеру остается только скопировать и претворить в себе, – словом, как бы глубока и содержательна ни была роль режиссера в создании актерского творчества, – надо, чтобы и следа его не было видно. Самая большая награда для такого режиссера, – это когда даже сам актер забудет о том, что он получил от режиссера, – до такой степени он вживется во все режиссерские показы.
{142} «Если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то даст много плода»[90].
Это библейское выражение всецело и глубочайшим образом относится к совместному творчеству режиссера с актером. Если актер только хорошо запомнит показанное ему режиссером, будет только стараться исполнять, не проникнувшись глубоко в показанное и не претворив его в своих актерских эмоциях, то это показанное режиссером так и останется отдельной блесткой, не слившейся органически со всем образом. Зерно останется одно. Оно не сгнило. Это часто и наводит на мысль, что показывание режиссером – дело вредное. И наоборот: если режиссерский показ попал, так сказать, в душу актера, зерно упало на хорошую почву, то оно возбудит там неожиданную, – а потому и самую драгоценную, – реакцию, вызовет в эмоциях и в фантазии актера новые образы, ему лично присущие, которые и войдут в его исполнение, а самое зерно, самый этот режиссерский показ умрет и забудется…
Нужно ли говорить, что для этого режиссер должен обладать актерской потенцией? В сущности говоря, он сам должен быть глубоким, разнообразным актером. И если режиссеры, бывшие до нас, – Яблочкин, Аграмов, – как и я, не остались актерами, то этому, очевидно, помешали наши внешние маловыразительные средства и громадная наша требовательность к себе, а не наша актерская сущность.
Режиссер-зеркало. Важнейшая его способность – почувствовать индивидуальность актера, непрерывно в процессе работы следить, как в нем отражаются замыслы автора и режиссера, что ему идет и что не идет, куда его клонит фантазия и желания и до каких пределов можно настаивать на той или другой задаче. Одновременно и следовать за волей актера, и направлять ее, направлять, не давая чувствовать насилия. Уметь не оскорбительно, любовно, дружески передразнить: вот что у вас выходит, вы этого хотели? Чтоб актер воочию увидел себя, как в зеркале…
Режиссер-организатор вводит в свой горизонт все элементы спектакля, ставя на первое место творчество актеров, и сливает его со всей окружающей обстановкой в одно гармоническое целое. В этой организационной работе он уже полный властелин. Слуга актера там, где необходимо подчиниться его индивидуальности, приспосабливающийся {143} и к индивидуальным качествам художника-декоратора, непрерывно принимающий в расчет требования дирекции, он, в конечном счете, является настоящим властелином спектакля. При этом особенно важным его качеством является умение «лепить» куски, целые сцены, акты…
4
Впоследствии, когда Станиславский переключил свое режиссерское внимание от внешнего к внутреннему, он вместе со своей правой рукой – режиссером Сулержицким – занялся точным определением элементов актерского творчества. Приблизительно отсюда получилась так называемая «система» Станиславского. Появилось его популярное теперь выражение «сквозное действие». Это то, что мы раньше называли: «куда должен быть направлен темперамент актера». То, что мы называли самой глубокой сущностью пьесы или роли, теперь определяем словом «зерно»; в частности – зерно сцены, зерно куска.
Роль складывалась во время репетиции из множества бесед полудилетантского характера; теперь во время работы со своими актерами я употребляю точные определения: «атмосфера», в которой происходит та или иная сцена, «физическое самочувствие» данного лица (веселое, грустное, больное, сонное, ленивое, холодно, жарко и т. п.), «характерность» (чиновник, актриса, светская женщина, телеграфистка, музыкант и т. д., и т. д.), «стиль» всей постановки: героический, гомерический, стиль эпохи, комический, фарсовый, лирический и т. д.
Но самая важная область репетиционных работ – было то, чего как раз и добивался Чехов. Помните, я рассказывал о репетициях в Петербурге? Там Чехов говорил: «Слишком много играют, надо все, как в жизни». Вот тут заложена самая глубокая разница между актером нашего театра и актером старого театра. Актер старого театра играет или чувство: любовь, ревность, ненависть, радость и т. д.; или слова: подчеркивая их, раскрашивая каждое значительное слово; или положение – смешное, драматическое; или настроение; или физическое самочувствие. Словом, он непременно каждую минуту своего присутствия на сцене что-нибудь играет, {144} представляет. Наши требования к актеру: не играть ничего. Решительно ничего. Ни чувства, ни настроения, ни положения, ни слова, ни стиля, ни образа. Это все должно прийти само от индивидуальности актера, индивидуальности, освобожденной от штампов, должно быть подсказано всей «нервной организацией» актера, – тем, что профессор Сперанский недавно замечательно определил словом «трофика».
Теперь мы знаем, а тогда только чувствовали, что есть еще очень важный момент: так вчитаться и вжиться в роль, чтобы слова автора стали для актера его собственными словами, то есть приходится говорить то, что я говорил о режиссере: чтобы автор тоже умер в индивидуальности актера.
Из всех элементов актерского творчества Станиславский во все первые годы большое значение придавал так называемой «характерности», особливо внешней характерности. Это резче всего отличало нашего исполнителя от актера старого театра и приближало к простоте и жизненности. Искание характерности отнимало много времени и делало репетиции настолько своеобразными, что, помню, – на репетиции третьего действия «Горе от ума» Боборыкин шепнул мне:
«А ведь со стороны это можно принять за дом сумасшедших».
В чеховских пьесах это и помогало, но и требовало огромной осторожности, чтоб, с одной стороны, не впасть в сценическую банальность, с другой – не приглушить чеховскую лирику.
5
В наших репетициях была еще одна сила, огромная, объединяющая всех – энтузиазм. Влюбленность во все дело, в самую работу. Без мелкого самолюбия, без малейшего каботинства, с громадной верой. Один из актеров (со стороны) никак не поддавался общему увлечению, хотя и очень подходил по своим данным к роли. Даже не скрывал своего иронического отношения к новым приемам Чехова-драматурга. Я, не долго раздумывая, устранил его и заменил другим. Среди писем моих к Чехову, взятых из музея, о которых я упоминал выше, есть такое:
{145} Дорогой Антон Павлович!
Сегодня были две считки «Чайки». Если бы ты незримо присутствовал, ты знаешь что?.. Ты немедленно начал бы писать новую пьесу.
Ты был бы свидетелем такого растущего, захватывающего интереса, такой глубокой вдумчивости, таких толкований и такого общего нервного напряжения, что за один этот день ты горячо полюбил бы самого себя.
Сегодня мы тебя все бесконечно любили за твой талант, за деликатность и чуткость твоей души.
Планируем, пробуем тоны – или, вернее, полутоны, в каких должна идти «Чайка», рассуждаем, какими сценическими путями достичь того, чтобы публика была охвачена так же, как охвачены мы…
Не шутя говорю, что если наш театр станет на ноги, то ты, подарив нас «Чайкой», «Дядей Ваней» и «Ивановым», напишешь для нас еще пьесу.
Никогда я не был так влюблен в твой талант, как теперь, когда пришлось забираться в самую глубь твоей пьесы.
6
Прошло недели две‑три, Алексеев начал присылать из деревни мизансцену по актам. Мизансцена была смелой, непривычной для обыкновенной публики и очень жизненной. В сущности говоря, Станиславский так и не почувствовал настоящего чеховского лиризма, и, однако, сценическая фантазия подсказывала ему самые подходящие куски из реальной жизни. Он отлично схватывал скуку усадебного дня, полуистеричную раздражительность действующих лиц, картины отъезда, приезда, осеннего вечера, умел наполнять течение акта подходящими вещами и характерными подробностями для действующих лиц.
Одним из крупных элементов сценической новизны режиссера Станиславского было именно это пользование вещами: они не только занимали внимание зрителя, помогая сцене дать настоящее настроение, они еще в большей степени были полезны актеру, едва ли не главнейшим несчастьем которого в старом театре является то, что он всем своим существом предоставлен самому себе, {146} точно находится вне времени и пространства. Эта режиссерская черта Алексеева стихийно отвечала письму Чехова. Тут еще не было аромата авторского обаяния, от этих вещей еще очень веяло натурализмом чистой воды, золаизмом[91] и даже театром Антуана в Париже или Рейнхардта в Берлине, уже зараженными натурализмом, но у нас это проводилось на сцене впервые: спичка и зажженная папироса в темноте, пудра в кармане у Аркадиной, плед у Сорина, гребенка, запонки, умывание рук, питье воды глотками и пр., и пр. без конца. Внимание актера должно было приучаться к тому, чтобы заниматься этими вещами, тогда и речь его будет проще. Впоследствии, может быть не более как лет через семь-восемь, качнется реакция, борьба именно с этими вещами. Теперь же Станиславский предлагал пользоваться этим в широкой степени, был даже расточителен в бытовых красках. И тут впадал в крайность, но так как экземпляр пьесы проходил через мое режиссерство, то я мог отбрасывать то, что мне казалось или излишним, или просто слишком рискованным.
Через год в «Дяде Ване» он еще будет закрывать голову от комаров, будет подчеркивать трещание сверчка за печкой. За этих комаров и за этого сверчка театральная литература будет много бранить Художественный театр. Даже сам Чехов как-то полушутя, полусерьезно скажет: «В следующей пьесе я сделаю ремарку: действие происходит в стране, где нет ни комаров, ни сверчков, ни других насекомых, мешающих людям разговаривать». Но пока эти вещи оказывали очень большую услугу.
Другим важным моментом сценической новизны были паузы. В этом тоже была стихийная близость к Чехову, у которого на каждой странице найдется две‑три паузы.
Теперь они так понятны, а тогда были сравнительно новостью; в старом театре встречались только как эффектные исключения. Эти паузы удаляли актеров от плавного, непрерывного «литературного» течения, которое было характерно для старого театра. В мизансцене для «Чайки» нащупывался путь к самым глубоким жизненным паузам; в них или проявлялось доживание предыдущего волнения, или подготовлялась вспышка предстоящей эмоции, или содержалось большое молчание, полное настроения.
{147} Пауза не мертвая, а действенная, углубляющая переживания или отмеченная звуками, подчеркивающими настроение: фабричный или паровозный гудок, птица, тоскливый крик совы, проезд экипажа, доносящаяся издали музыка и т. д. С годами паузы так въелись в искусство Художественного театра, что стали его «штампом», часто утомительным и даже раздражающим. Но тогда это было увлекательно ново. Достигались паузы очень нелегко, путем настойчивых и сложных исканий, не только внешних, но и психологических, исканий гармонии между переживаниями действующих лиц и всей окружающей обстановкой.
А я уже не раз подчеркивал, что Чехов видит своих персонажей неразрывно от природы, от погоды, от окружающего внешнего мира.
7
Наконец, третьим элементом режиссерской новизны был художник, – не декоратор, а подлинный художник. В том сценическом «чуде», которому предстояло совершиться, большую роль сыграл Симов. Плоть от плоти, кровь от крови реального течения в русской живописи, школы так называемых «Передвижников» – Репин, Левитан, Васнецов, Суриков, Поленов и т. д. Живой, горячий, всегда улыбающийся, отрицавший слово «нельзя», – все можно, великолепный «русский», чувствовавший и историческую Русь и русскую природу, умевший в декорации дать радостное ощущение живой натуры.
Во время одного из представлений «Чайки» был такой эпизод. В публике сидел с мамашей ребенок лет пяти; он то и дело громко вставлял свои замечания и хоть мешал публике, но был так забавен, что ему прощали. Разглядывая сад на сцене, он начал приставать к матери: «Мама, ну пойдем туда, в сад, погулять».
И что еще не менее важно – устанавливалось новое освещение сцены, не казенное одноцветное, а соответственное времени и близкое к правде. И в этом отношении по началу мы впадали в крайности. Бывало часто так темно на сцене, что не только актерских лиц, но и фигур не различить…
Все это теперь уже vieux jeu[92], а тогда пленяло новизной.
{148} Глава десятая
1
Наступила осень, жить в Пушкине на даче было холодно; театральный сарайчик, в котором мы репетировали, не отапливался; репетиции были перенесены в Москву, в Охотничий клуб, где несколько лет перед этим играл кружок Алексеева. В это время уже начались репетиции на сцене «Царя Федора», вел их Санин в условиях самых тяжелых: перекрашивали зал, переделывали рампу, убирали стулья, налаживали хоть какую-нибудь чистоту и порядок за кулисами.
В этот сентябрьский период приехал в Москву Чехов. Был спокоен, ровен, находился в том чувстве приятного улыбчивого равновесия, когда человек знает, что одним он здесь нравится, другие его уже любят, а третьи даже обожают: «Вижу тебя насквозь, но ты мне не неприятен, мне с тобой удобно». Он осторожно покашливал.
Я ему показал куски из «Чайки», без декораций, без костюмов, на простой репетиции. Я не помню, как его встретили актеры. Вот как вспоминает Книппер:
До сих пор помню все до мелочей из того дня, и трудно рассказывать о том большом волнении, которое охватило меня и всех нас, актеров нового театра, при встрече с любимым писателем, имя которого мы, воспитанные Вл. Ив. Немировичем-Данченко, привыкли произносить с благоговением.








