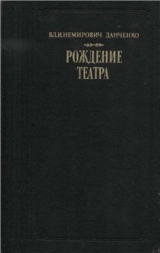
Текст книги "Рождение театра"
Автор книги: Владимир Немирович-Данченко
Жанры:
Театр
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
«Как это все… портит русских актеров».
Этот убийственный приговор разнесся по всему театру. Но ему не поверили. Не поверили даже более молодые, потому что и они уже из школы приходили сюда рабами трафаретов. Знаменитое русское искусство, провозглашенное Гоголем и Щепкиным, все более обрастало штампами, условностями, сентиментализмом и становилось неподвижным, как броненосец, облепленный ракушками от долгого стояния в бухте.
Написал я это и задумался. Сколько лет прошло с тех пор, сколько стран я изъездил и сколько театров пересмотрел, – и до чего живуче это старое, насквозь фальшивое театральное искусство.
Уж на что самый искренний, самый простой актер американский. Он наиболее родственен лучшему типу русского актера. Но до чего и он до сих пор находится во власти штампов, во власти искусства, каким оно было сто пятьдесят лет назад!
3
Исключительное счастье человека – быть при своем постоянном любимом деле. Московская жизнь – о провинции и говорить нечего – была наполнена людьми, которые своего дела не любили, смотрели на него только как на заработок. Врач лечил, принимал, делал визиты прежде всего из-за денег; член суда, адвокат по гражданским делам, чиновник любого казенного учреждения, банковский, железнодорожный, конторский – отслуживали {59} свои часы без увлечения, без радости; учитель гимназии, преподавая из года в год одно и то же, остывал к своей науке, а работать для нее еще дома не у многих хватало энергии и инициативы.
Исключение составляли университет с его профессорами и студентами, театр, музыкальные и художественные учреждения, редакции, – очень тонкая наслойка на огромной инертной обывательщине.
В этом смысле актеры – самый счастливый народ: с делом, которому они отдают всю свою любовь, они связаны и всеми своими интересами. Дело заставляет их работать, компания подогревает их энергию, и актер волей-неволей творит как только может лучше.
Писатель, художник, композитор, наоборот, очень одинок; весь заряд энергии находится только в нем самом. И самая любовь его к своему делу подвергается испытанию.
Очень умно говорил Чехов о писателе нашей же генерации Гнедиче:
«Это же настоящий писатель. Он не может не писать. В какие условия его ни поставь, он будет писать, – повесть, рассказ, комедию, собрание анекдотов. Он женился на богатой, у него нет нужды в Заработке, а он пишет еще больше. Когда нет темы сочинять, он переводит».
У Антона Павловича не было постоянного писательского дела, он не принадлежал ни к одной редакции, ни к театру. Он был врач и дорожил этим. Решительно не могу вспомнить, сколько времени и внимания он отдавал своей врачебной профессии, пока жил в Москве, но помню, как это обстояло в имении Мелихово, куда он переехал со всей своей семьей: он очень охотно лечил там крестьян. По регистрации его приемов в виде отдельных листиков, накалываемых на гвоздь, я видел номер восемьсот с чем-то, это было за один год. По всякого рода болезням. Он говорил, что очень большой процент женских болезней. Однако как ни дорожил он своим дипломом врача, его писательская работа решительно вытесняла лечебную. О последней никто даже не вспоминал. Иногда это его обижало.
«Позво-ольте, я же врач».
Но и писательской работе он не отдавал всего своего времени. Он не писал так много и упорно, как, например, {60} Толстой или как, живя на Капри, Горький. Читал много, но не запойно и почти только беллетристику.
Совсем между прочим. Как-то он сказал мне, что не читал «Преступление и наказание» Достоевского. «Берегу это удовольствие к сорока годам». Я спросил, когда ему уже было за сорок. «Да, прочел, но большого впечатления не получил». Очень высоко ценил Мопассана. Пожалуй, выше всех французов.
Во всяком случае, у него было много свободного времени, которое он проводил как-то впустую, скучал.
Длинных объяснений, долгих споров не любил. Это была какая-то особенная черта. Слушал внимательно, часто из любезности, но часто и с интересом. Сам же молчал, молчал до тех пор, пока не находил определения своей мысли, короткого, меткого и исчерпывающего. Скажет, улыбнется своей широкой летучей улыбкой и опять замолчит.
В общении был любезен, без малейшей слащавости, прост, я сказал бы: внутренне изящен. Но и с холодком. Например, встречаясь и пожимая вам руку, произносил «как поживаете» мимоходом, не дожидаясь ответа.
Выпить в молодости любил; чем становился старше, тем меньше. Говорил, что пить водку аккуратно за обедом, за ужином не следует, а изредка выпить, хотя бы и много, не плохо. Но я никогда, ни на одном банкете или товарищеском вечере не видел его «распоясавшимся». Просто не могу себе представить его напившимся.
Успех у женщин, кажется, имел большой. Говорю «кажется», потому что болтать на эту тему не любили ни он, ни я. Сужу по долетавшим слухам. Один раз только он почему-то проявил странную и неожиданную откровенность. Может быть, потому что случай был уж очень исключительный. Мы много времени не виделись, столкнулись на выставке картин и условились встретиться завтра днем, почему-то на бульваре. И чуть не с первых слов он рассказал мне как курьез: он ухаживал за замужней женщиной, и вдруг, в последнюю минуту успеха, обнаружилось, что он покушается на невинность. Он выразился так:
«И вдруг – замок».
Открыл ли он его, я не допрашивал, но о ком шла речь догадывался, и он знал, что я догадываюсь.
{61} Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом. Думаю, что он умел быть пленительным. Крепкой, длительной связи до женитьбы у него не было. Незадолго перед женитьбой он говорил, что больше одного года никакая связь у него не длилась.
После «Иванова» прошло два года. Чехов написал новую пьесу «Леший». Отдал он ее уже не Коршу, а новой драматической труппе Абрамовой (жена Мамина-Сибиряка, намечался большой серьезный театр). Одним из главных актеров был там Соловцов, которому Чехов посвятил свою шутку «Медведь».
Я плохо помню прием у публики, но успех если и был, то очень сдержанный. И в сценической форме у автора мне казалось что-то не все благополучно. Помню великолепное впечатление от большой сцены между двумя женщинами во втором действии, – эта сцена потом в значительной части вошла в «Дядю Ваню»; помню монолог самого Лесничего (Лешего). Но больше всего помню мое собственное ощущение несоответствия между лирическим замыслом и сценической передачей. Играли очень хорошие актеры, но за их речью, приемами, темпераментами никак нельзя было разглядеть сколько-нибудь знакомые мне жизненные фигуры. Поставлена пьеса была старательно, но эти декорации, кулисы, холщовые стены, болтающиеся двери, закулисный гром ни на минуту не напоминали мне знакомую природу. Все было от знакомой сцены, а хотелось, чтобы было от знакомой жизни.
Я знавал очень многих людей, умных, любящих литературу и музыку, которые не любили ходить в театр, потому что все там находили фальшивым и часто подсмеивались над самыми «священными» сценическими вещами. Мы с нашей интеллигентской точки зрения называли этих людей закоснелыми или житейски грубыми, но это было несправедливо: что же делать, если театральная иллюзия оставляла их трезвыми. Виноваты не они, а театр.
А можно ли добиться, чтобы художественное возбуждение шло не от знакомой сцены, а от знакомой жизни?
Что этому мешает или чего недостает? В обстановке сцены, в организации спектакля, в актерском искусстве.
Вопрос этот только-только нарождался…
{62} 4
Я написал комедию «Новое дело». В моей театральной работе это был важный этап.
У меня были свои сценические задачи. Прежде всего пьеса строилась не на женских, а на мужских ролях. Значит, ни для Ермоловой или Федотовой в Москве, ни для Савиной в Петербурге не будет соблазнительной роли. Не было в пьесе и героя, главные роли были для характерных актеров. Еще рискованнее было то, что любовная интрига занимала совершенно второстепенное место, ее почти вовсе не было. Наконец, не было ни одного внешнего эффекта, ни выстрела, ни обморока, ни истерики, ни пощечины, никакого трюка, или, как называли тогда, deus ex machina[67] – неожиданной развязки.
На земле крестьян обнаружились залежи каменного угля. Соседний помещик арендует ее под эксплуатацию, ищет капитала и не находит. Ему не верят, потому что он вечно носится то с одним, то с другим «новым делом». Даже его дочь, которая замужем за богатым московским купцом, мешает ему получить деньги.
Вот и все. Я хотел найти интерес в самой сценической форме и хотел простыми средствами схватить тайну комедии.
Первые шаги не очень подбодряли. Пьесу для постановки в Москве в Малом театре приняли, но без особенных комплиментов, холодновато. Актеры репетировали внимательно, но подъема на репетициях не чувствовалось. Мизансцена и все режиссерские указания шли от меня самого, режиссер Черневский только присутствовал и без возражений исполнял мои просьбы. А относился к постановке он вот как.
На одной из последних репетиций, во время перерыва, в так называемой «курилке» – комнате за кулисами, где собирались актеры, курили, играли в домино-лото – Черневский делал какие-то гадания по косточкам лото и говорит:
«Ну, вот посмотрим: выйдет – будет успех, не выйдет – не будет успеха».
Через несколько минут:
«Ну, конечно, не вышло».
А я стою тут же. И большинство актеров, участвующих в пьесе, находятся тут же.
{63} Черневский откидывается к спинке дивана, щурится и продолжает тоном безнадежности:
«Да и понятно. Уголь, уголь, шахты, деньги…»
В сущности, полюбили пьесу и волновались вместе со мной только двое – Ленский, игравший главную роль, и Федотова, которая согласилась играть и которая вообще отличалась огромной чуткостью.
Автор, как и актер, никогда не бывает уверен в своем успехе накануне представления. Эти волнения за завтрашний день, эта неуверенность, может быть, есть самое святое, что заключается в переживаниях актера, художника, писателя, в особенности актера и драматурга, потому что они завтра станут перед результатом лицом к лицу.
Это не страх за самолюбие, это глубже и трогательнее. А вдруг окажется, что я заблуждался? Вдруг завтра все эти сценические мечты будут осмеяны? Один шаг к признанию – поверишь во все: и в свою правду, и в свои силы, – ты богач в лучшем понимании духовного богатства. А что-то случится, как-то «не повезет» или ярко, при полном блеске огней, обнаружится твое бессилие, – будешь презирать самого себя.
Когда мы со Станиславским будем создавать Художественный театр, бережное отношение к актерским переживаниям ляжет в основу наших взаимоотношений с труппой. Казенная атмосфера, равнодушие окружающих будут изгоняться нами самым беспощадным образом, как злейший враг искусства.
Я до сих пор помню, как в день премьеры в буквальном смысле не находил себе места. Бродил по улицам и терзал себя малодушием.
«А вдруг Черневский прав? А вдруг прав Садовский? репетируя даже лучшую роль с ленивым равнодушием? С таким равнодушием, что я официально обращался к режиссеру попросить Садовского выучить роль. И зачем я так писал? Зачем я надавал себе таких трудных задач?»
И думал, как я мог бы написать пьесу на тему более благодарную, как мог бы прибегнуть к знакомым эффектам; они, во всяком случае, гарантировали бы от провала.
Уехать куда-нибудь. Не идти сегодня в театр.
Каким раем представлялась мне жизнь людей, далеких от искусства. Сидеть в уютной обстановке с приятелями, играть в винт, беззаботно шутить, – какое счастье!
{64} Но счастье оказалось то, о каком я мечтал, когда писал «Новое дело»: успех был очень большой и единодушный.
Я мог считать себя победителем. Однако уверенности в полной победе еще не было: что скажут рецензии, они тогда имели влияние. Первые театральные заметки были отличные; но в лучшей газете, «Русские ведомости», появилась статья, в которой критик, как говорилось тогда, не оставил от пьесы камня на камне. И идеи-то в ней нет, и характеры-то не выдержаны, и все – сплошная пошлость.
Пикантное еще было здесь то, что я же сам недавно отрекомендовал редакции этого критика. Бывший многолетний рецензент умер; редакция просила писать о театре меня; мне по моим связям с Малым театром это было неудобно, но меня уговорили, и я писал о театре, пока не набрел на вот этого молодого критика, подающего большие надежды.
Вот он и поспешил оправдать их.
Статья произвела на меня большое впечатление. Я опять заколебался и с нетерпением ждал понедельника, когда появлялись фельетоны «короля критиков» Флерова-Васильева.
Успех у публики, такой дружный, был неожиданностью и за кулисами, поэтому там тоже с острым интересом ждали Флерова.
Этот критик отличался редкой независимостью и устойчивостью. Бывало так: пьеса провалится, публика ошикает, газеты разнесут, а Флеров в свой понедельник выпускает восторженную статью; и не то что берет пьесу под защиту, а просто делится своими впечатлениями, совершенно игнорируя ее неуспех. А спустя некоторое время пьеса вдруг завоевывает внимание, играется во всех театрах и потом держится в репертуаре десятки лет.
Так было, между прочим, со всеми последними пьесами Островского.
И вот Флеров дал о «Новом деле» большой, очень хвалебный фельетон, который я – должен покаяться – сохранил и много раз перечитывал. Это был из тех редких случаев, когда критик необыкновенно близок автору, потому что чутко схватил самую сущность замыслов и поэму что нашел волнительный тон и слова для своего пересказа.
«Новое дело» было первым моим серьезным успехом. Но по-настоящему этот успех развернулся только в Петербурге. {65} Там пьеса шла в бенефис Варламова, яркого, сильного комика, кумира Петербурга. Репетировали и играли с интересом. Прием был шумный. На бенефисах Варламова, как и Савиной, бывал всегда весь так называемый «Двор». Директор театра крепче обыкновенного жал мне руку и передал мнение того же Александра Третьего. Он, мол, сказал, во-первых, что наконец-то видит настоящую русскую комедию, а во-вторых, что на следующее представление приедет опять и привезет дочь Ксению. Газеты приняли пьесу отлично.
В дальнейшем «Новое дело» получило Грибоедовскую премию, которая выдавалась Обществом драматических писателей за лучшую пьесу сезона. Я выдвигался как один из первых знатоков сцены. При императорских театрах в Москве и Петербурге образовали «Театрально-литературный комитет»; в Москве в него пригласили трех самых выдающихся старейших профессоров по литературе – Тихонравова, Стороженко, Веселовского Алексея – и меня. Как трофей постановки «Нового дела», помню еще очень лестную беседу с Чайковским и просьбу его написать для него либретто.
Казалось, мне бы только писать да писать пьесы. Где-то уже промелькнуло, что я призван «продолжать» Островского, принять от него в наследство новое купечество. Двери театра были открыты мне настежь.
Между тем следующую пьесу я принес только через четыре года.
А произошло вот что.
Глава третья
1
Я получил предложение преподавать драматическое искусство в Филармонии[68]. Совсем маленькое дело. Никому оно не могло казаться серьезным, таким, чтоб могло иметь влияние на всю мою деятельность. А между тем это был для меня выезд на новую, важную дорогу к главной цели.
В Москве были две драматических школы: императорская, где преподавали крупные артисты Малого театра, и филармоническая, где на старших курсах занимался Южин, а на младшем – один второстепенный актер. Им {66} были недовольны, и Южин рекомендовал дирекции обратиться ко мне. С его стороны это было и прозорливо, и смело. Рекомендовать не-актера, чтобы готовить из молодежи актеров – надо было видеть во мне то, что другим не было видно.
Южин предупредил меня, что он этим делом совсем не увлекается и рассчитывает через год‑два передать мне его целиком. Он очень верил в меня, как в человека «актерской потенции», как в педагога, как в режиссера.
И я в себя верил. Но ученики приняли меня очень недоверчиво.
Предыдущий преподаватель был второстепенный актер, но все-таки актер, а этот, какой бы ни был хороший драматург, – чему он нас научит?.. Южину приходилось убеждать, что я был выдающимся любителем, что я ставил спектакли, учил и режиссировал, что когда я ставлю пьесы, то даже актеры Малого театра принимают мои замечания, и т. д. Я, со своей стороны, говорил, что пришел «учить, учась», что пока я только опытнее учеников, но что уже много думал о школьно-драматическом деле, – словом, начал очень скромно, надеясь завоевать доверие постепенно. Однако скоро мне пришлось взять совсем другой тон.
Училище имело плохую репутацию. Правда, отсюда вышло несколько первоклассных актеров, но в то же время в составе учащихся было огромное количество всякого сброда: подозрительных девиц, которые шли сюда как на хорошую выставку, бездельников, которым совсем некуда было деваться; а главное – у большинства общее отношение было исключительно развлекательное. Люди пришли сюда, чтоб их поскорее научили играть и дали хорошую роль на выпускном спектакле. Воспитательный смысл школы совершенно игнорировался. Нельзя было убедить, какое значение имеют постановка голоса, дикция, пластика, танцы, фехтование, образовательные курсы. Словом, весь тон был необыкновенно вульгарный.
«Зачем вы поступили в школу? – спросил я одного, лет уже под тридцать. – Ведь вы же ничего не хотите делать».
«Как вам сказать, – ответил он с исключительным цинизмом, – средства у меня есть, делать мне все равно нечего, а тут еще так много женщин… бесплатно».
Дирекция училища не боролась с этим тоном, вероятно, даже считала, что таков вообще тон закулисной жизни. {67} А некоторые из директоров находили это даже удобным…
Чем скромнее я себя вел, тем распущеннее становилось у меня в классах. Пришлось прибегнуть к данной мне власти. Увы, к ней приходилось прибегать много-много раз и впоследствии, и даже в обстановке Художественного театра, и с людьми более благородными, чем была эта орава… Таковы были люди. Однажды я накричал, потребовал исключения четырех-пяти человек и взял вожжи в руки…
Я увлекся курсами так, что мне самому было совестно признаваться. Помилуйте, драматург, от которого ждут пьесу лучшие театры, писатель – отдается какой-то драматической школе с такой затратой своего времени и сил, точно он сам юный ученик этой школы. Хоть бы деньги получал большие, все было бы какое-то оправдание, а то ведь гроши. Кто бы мне сочувствовал? Поэтому больше всего я любил встречаться с Ленским, который так же ретиво отдавался своим курсам в императорской школе и тоже предпочитал занятия с учениками своим актерским выступлениям. Мы наперебой делились нашими исканиями, пробами и достижениями.
Это дело необычайно засасывающее. Всякий, кто когда-нибудь брался за преподавание искусств, знает это. Уловить индивидуальность, вызвать к жизни «искорку», помогать ее развитию, расчищать засоренность, облагораживать вкус, бороться с дурными привычками, с каботинством, с мелким самолюбием; просить, настаивать, требовать; ласкать и наказывать; непрерывно иметь дело с человеческим материалом, насыщать его лучшими твоими идеями; с радостью и заботой следить за малейшими ростками…
Тут самое зерно театра, самая глубокая и самая завлекательная сущность его…
Надо, чтобы они, эти юноши, непрерывно верили в дело, которому решили отдать свои жизни, чтобы дисциплина, какую я требую, была оправдана… И притом, их так много; и каждому надо дать максимум внимания; и сказать иному юному существу, что он лишен всякого сценического дарования, может быть, зарезать его… Да и разве трудно ошибиться? Вон Ленский и его экзаменационная комиссия не приняли Книппер. Она пошла сначала туда, в императорскую школу, там ее нашли неинтересной, тогда она пришла в Филармонию. И это вовсе не {68} исключительная ошибка. Я сам после нескольких месяцев занятий еще говорил Москвину, что сомневаюсь в его способностях. А вон Савицкая, придя в школу, поставила для себя вопрос так: или театр, или монастырь, если она не может быть актрисой, она уйдет из жизни совсем. Имеете вы право решать, пригодна она для сцены или нет без внимательнейших проб и испытаний? С какими горячими надеждами приходят сюда, о каким пугливым ожиданием следят за каждой линией на лице преподавателя: что на нем отражается – радость или безнадежность.
Зато каким потоком благодарных чувств отвечает вся эта трепетная молодежь, если он оправдал ее ожидания!
Я должен был «давать уроки» четыре раза в неделю по два часа. Это было смешное условие. Я занимался ежедневно, без всякого счета, утром и вечером и до поздней ночи – и то не хватало времени.
Мне удалось завести большой порядок. Я часто употреблял чье-то выражение: «Скорее откажусь от самого дела, чем от порядка в нем».
В чем именно заключались мои занятия, чему я научился сам на этих курсах и чему учил театральную молодежь, – это предмет особой книги, вопросы специальной техники. Восемь лет это продолжалось до Художественного театра. Много сотен молодых людей перебывало на этих курсах, много десятков из них стало хорошими актерами, и, наконец, многие из них получили громкую известность. Какое разнообразие тем было охвачено нами в совместной работе, – преподавание шло далеко за пределы первых приемов сценической техники. Психологические движения, бытовые черты, вопросы морали, нащупывание слияния с автором, стремление к искренности и простите, искание яркой выразительности в дикции, в мимике, в пластике, индивидуальные неожиданности, обаяние, заразительность, смелость, уверенность, – не перечтешь, из каких элементов складывались часы волнительной школьной работы.
Репутацию школы делали выпускные спектакли. Некоторыми из них я гордился. Был и такой случай. Я увлекался Ибсеном. Большинство театров игнорировало его, Малый поставил «Северные богатыри» неудачно; Корш поставил «Доктора Штокмана» тоже без всякого успеха. Если прибавить к этому, что Дузе в свой приезд играла «Нору», то вот и весь Ибсен. А так как Дузе, как полагалось {69} иностранной гастролерше, сводила всю пьесу до одной своей роли, то и в ее «Норе» не было полного Ибсена. Я поставил «Нору» с учениками, и это был первый настоящий Ибсен в Москве. Спектакль был даже повторен по просьбе актеров Малого театра. Кстати, Нору играла будущая Литовцева.
Все преподаватели склонны переоценивать своих питомцев: не мало, конечно, грешил и я на этот счет. Но в одном мы не обманывались: что только через них, через школьную молодежь можно обновить театр.
2
От «Лешего» до «Чайки» шесть-семь лет. За это время появился «Дядя Ваня». Чехов не любил, чтобы говорили, что это переделка того же «Лешего». Где-то он категорически заявил, что «Дядя Ваня» – пьеса совершенно самостоятельная. Однако и основная линия, и несколько сцен почти целиком вошли в «Дядю Ваню» из «Лешего».
Никак не могу вспомнить, когда и как он изъял из обращения одну и когда и где напечатал другую пьесу. Помню «Дядю Ваню» уже в маленьком сборнике пьес. Может быть, это и было первое появление в свет. И сначала «Дядю Ваню» играли в провинции. Я увидел ее на сцене в Одессе, в труппе того же Соловцова, с которым Чехов поддерживал связь. Соловцов уже был сам антрепренером, его дело было самым лучшим в провинции; у него в труппе служила моя сестра, актриса Немирович[69], она же играла в «Дяде Ване» Елену.
Это был очередной будний спектакль. Пьеса шла с успехом, но самый характер этого успеха был, так сказать, театрально-ординарный. Публика аплодировала, актеров вызывали, но вместе со спектаклем оканчивалась и жизнь пьесы, зрители не уносили с собой глубоких переживаний, пьеса не будоражила их новым пониманием вещей.
Повторюсь: не было того нового отражения жизни, какое нес с пьесой новый поэт.
Таким образом, Чехов перестал писать для театра. Тем не менее мы втягивали его в интересы театрального быта. Так, мы повели борьбу в Обществе драматических писателей и втянули в нее Чехова. Он поддался не сразу, был осторожен, но в конце концов заинтересовался.
Общество драматических писателей, учрежденное еще Островским, носило характер чиновничий. Все дело вел секретарь, занимавший видное место в канцелярии генерал-губернатора. {70} Этот секретарь и казначей, тоже очень крупный чиновник, составляли всю головку Общества. Надо было вырвать у них власть, ввести в управление писателей, разработать новый устав и т. д. Это было трудно и сложно. Председатель Общества, doyen d’age[70] драматургов, Шпажинский, заменивший Островского, был простой фикцией, находился под влиянием секретаря, боялся, что тот будет мстить, пользуясь генерал-губернаторским аппаратом.
«Заговорщики» собирались большею частью у меня. В новое правление проводились я, Сумбатов-Южин, еще один драматург-адвокат и Чехов. Боевое общее собрание было очень горячей схваткой. Мы победили. Но мы вовсе не собирались захватывать доходные места секретаря и казначея. Наша задача была только выработать и провести новый устав, чем мы целый год и занимались, продолжая воевать. В конце концов, однако, мы понесли поражение, нас сумели вытеснить. Обычная история при борьбе партий: мы либеральничали, а надо было с корнем вырвать самую головку, рискуя даже разрывом с канцелярией генерал-губернатора.
Все это время часто встречались с Чеховым. Организаторских дарований он не проявлял, да и не претендовал на это. Он был внимателен, говорил очень мало и, кажется, больше всего наблюдал и мысленно записывал смешные черточки.
Он не писал новых пьес и не стремился на императорскую сцену, но имел там нескольких друзей. Чаще других он встречался с Южиным и Ленским. Это были премьеры Малого театра. С Южиным он был на «ты».
3
Южин был один из крупнейших людей русского театрального мира. После Октябрьской революции стало ходячей поговоркой, что театральный мир держится на трех китах: Южине, Станиславском и Немировиче-Данченко.
Это был тот, кто называется человеком широкой общественности. Как премьер лучшей в мире труппы, он нес сильный, большой репертуар. Он пошел на сцену наперекор желанию отца. Его настоящая фамилия была князь Сумбатов. Он оставил ее для своих драматических сочинений, {71} а для сцены взял псевдоним «Южин». Он был драматург со студенческих лет, его пьесы считались очень сценичными, игрались везде, много и всегда с успехом. Он участвовал во всевозможных театральных, литературных и общественных собраниях, обществах, комитетах. Был широко образован, начитан и с огромным интересом следил за новой литературой. Поддерживал обширные знакомства со «всей Москвой»; был членом всех больших клубов, создателем и пожизненным председателем любимого Москвой Литературно-художественного кружка. При всем этом был игрок, то есть вел постоянную крупную игру. Не было в Москве ни одного общественного сборища, в котором не было бы на одном из первых мест Сумбатова-Южина. Это был настоящий любимец Москвы. А летом, вместо отдыха, он ездил, в провинцию на гастроли, потом в Монте-Карло проверять выработанную за зиму новую «систему», а оттуда в деревню, в усадьбу к жене, писать пьесу.
Этот человек не знал, что такое лень, и мог бы считаться образцом кузнеца своего счастья. Он ковал свое положение, не доверяясь легким средствам, а вкладывая в каждый свой шаг энергию, упорство и настойчивость.
В обществе он был неиссякаемо остроумен и умел монополизировать разговор. Успех у женщин имел огромный.
Он был барственно гостеприимен и во всяком умел найти хорошие качества. Это подкупало. В его квартире происходило множество встреч, собраний, обедов, ужинов.
Про меня и Сумбатова смолоду говорили: «Их черт веревочкой связал». Наша дружба началась со второго класса гимназии. Но даже в гимназии мы шли не вместе, а параллельно: гимназия в городе была единственная, народу много, так что в каждом классе было по два отделения; я был в одном, Сумбатов в другом. В шестом классе, оставаясь друзьями, мы вступили в принципиальную борьбу. Каждое отделение издавало свой литературный журнал. На какие темы шел спор, не помню, помню только, что мой журнал – я был редактором – назывался «Товарищ» и что мы перестреливались «критиками», «анти-критиками» и т. д.
Мы вместе начали играть на сцене в качестве любителей в нашем родном городе Тифлисе.
{72} Мы вместе написали одну пьесу, имевшую большой внешний успех.
Встретились в Малом театре как драматурги.
Женились на двоюродных сестрах, он был женат тоже на урожденной баронессе Корф.
У меня он был единственный настоящий друг на всю жизнь. Наша дружба никогда не прекращалась, но мы сильно расходились в наших художественных вкусах. Это было что-то органическое, потому что наше художественное расхождение началось с самой юности. С возникновением же Художественного театра это расхождение стало резким, и мы много раз становились во враждебные положения. Наше главное дело – театр – шло, как в гимназии, по параллелям.
Он был романтик. Чуть не больше всех поэтов любил Гюго. Он даже имел орден Французской академии за исполнение Карла в «Эрнани» и Рюи-Блаза. И его художественный вкус всегда и во всем клонился в сторону романтической приподнятости.
На этой почве однажды долго и горячо спорили я и Чехов, с одной стороны, и Южин – с другой. Это было у него, в его большом светлом кабинете на улице, которая после его смерти названа «Южинская».
Спорили больше они двое, потому что речь шла обо мне. Незадолго перед этим вышла моя повесть «Губернаторская ревизия», и Чехов из своего имения прислал мне следующее письмо:
Я не отрываясь прочел Вашу «Губернаторскую ревизию». По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех Ваших вещей, какие я знаю. Впечатление сильное, только конец, начиная с разговора с писарем, ведется слегка в пьяном виде, а хочется piano[71] потому что очень грустно. Знание жизни у Вас громадное и повторяю (я это говорил как-то раньше), Вы становитесь все лучше и лучше, и точно каждый год к Вашему таланту прибавляется по новому этажу.
А перед «Губернаторской ревизией» была у меня другая повесть, «Мертвая ткань», которая нравилась Сумбатову. Вот они и заспорили, которая лучше. Спор перешел на общую почву и ярко вскрывал два художественных направления. Южин любил даже в романе образы яркие {73} и сценичные, Чехов любил даже в пьесе образы простые и жизненные. Южин любил исключительное, Чехов – обыкновенное. Южин, грузин, прекрасный сын своей нации, темперамента пылкого, родственного испанскому, любил эффекты открытые, сверкающие; Чехов, чистейший великоросс, – глубокую зарытость страстей, сдержанность.
А самое важное в этом споре: искусство Южина звенит и сверкает так, что вы за ним не видите жизни, а у Чехова за жизнью, как он ее рисует, вы не видите искусства.








