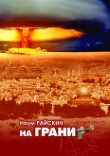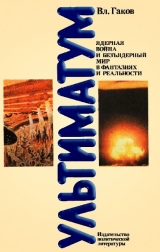
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Сломали военно-политическую машину гитлеровской Германии. А был ли окончательно уничтожен фашизм?
Увы… Раковую опухоль вовремя удалили из непосредственной близости от сердца Европы, но на то и сравнение с раком: как идеология фашизм оказался необычайно цепок. Идеи разбитых на полях сражений «сверхчеловеков» дали метастазы во все концы света, и сколько еще раз подлая боль напоминала человечеству о затаившемся в его организме смертельном враге…
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

…Итак, колыбель фашизма лежит разбитой у ног победителей, которые от имени всех народов, на себе испытавших прелести «нового порядка», судят в Нюрнберге его вдохновителей и главарей. Самым главным результатом этого первого в истории суда над преступниками против человечества можно считать осуждение фашизма как явления.
На землю Европы пришла долгожданная тишина. Передышка, давшая возможность отдышаться, залечить раны, оплакать тех, кто не вернулся, и задуматься. Пока шли бои, оглядеться времени не было, а наступившее затишье не смогло удержать наплыва тревожных мыслей и переоценок, раздумий о будущем.
Победа над Германией должна была, по-видимому, поставить точку и на той части научной фантастики, о которой шла речь. Но это впечатление кажущееся. Писатели-фантасты вообще склонны смотреть вперед, а не вокруг себя. Тем более что затянувшаяся ночь над Европой требовала особенного осмысления. Чтобы оценить меру совершенного всеми антифашистами разных стран, не говоря уже о солдатах, дошедших до Берлина, и тех, кто не дошел, мало было оглянуться назад.
Пришел час размышлений о сослагательном будущем, анализировать которое никто, кроме фантастов, не умел.
Я впервые услышал это странное словосочетание – "если-бы-будущее" – от американского писателя Грегори Бенфорда. Осенью 1985 года он был проездом в Москве (торопился в Тбилиси на конференцию по физике плазмы – Бенфорд по профессии физик), но у нас нашлось время встретиться, поговорить.
Разговор шел в основном о делах фантастических, но в юбилейный год беседа неизбежно вырулила на войну, которую мы оба знаем понаслышке (я родился после того, как она прошла, а Бенфорду было четыре года в сорок пятом). Так я впервые узнал, что мой собеседник подготовил для издательства "Гарланд" сборник американских фантастических рассказов на тему… Собственно, тему приоткрывает название книги: "Гитлер Победитель".
Досье по теме «Канун»:
ГРЕГОРИ БЕНФОРД
Род. в 1941 г.
Американский писатель-фантаст и ученый. Окончил университет штата Оклахома, защитил диссертацию в Калифорнийском университете (теоретическая физика), где работает профессором, В научной фантастике дебютировал в 1965 г. Автор многих книг – "В океане ночи" (1977), "Ландшафт времени" (1981), "Артифакт" (1985) и др. Лауреат премий в жанре научной фантастики.
По оценкам критики, Бенфорд – первый американский фантаст, который может когда-нибудь претендовать на Нобелевскую премию по физике. Типичный технократ, он обладает и несомненным литературным дарованием. Сейчас это один из самых популярных писателей-фантастов США, и сфера его литературных интересов – мир науки, о котором Бенфорд пишет с полным знанием дела.
Никакой особенной антифашистской патетики ни в произведениях его, ни в нашей очной беседе я, признаться, не заметил. Ни затаенной боли, кровоточащей памяти, никакого стучащего в сердце пепла Клааса – ничего подобного… Откуда же столь неожиданный выбор темы для сборника?
– Но ведь это очень интересно: описывать "если-бы-будущее", – вполне серьезно ответил Бенфорд. – Перебор вариантов, альтернативных историй Земли, на которой победил фашизм… Мне показалось увлекательным.
Позже я узнал о выходе сборника. Большого успеха книга не принесла, но вызвала весьма одобрительные отзывы в прессе. Одобрительные, благожелательные, но не более того… Антология была признана любопытной, умно и со вкусом составленной, однако не выделявшейся в ряду других тематических сборников: фантастика о спорте, о религии, с феминистским уклоном или с гомосексуальным…
Всего лишь тема научной фантастики. Одна из многих.
Почему я вспомнил этот разговор с Грегори Бенфордом? Зачем вообще потребовался этот краткосрочный "рывок" на сорок лет вперед, в 1985 год?
В ответе американского писателя и в отзывах на его сборник как в увеличительном стекле отразилось весьма любопытное и поучительное направление фантастики, имеющее отношение к разговору.
Вернемся опять в 1945 год. Мир понемногу приходил в себя, радостно оглядывался или оплакивал погибших, люди начали восстанавливать разрушенное войною – а фантасты задумались о недавно пережитом по-своему, с точки зрения истории "если-бы-будущего", истории альтернативной (ее еще называют «параллельной»).
Странный интерес к конструированию параллельных историй родился гораздо раньше: вспомним произведения Бурдекин или Бестера. Правда, они фантазировали все-таки о будущем, которое война делала более чем неопределенным – после окончания войны писателям приходилось обращаться уже не к истории свершившейся (где были Победа и Нюрнберг), а какой-то иной (где победил Гитлер).
Вообще, для человека с богатым воображением и вкусом к исторической науке сам по себе метод действительно увлекательный, тут с Бенфордом спорить трудно. В чем-то это похоже на математическое доказательство от противного; а если говорить о силе воздействия, то талантливо построенная альтернативная история может вызвать тот же эффект, что и электрошок (с шокотерапией, кстати, данный метод роднит и опасность "переборщить", переоценить физические возможности пациента).
Но что никак не могло удовлетворить меня в ответе Бенфорда – это его недоумение: нужно ли ломать себе голову над вопросом "зачем?". Цель подобного литературного эксперимента, его нравственная сверхзадача, его возможное воздействие на аудиторию – похоже, над всем этим мой собеседник если задумывался, то самую малость. Ведь интересно же, чего больше?
А между тем, задаваясь вопросом: "Что было бы с человеческой историей, если бы?.." – писатель разворачивает целый веер возможных продолжений. Просто забавная шутка, парадоксальный "перевертыш", эпатаж читающей публики (в духе, например, "черного юмора"), тенденциозная политическая пропаганда, философский анализ исторических закономерностей, мысленный эксперимент в области, менее всего допускающей какое бы то ни было экспериментирование, – в свершившейся истории.
Авторам научной фантастики не привыкать, они давно и решительно вторгаются в самые заповедные и недостижимые сферы. Да и оценивать результат лучше всего, исходя из поставленных задач (вышеперечисленных или каких-то иных), а не обсуждать правомерность самого объекта для эксперимента. Тем более ограничивать выбор, как говорят физики, "начальных условий" – на то она и фантастика, чтобы фантазировать.
Но остается вопрос: во имя чего? Вот об этом поговорим.
Начальные условия задаются просто: что было бы, если… Если бы Александр Македонский не умер столь внезапно в расцвете сил… Если бы шторм не развеял по морю испанскую Армаду… Если бы Гражданскую войну в США выиграли южане-конфедераты… Наконец, то единственное «если», которое нас в данный момент и волнует.
Жутко звучащее "если": вторая мировая война, выигранная фашистами.
Таких произведений написано много[90], но я остановлюсь лишь на некоторых. И подробнее всего – на одной книге.
Вероятно, это вообще одна из первых книг, где изображен мир после победы фашизма, и, по-видимому, самая яркая. Автор ее Джон Уолл скрылся под странно звучащим псевдонимом «Сарбан»; ни имени, ни фамилии, просто – Сарбан. И его досье я с удовольствием поместил бы в книге, но снова не удалось собрать никаких сведений, кроме того, что он – англичанин и опубликовал два сборника рассказов и роман «Звук охотничьего рога», вышедший в 1952 году.
Он один и остался в памяти критиков и читателей. Видимо, автор вложил в книгу всю душу.
Сюжет его несложен. Английский моряк-резервист, взятый в 1941 году в плен на Крите, при побеге из немецкого лагеря внезапно "проваливается" в альтернативное будущее: там войну выиграли немцы. Территория бывшей Англии превращена в гигантский охотничий заповедник, которым заправляет Главный лесничий рейха барон фон Хакельнберг. Под его опекой отдыхающие с континента приятно проводят время. Одетые в костюмы вагнеровских персонажей, новоявленные зигфриды и лоэнгрины устраивают пышные ночные охоты-оргии; бароном заботливо подготовлена и "дичь" – живые люди…
В отличие от Бестера Уолл-Сарбан рисует мир, где наука и техника не преданы окончательному забвению. В непролазной чаще скрыты хитроумные электронные приборы, в ходу все новейшие достижения медицины и фармакологии, а успехи генной инженерии позволили даже вывести новый тип полукошек-полуженщин – охота на них еще больше возбуждает гостей барона. Техника нужна, чтобы держать в повиновении целые народы, но она тщательно замаскирована, чтобы не вносить смуты в умы, с детства отравленные презрением к знанию и прогрессу.
Фантазировать особенно не пришлось. Несмотря на вызывающий антиинтеллектуализм нацистской идеологии, ученых – в прагматических целях – в "реальном" рейхе терпели. Правда, не выставляя напоказ, чтобы не вносить сумятицу в идеально организованную вакханалию обскурантизма и мистики[91]. От рядового бюргера до поры были скрыты полигоны в Пенемюнде, где лучшие инженерные умы, оставшиеся служить нацизму, работали над снарядами Фау. (Позже, конечно, геббельсовская пропаганда не жалела красок, расписывая на все лады «чудо-оружие», будто бы ниспосланное рейху свыше.)
Вот и в романе Сарбана наследники бюргеров рядятся в бутафорские доспехи и медвежьи шкуры вовсе не потому, что нет цивильных костюмов. Охотникам именно так хочется реализовать свои потаенные желания, выпустить на волю инстинкты – вполне в духе нацистской мифологии, проповедуемой их далеким предком в реальной истории.
"Это ужасное зрелище, – писал Томас Мани в 1943 году, – иррационализм, когда он становится популярен. Чувствуешь – быть беде, такой беде, к которой никак не может привести односторонняя переоценка разума. Он может быть смешон в своем оптимистическом педантизме и может быть посрамлен более глубокими силами жизни; но он не бросает вызова катастрофе. Это делает только посаженный на престол антиразум"[92].
В романе Сарбана цепко схвачено и вынесено на свет критического анализа то главное, что отличает фашизм от других – политически не менее реакционных – течений. Его поистине зоологическую ненависть к культуре, его принципиальную ставку на иррационализм и невежество.
Вот что говорит на сей счет история реальная.
Известно, что партия национал-социалистов в Германии состояла в немалой степени из необразованных обывателей, лавочников и люмпен-пролетариев. Не мудрено, что, дорвавшись до власти, они первым делом принялись напяливать на себя сверкающие доспехи героев северного мифоэпоса – невежество, возведенное на трон, стремится поскорее избавиться от комплекса культурной неполноценности.
В убогом сознании недоучек, словно в пестром калейдоскопе, смешались антропософия Рудольфа Штайнера (которого они, правда, из Германии изгнали, но идеи усвоили хорошо) и тибетская мистика, геополитика и бредовая космогоническая теория Вечного льда, звериный расизм и вполне житейская зависть к инородцам, вера в легедарную Атлантиду и шовинистическая "научная фантастика"[93]. А добавить сюда мистические идеи индуизма, перемешанные с северными «нордическими» мотивами, да интерпретированного в определенных целях Ницше, да перевранного Вагнера… Вся эта мешанина и составила ту эрзац-культуру, которая сопровождала фашизм в его последующих социальных перевоплощениях.
Извращенное самосознание озлобленной посредственности – вот куда завели грезы о сверхчеловеке, превратившиеся в манию.
И сколько раз еще человечество сталкивалось с этим жутким букетом расхожих идеек. Ведь нынешний, много раз менявший обличье фашизм тоже, как заведенный уповает на милый его сердцу иррационализм – иначе не может. Ставка сделана на прошлое, на культ героических предков и зов крови; фашизм постоянно взывает к теням древних героев и мистифицирует последователей, увлекая их назад – в леса, к первобытной дикости разыгравшегося инстинкта. Подальше от ненавистных "химер XX века": объективного знания, многонациональной человеческой культуры, гуманизма и прогресса.
Сегодня нам пришлось все это хорошо изучить и расставить по полочкам. Во времена Сарбана помогала лишь интуиция художника. Писатель не анализировал социальное явление, но ему повезло: он отыскал на редкость удачный образ-символ. Ночной лес, призывный звук рога и высвеченные отблесками факелов инфернальные чудовища – разодетые в древние доспехи и шкуры "штурмовики", охотящиеся на людей.
Мне кажется, что он сам содрогнулся от посетивших его видений. Оттого и портрет Фашиста Торжествующего, правящего бал на головешках цивилизации, вышел столь страшным.
К счастью, роман не постигла участь многих произведений, о которых шла (и еще пойдет) речь: книгу переиздали, и если не лавину, то устойчивый поток подражаний она вызвала. Но даже наиболее известные из них – рассказы соотечественников Сарбана: Хилари Бейли ("Падение Френчи Штайнера", 1964) и Кита Робертса ("Weinachtabend", 1972) – несравнимы по силе со "Звуком охотничьего рога". Авторам этих произведений, как выразился Грегори Бенфорд, "просто интересно". У Сарбана другое: страсть, неподдельный ужас, сдавленный крик-предупреждение, обращенный к тем, кто держит в руках его книгу.
Совсем недавно я случайно натолкнулся на строки, которые как бы специально написаны для эпиграфа к роману:
"В 1940 году вот так же возмутительно уверенно, нагло жили за ла-маншской водой английские села и города. Не знали джентльмены, что на другом берегу уже собраны нетерпеливые айнзацкоманды остроумного Штреккенбаха, бригадефюрера СС. По вечерам за чашкой английского пунша (влияние близких островов) Штреккенбах любил весело помечтать, как удивятся англосаксы, когда с ними обойдутся без церемоний – как с обыкновенными туземцами. Не хотите ли, сэры, прогуляться на континент – все, все до одного! – там приготовлены для вас аккуратные жилища. Леди могут задержаться на островах, скучно им не будет – мужчины фюрера самоотверженно позаботятся об оздоровлении англосаксонской крови. Бригадефюрер намекал, что действительно имеется проект всех мужчин убрать с острова. В лагеря! К черту! У айнзацкоманд не было еще того опыта, с каким они вернутся на берега Ла-Манша"[94].
Тот опыт – это сожженные дотла вместе с их жителями белорусские деревни, сожженные «героями» яростной, умной книги Алеся Адамовича «Каратели». А привел я фрагмент внутреннего монолога, который ведет эсэсовец Дирлевангер, достойный представитель той банды, дела и замыслы которой в отношении Англии сегодня кое-кто в этой стране пытается замолчать. И не только в Англии.
Профессор университета штата Аризона Пол Картер заканчивает обзор альтернативных историй, созданных в самое последнее время, романом некоего Фредерика Маллэли "Гитлер победил" (1974). В нем фюрер-триумфатор провозглашает себя… папой римским!
Дальше, кажется, действительно некуда. Потрясен и американский ученый: "Зачем? Кому это нужно – извлекать на свет божий дьявола нашей недавней истории? Мне кажется, что кошмарный в своей основе акт освящения Гитлера служит последним напоминанием: настало время похоронить этот фантастический призрак раз и навсегда"[95].
Призывов похоронить, забыть гитлеризм и его творца в западной печати хватает; без малого полвека раздаются эти продиктованные как будто самыми благородными намерениями обращения к неугомонным художникам. Ну что в самом деле за радость – пачкаться об эту мерзость, корпеть над каким-то там "анализом" фашизма, тем более касаться личности Гитлера! Забыть это историческое ничтожество, и дело с концом… Даже особое идеологическое обоснование подводится: мол, забвение и будет "высшей мерой".
Мысль, кстати, не так тривиальна, чтобы отбросить ее, поддавшись только эмоциям. Можно будет вернуться к ней, когда человечество обретет гарантию: подобное не повторится. После того как исчезнет опасность возрождения фашизма – а это произойдет не раньше, чем изменится сам человек, его социальная среда, исчезнет социальный антагонизм в мире, – что ж, тогда посмотрим. Постараемся – удастся ли, вот вопрос – забыть о страхе, который испытали в середине XX века.
Но забыть сегодня… Читая полные священного негодования патетические призывы, не следует забывать, что однажды идеология фашизма чуть было не победила. А население некоторых стран, словно в жутком «лабораторном эксперименте» истории, совратила почти целиком… И в заключение еще несколько примеров альтернативных историй, в которых нацисты выиграли вторую мировую войну. Почему я отобрал именно эти произведения, станет ясно из дальнейшего.
В романе "Операция "Протей" Джеймса Хогена действие развертывается в альтернативном 1975 году, но большей частью – в исторически достоверном 1939-м. Именно туда, в прошлое, отправилась группа добровольцев с намерением изменить историю, дать возможность союзникам выиграть (в то время будущую) вторую мировую войну. Среди персонажей романа – Черчилль, Рузвельт, Эйнштейн, Ферми… Последние особенно интересуют спецгруппу из будущего: только скорейшее развертывание работ по изготовлению атомной бомбы сможет спасти "тот" 1975 год от фашистской тирании.
Роман вышел в 1985 году – сорокалетие Хиросимы! А двумя годами раньше вышла книга Альфреда Коппела "Пылающая гора", снабженная подзаголовком "Роман о вторжении в Японию"… После того как в июле 1945-го атмосферная электромагнитная буря расстроила испытания атомной бомбы в Аламогордо, развернулась кровопролитная битва за Японию. Автор в годы войны служил пилотом ВВС, он привлек богатый документальный материал, личные свидетельства участников войны – и его воображаемое вторжение получилось на редкость убедительным. Настолько, что после чтения этой сработанной под "реалистическую прозу" книги не возникает сомнений в моральном оправдании ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Скачок назад еще на пять лет. В романе-бестселлере Лена Дейтона "СС-Великобритания" (1978) Англия в 1940 году оккупирована гитлеровцами. "Идеологическая начинка" книги не так проста и требует особого разговора[96], но сейчас нас интересует лишь одна деталь. В процессе расследования таинственного убийства, проводимого Скотланд-Ярдом под руководством шефов-гестаповцев, как бы невзначай выясняется, что английское Сопротивление и контрразведка Гиммлера охотятся за английскими физиками-ядерщиками, вплотную подошедшими к тайне атомной бомбы…
Внимательный читатель уже сообразил, в чем дело. Секрета тут нет: во всех этих произведениях сложными сюжетными нитями переплелись две темы – тема фашизма и тема "атомная".
Однако подождем с выводами и совершим еще один скачок от романа Дейтона в прошлое: сразу на двадцать лет.
В июльском номере журнала "Венчур сайнс фикшн" за 1958 год опубликован рассказ хорошо известного нашим читателям Сирила Корнблата "Две судьбы". Герой рассказа работает в "Манхэттенском проекте", и его обуревают сомнения. После того как герой попробовал каких-то загадочных грибов-галлюциногенов, он оказывается в "параллельном" времени, где США конечно же оккупированы немцами. Некоторые отличия от известного нам хода истории есть: фюрером стал Геббельс, война продолжалась до 1955 года, а в самом рейхе запрет на вообще все научные изыскания положил конец и "атомной проблеме". Немцы атомной бомбой не занимались, Эйнштейну нечего было тревожиться, и знаменитое письмо Рузвельту так и не было написано… Нет нужды говорить, что герой, возвратившись из своего "путешествия", с удвоенной силой принимается за работу.
А весь рассказ предстает "очевидной попыткой, причем, видимо, одной из самых ранних, оправдать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки средствами научной фантастики"[97]. Но, оказывается, можно отыскать еще более ранние примеры!
Весна 1949 года. В рассказе Роберта Эбернети "Заложник будущего" американские оккупационные войска обнаружили немецкого физика – изобретателя машины времени. Совершив поездку в "параллельный" XXI век, американцы с ужасом узнают, что после победы (!) в Германии тайно была изготовлена атомная бомба. Недобитые фашисты применили ее против союзников, окончательно решив исход войны в свою пользу. Вместо Нью-Йорка теперь Нойеберсдорф, манхэттенские небоскребы разрушены, а Бруклин победители превратили в уютный колониальный городок, частицу "фатерланда". Нацистские "демографы" в Берлине планируют окончательно заселить Землю только представителями нордической расы (из-за высокой автоматизации и доступной атомной энергии отпала даже необходимость в рабах); для всех "лишних" народов предусмотрена модификация газовых камер – управляемые радиоактивные облака.
1947 год. Стюарт Клаут в рассказе "Взрыв" описывает атомную атаку, начатую фашистами, укрывшимися в джунглях Южной Америки.
И наконец, последняя остановка в прошлом: рассказ Филиппа Уайли "Кратер рая". По причинам, которые станут понятными чуть позднее, присмотримся к этому в некоторых отношениях удивительному произведению.
Дело происходит в будущем. Все как положено в научной фантастике: города-мегаполисы под стеклянными куполами, роботы-официанты, летательные аппараты вместо привычных городских автомобилей, "альтернативные" источники энергии и даже коммерческая реклама по телевизору (тогда еще безусловно фантастика). Но вот в разговоре героя с возлюбленной прорывается не совсем привычная для фантастики той поры реплика – об опасности, которую представляет собой оружие, построенное на принципе радиоактивного распада урана-237: "Представляешь, одна чашка урана – и доброго квартала Лос-Анджелеса как не бывало!"
Рассказ-то, оказывается, об атомном проекте, о саботаже и заговоре бывших нацистов, не смирившихся с поражением во второй мировой войне и стремящихся овладеть атомными секретами; о подземных лабораториях, где трудятся, несмотря на летальную радиацию, подвижники-ученые, создающие атомные бомбы… Герой не может допустить, чтобы подобное оружие попало в руки немцам (а заговорщики близки к цели), и не находит лучшего выхода, как взорвать подземный завод. Гигантский взрыв выносит грибообразное облако в стратосферу, волна землетрясений прокатывается по территории США и Канады, и еще одна волна, на сей раз цунами, накрывает «дикарей», населяющих некогда цивилизованные Японские острова…
Редактор журнала, в котором рассказ впервые был напечатан, предпослал ему небольшое вступление, объясняющее уникальность произведения: «Может ли случиться, чтобы атомное оружие обратилось против нас? Замечательная история о „прекрасном новом мире“ 1965 года, которую мы вам представляем, – как раз об этом. Автор закончил ее много месяцев назад, но по вполне понятным цензурным соображениям нам пришлось отложить публикацию до настоящего времени».
Время появления – вот что превратило заурядную, в сущности «шпионскую» фантастику в событие исключительное, в своего рода диковину.
Я намеренно расположил вышеупомянутые произведения в порядке, обратном хронологическому: от 1985 года (роман Хогена) к… 1945-му! Ибо рассказ Уайли "Кратер рая" впервые напечатан в октябрьской книжке журнала "Блю бук" за 1945 год. А предложен в журнал еще раньше – в январе 1944-го.
С историей его публикации связаны обстоятельства, сами по себе детективные.
Редактор журнала рассказ принял, по затем отказался печатать, разъяснив автору в письме, датированном 3 июля, что "в Гарвардском университете работают над чем-то подобным, и меня попросили воздержаться от публикации из соображений секретности"![98]Писатель-фантаст описал в рассказе все, что только подсказала ему фантазия: уран-237, цепную реакцию, атомный взрыв… Как утверждают[99], его даже подвергли домашнему аресту «за разглашение». Чего именно, Уайли и сам тогда не знал.
Но все обошлось – спустя месяц рассказ снова был поставлен в план текущего номера. На полях рукописи стояла пометка цензора: "Атомная бомба взорвана над Японией 6 августа 1945 года".
Сам по себе довольно слабый, рассказ Филиппа Уайли тем не менее вошел в историю. Первое произведение "атомной" художественной литературы, опубликованное после бомбардировки Хиросимы (а написанное "до"). Как всегда, научная фантастика подоспела вовремя, даже чуть раньше…