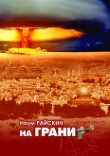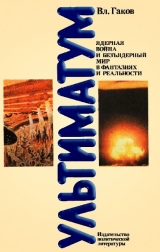
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Прежде всего интересно то, что ни японский город, ни трагедия, случившаяся сорок лет назад, в этих произведениях почти не упоминаются! Ну в крайнем случае – вскользь, намеком, как пикантная подробность.
Идея пришла в голову авторам коммерческого чтива, обычно держащим нос по ветру, и пришла задолго до "юбилея". Так, еще в детективном романе Алана Гарнера "Усилитель", вышедшем в 1963 году, действует пилот, сбросивший бомбу на Хиросиму. А персонаж похожего шпионского боевика Александра Корделла "Смертельно опасный евразиат" (1967), наоборот, жертва хиросимской трагедии, жаждущий отмщения… В последующее десятилетие – полтора Хиросима и Нагасаки часто включались в список обязательных пунктов посещений для героев различных альтернативных историй (о них, как помнит читатель, речь шла в предыдущем разделе книги). Обычно это профессионально сработанные авантюрные или детективные романы; однако в них просматривается некий повторяющийся мотив, на который хочется обратить внимание.
…Трагическое событие 6 августа 1945 года в параллельной истории, оказывается, можно было предотвратить. Каким образом? Похитив самолет с учеными, занятыми в "Манхэттенском проекте", и представив их документы и их самих в качестве свидетелей японскому правительству. Однако исполнению гуманного замысла неожиданно мешают русские (?). Их шпионская сеть, опутавшая и ученых-атомщиков, разузнала о готовящемся похищении, и если бы не находчивость американца-контрразведчика, обведшего и русских, и собственных пацифистов вокруг пальца, намеченное "мероприятие" в Хиросиме могло быть на грани срыва. Но – все нормально, бомба взорвана, и американский читатель вздохнул с облегчением: «наши» вновь оказались на высоте.
Понимаю: звучит дико, но я почти не утрирую. Именно так! Американским авторам Джорджу Симпсону и Нилу Бергеру, чей роман "Предупреждение" (1980) я только что пересказал, вся эта затея – спасать "желтопузых" – представляется делом морально нечистоплотным и даже безумным. Спасать врагов! [*******]*******
Правда, не уступают американцам – долой сантименты! – и японские фантасты. В романе Арицуне Тойота «Война во времени» (1975) жесточайшей японской бомбардировке подвергается Вашингтон – в отместку за Хиросиму.
[Закрыть]
И вот другая книга – "Фактор Иисуса" Эдвина Корли, вышедшая десятью годами раньше. Герои ее – реальные пилоты, бомбившие Хиросиму, но по прихоти автора проживающие часть жизни в опять-таки некоей параллельной истории (главы, происходящие в ней, чередуются с главами, действие которых развертывается в реальном, "нашем" 1945 году). Один из бывших летчиков становится кандидатом в президенты США и свою предвыборную кампанию строит на объявлении "крестового похода" за ядерное разоружение!
Поспешим, следуя недавним традициям наших критиков и журналистов, назвать "Фактор Иисуса" прогрессивным антивоенным романом? Разумнее повременить – ибо в романе Корли быстро обнаруживается «двойное дно».
Оказалось, что в 1945-м все происходило совсем не так, как описано в учебниках истории: ученые-физики были прекрасно осведомлены о том, что бомба не взорвется (из-за некоего побочного физического эффекта). История с любой имевшей место "атомной бомбардировкой" Хиросимы была чистой воды надувательством, "спектаклем", дезинформацией с целью подстегнуть во всем мире гонку вооружений. Позже ядерные заряды все же "научились" взрывать, и с тех пор безудержное накопление их, как выясняется, остается единственной контрмерой назревающей бактериологической войне. Осознав неизбежность ядерного паритета, будущий президент снимает свое требование о разоружении.
По-моему, тенденция ясна. Это мы уже проходили. Снова оправдания атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки… Книги, которые я только что упомянул, вероятно, так и затерялись бы в потоке аналогичных шпионских "триллеров", если бы не "хиросимская серия" 1984–1985 годов. Тогда исследователи поневоле вспомнили и эти первые ласточки, заговорив о тенденции.
Как было сказано, "хиросимская серия" почти не содержит упоминаний о Хиросиме, вообще о Японии. Только в рассказе "Лаки-Страйк" молодого талантливого писателя Кима Стэнли Робинсона, очередной "альтернативной истории", бомбардировщик, нареченный именем матери полковника Тиббетса, терпит аварию, и 6 августа 1945 года в спецполет отправляется другой экипаж. И еще в романе "Кибернетический самурай" Виктора Милана робот, в которого "встроили" дух бусидо, наречен Токугавой [********]********
«Бусидо» («Путь воина») – феодальный кодекс поведения японских самураев. Токугава Иэясу (1542–1616) – японский феодал, завершил объединение страны
[Закрыть] – известное имя для всех, кто мало-мальски интересовался японской историей.
И все. Словно невидимая рука (неужели чувство стыда или раскаяния? Прозрение?) удержала американских писателей от публикаций на "японские" темы в тот год. Зато об атомной войне напечатано обильно.
Перелистаем эти страницы.
Утверждать, что в "хиросимской серии" представлены одни литературные поденщики, почуявшие конъюнктуру, было бы неверно. Хотя бы потому, что среди ее авторов можно обнаружить и, например, Фредерика Пола.
Досье по теме «Атомные часы»:
ФРЕДЕРИК ПОЛ
Род. в 1919 г.
Ведущий американский писатель-фантаст. Специального образования не получил. Рано начал работать редактором, сотрудничал со многими научно-фантастическими журналами и издательствами. В фантастике дебютировал в 1940 г. Автор романов "Торговцы космосом" (в рус. пер. "Операция "Венера", 1953), "Человек-плюс" (1976), "Врата" (1978) и др. Некоторые произведения написаны в соавторстве с С. Корнблатом, Д. Уильямсом, Д. Меррил. Лауреат премий в жанре научной фантастики. Президент Ассоциации писателей-фантастов США (1974–1976).
Советский читатель знает этого титулованного и авторитетного автора прежде всего как острого и беспощадного сатирика. И в романе «Встает Черная Звезда» (1984) писатель верен себе. Однако на фоне таких произведений, как, скажем, «Мальвиль» или «На берегу», сатира Пола оказывается лишь злой, ехидной шуткой.
Но встает вопрос, от которого не уйти: можно ли в наше время шутить, пусть и уничтожающе зло, на тему атомной войны?
Ссылки на Воннегута, на другие счастливые исключения в данном случае, как мне кажется, не проходят. Ибо здесь даже не сарказм, не горький смех сквозь слезы – просто ехидная ухмылка. Над «своими» и «чужими», над всем и вся.
Сюжет романа прост. После того как СССР и США взаимно уничтожили друг друга в опустошительной ядерной войне – заодно погубив и добрые три четверти территории земного шара, – лишь Индия и Китай остались последними островками цивилизации. Американцам только чудом удалось избежать поголовного превращения в людей "второго сорта"; на помощь соотечественникам, угнетаемым китайцами, поспешили выжившие обитатели американской орбитальной колонии. А то ждала бы самоуверенных янки незавидная участь белых (и черных) рикш… Это хлесткая пощечина читателю-американцу. Но все же рука не поднимается "записать" роман Пола в произведения протестующей фантастики, даже предостерегающей. Анекдот забавный, в меру злой – но… не смешно. Подобная тишина неловкости повисает в компании, когда кто-то нетактично позубоскалил над недавно умершим.
Ведь читая роман Пола, постоянно забываешь о ядерной преамбуле всех этих забавных перипетий. А в ней все дело, ибо в 1984 году невозможность какой бы то ни было преамбулы была очевидна всем.
Может быть, писатель сам почувствовал некоторую фальшь, и вышедшая в следующем году прекрасная новелла "Ферми и мороз" написана совсем по-иному. Снова, как раньше, Фредерик Пол трезв, жёсток и строго логичен, подводя читателя к единственному возможному выводу: третья мировая война будет последней. И даже в далекой от театра военных действий Исландии не отсидеться, не "перезимовать".
Об этом рассказе мне довелось беседовать с самим автором, когда он посетил Москву в 1987 году. Наш разговор в гостинице "Космос" постоянно крутился вокруг атомной темы. В те сентябрьские дни мой собеседник имел все основания считать себя ведущим специалистом по атомным делам: на стендах расположенной рядом, на ВДНХ, Международной книжной ярмарки красовался последний бестселлер Фредерика Пола. Реалистический роман под исчерпывающим названием «Чернобыль».
Менее чем через год после сорокалетия хиросимской трагедии ворвалось в языки всех народов мира это славянское слово, означающее "полынь". Вторглось тревожным предупреждением, заставив вспомнить новозаветную книгу Откровение Иоанна Богослова, иначе – Апокалипсис: "Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки" (Откр. 8:10–11)…
Случись трагедия в Чернобыле лет десять назад, она, наверное, воспринималась бы исключительно как техническая авария на АЭС, не более. Да еще вопрос, узнали бы мы тогда всю правду о случившемся в своевременье… Что касается литературоведов, занимающихся научной фантастикой, то скорее всего они припомнили бы аналогичные "литературные предупреждения": первую ласточку – вышедшую еще в 40-е годы книгу Лестера Дель Рея "Нервы" или свежеиспеченный бестселлер "роман-катастрофу" Томаса Скортиа и Франка Робинсона "Кризис на "Прометее" (1975), где авария на атомной станции описана словно с натуры.
Но в 1986 году люди восприняли события в Чернобыле как предупреждение иного рода. Второе после Хиросимы и Нагасаки. Не "репетицию" гигантской технической катастрофы мы увидели в чернобыльской истории, а – страшно выговорить – микрорепетицию ядерной войны.
В это время пророческие слова Брехта о том, что в наши дни уже нет необходимости делать различие между ядерной войной и приготовлениями к ней, обрели неожиданное подтверждение. Любая крупная авария, связанная с ядерным "горючим", будь то на мирной атомной электростанции или на военном складе "спецоружия", – простое наличие огромных запасов этого оружия может послужить детонатором. "Ядерная зима", в сущности, безразлична к причинам, ее вызвавшим. Для того чтобы она наступила, нужно лишь, чтобы кто-то где-то взорвал (случайно или намеренно) определенное количество ядерного боезапаса. И чтобы возникшие гигантские пожары вынесли в верхние слои атмосферы определенное, подсчитанное математиками на компьютерах количество сажи и других примесей…
"Мирная" трагедия (чудовищное сочетание слов!) в Чернобыле заставила всех вздрогнуть от предчувствия куда более грозного.
А потому возвратимся к Фредерику Полу. Меня особенно интересовала его новая книга; прочесть ее довелось лишь полгода спустя, тогда же, в сентябре 1987 года, я мог основываться лишь на противоречивых суждениях рецензентов.
Мой собеседник от острых вопросов не уходил, но и о его позиции сказать что-либо определенное долгое время было затруднительно. Пол считал, что роман "Чернобыль" ни просоветский, ни антисоветский, а о рассказе "Ферми и мороз", в котором атомную войну начинают все-таки русские, высказался в том духе, что это его самое объективное произведение на тему атомной войны… Только позже, познакомившись с "Чернобылем" поближе, я, кажется, понял, как ко всем этим серьезнейшим проблемам относится ведущий американский писатель-фантаст.
Увы, прежде всего как к проблемам, гарантирующим успех на книжном рынке.
Роман хотя и корректен по отношению к нашей стране, но это произведение в первую очередь коммерческое. Выплывший на волне всеобщего интереса в мире к событиям в Чернобыле, роман тревожит душу и предостерегает ровно в той мере, в какой это «положено» общенациональному бестселлеру. То есть: не слишком серьезно, но и без излишней вульгарности; чуть-чуть «социально», по с включением обязательной мелодрамы; с искренним сочувствием к советским людям, но и с обязательной дозой стандартных претензий в адрес системы, «допустившей» такое. Пресловутой «развесистой клюквы» в романе меньше, чем в среднем антисоветском боевике, но все же, прочитав, что жену ведущего «кагэбиста» на Чернобыльской АЭС (по фамилии Хренов) зовут «Иванна Хреновна»[99](именно так, это не опечатка!), улыбаешься и досадуешь одновременно…
Но в общенациональные бестселлеры обычно пробиваются как раз такие книги, со строго дозированными "про" и "контра". Фредерик Пол за свою долгую жизнь в литературе твердо усвоил это.
Теперь, надеюсь, читателю ясно, зачем было мимоходом упоминать (в рассказе «Ферми и мороз») о том, что атомную войну начали русские. Произведение, в котором это сделали бы американцы, в год хиросимского «юбилея» в самой Америке было бы обречено на неуспех. Невзирая ни на какие литературные достоинства.
К этому рассказу я еще вернусь, а пока приглашаю читателя взглянуть на "хиросимскую серию" с точки зрения проблемы "зачинщиков". Кто только не начинал в этих книгах ядерную войну!
…В результате действий загадочных ближневосточных террористов Вашингтон превращен в радиоактивные руины. В романе супругов Джанет и Криса Моррисов "Сорокаминутная война" как будто прямо не сказано, кто учинил это варварство, но почему бы не совершить минимальное умственное усилие! Мужественный американский дипломат, рискуя жизнью, доставляет уникальные медикаменты пострадавшим в Хьюстон, куда экстренно перебралось правительство. Лекарства доставлены из Израиля – по-прежнему надежного союзника США.
В рассказе уже знакомого нам Нормана Спинрэда "Последняя мировая война" безумный арабский шейх грозит атомной бомбардировкой Израилю, в то время как банда торговцев наркотиками похищает президента США и выжигает ему мозг… В небольшом по объему рассказе еще много чего происходит на фоне приближающейся атомной войны, мир катится в пропасть и все же… мир живет! Автор, демонстрируя чувство юмора ("черного"!), подспудно вводит в сознание читателя простенькую мысль: ведь пока живы… Конечно, жизнь эта бурная и яростная, раздираемая конфликтами, но кто сказал, что нынешний мир тих и смирен? Приспособились же. А значит, научимся жить и в том, будущем, когда наступит "следующий день".
Рецептов выживания в постатомном мире и "хиросимский год" предоставил в изобилии. Но то, что в 50 – 60-е годы еще объяснимо было относительным незнанием последствий термоядерной катастрофы, в середине 80-х годов иначе как спекуляциями назвать нельзя. И не вызвали удивления даже обнаруженные мною в списках научно-фантастических книг 1985 года романы "Дети пыли" Луизы Лоуренс или "После бомбы" Глории Микловиц. Судя по аннотациям, эти "руководства по выживанию" предназначены для вполне определенной категории читателей: детей десяти – двенадцати лет!
Найдется что почитать и для аудитории постарше. В романе "Закат" Джона Ширли описан вариант "Евросимы", причем, с точки зрения сегодняшних читателей-подростков, весьма увлекательный. Хотя третья мировая война превратила континент в радиоактивные руины, они оказались не столь отталкивающими, и развалины того, что когда-то называлось Парижем или Амстердамом, вполне подходят для вызревания новой молодежной «контркультуры». Правда, юным бунтарям – бродягам и революционерам – приходится воевать на два фронта: с неофашистской группировкой «Новый союз» и одновременно с внешне мирными «либералами», стремящимися захватить агонизирующий континент, подчинить себе остатки правительств и промышленных корпораций (и даже, по слухам, сохранившиеся на орбите космические поселения)… Юный дикарь с пальцем на курке автомата, анархия и кровавая каша, в которой все сражаются против всех и где быстро рождается культ сверхчеловека, нового мессии. Это тоже своего рода «рецепт» спасения цивилизации.
Но герои романа молоды, агрессивны и в меру беззаботны. И читателю-сверстнику нарисованные кошмары вряд ли покажутся невыносимыми. Ведь власть в постатомном мире принадлежит молодым, они более других приспособились к новой обстановке и не прочь этой властью попользоваться.
А если все-таки "заденет" и Америку? Об этом – два серьезных романа: "Фискадеро" Дениса Джонсона и "Дикий берег" уже знакомого Кима Стэнли Робинсона.
Оба содержат новую сюжетную деталь. На поверженную, буквально "истекающую радиацией" Америку страны, уцелевшие в ядерном конфликте, наложили карантин. Проходят десятилетия (в романе Джонсона – целый век), американцы отрезаны от всего белого света и, по сути, обречены на медленную мучительную агонию. Казалось бы, вот тот суровый беспощадный реализм, который единственный сегодня и нужен? Но весь фокус в том, что и в описанных условиях жизнь-то продолжается!
Название книги Робинсона ясно напоминает о романе Шюта и фильме Креймера. Однако как все изменилось за три десятилетия! Фильм кончался на траурной ноте. А совсем свежий роман американского писателя, полный точных и реалистических деталей (автор использовал последние данные науки, описав ситуацию, когда на территории Америки произошла одновременная детонация сотен единиц нейтронных боеголовок), оставляет в душе читающего надежду…
Что же плохого в надежде, которая столько раз одна спасала людей в самых на первый взгляд безнадежных ситуациях? «Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая» – мое поколение осваивалось в мире вместе с этими пропетыми под гитару строками. И для скольких одно ощущение надежды, ее присутствие во все времена означало спасение…
Еще об одной книге "хиросимской серии" хотелось бы сказать особо. О самом, на мой взгляд, значительном и в то же время самом противоречивом произведении из всех названных, по искренности и точности интонации приближающемся к классическим романам Шюта, Брэдбери или Миллера. Надеждой – иррациональной, почти "задыхающейся", но за которую хочется цепляться из последних сил, – буквально пронизан роман молодого талантливого автора Давида Брина "Почтальон".
Сюжет его новизною вряд ли поразит: Соединенные Штаты разрушены атомной войной, и случайно уцелевшие фактически доживают. Мало что добавляют к уже читанному и картины нравственного распада, анархии, отчаяния. Но – найден образ. Герой романа, наткнувшись на полуистлевший труп почтальона, недолго мучается сомнениями. Перебросив через плечо сумку с никому теперь не нужной корреспонденцией, он начинает свой удивительный, хотя и безнадежный индивидуальный «марш мира». От развалин к развалинам, от убежища – к убежищу.
Почтальон… Значит, кто-то пышет письма, значит, теплится где-то жизнь.
Сильный и честный роман. Во время чтения его все время вспоминаешь фолькнеровские слова о человеке, "который не только выживет, но и победит". И еще в памяти возникают знакомые образы "людей-книг" Рэя Брэдбери, детей-мутантов Джона Уиндэма, отважных мальвильцев Робера Мерля… Но все равно, образу никак не совладать с логикой ситуации. Ибо надежду он внушает ложную. Надеяться, в сущности, не на что.
Так что же остается фантасту, чья гражданская совесть не позволяет ему молчать? И уже не выручает просто хорошая литература? А старые, веками формировавшиеся представления, нравственные ценности не только не вписываются в особую постатомную логику, но, наоборот, тормозят наше гражданское сознание, внушая вредные иллюзии.
Вообще, что делать, когда вредной оказывается надежда?
Впору руки опустить, дать зарок вообще больше не писать…
Может быть, если не к ответам, то к самим этим вопросам и вела нас кружными путями "хиросимская серия". И задуматься приспело как раз в Год Хиросимы.
…В канун его два американских автора – Уитли Страйбер и Джеймс Кьюнетка – выпустили фантастический роман "День войны", быстро ставший бестселлером (сейчас, по сообщениям печати, к его экранизации приступил известный французский режиссер Коста Гаврас). Это вымышленный "документальный" репортаж двух журналистов, в 1993 году совершающих поездку по американскому континенту. Прошло пять лет после того, как США и СССР обменялись "ограниченными" ядерными ударами. К счастью, удалось предотвратить глобальную катастрофу, однако картины, представшие взорам путешественников, столь мрачны и безысходны, что потухнет взор и самых непробиваемых оптимистов. "Уитли Страйбер и Джеймс Кьюнетка, – отмечал Пол Брайнс, – попытались однозначно доказать, что даже "небольшая" ядерная война, весьма далекая от Армагеддона, все равно станет беспрецедентной трагедией"[100].
Удаче книги способствовал, как я думаю, и необычный писательский дуэт: Страйбер известен как один из ведущих мастеров современного "романа ужасов", а Кьюнетка, наоборот, тяготеет к документальной прозе, он автор биографии Роберта Оппенгеймера и популярной хроники испытания первой атомной бомбы. "Нам казалось, – сказал оп в интервью газете "Нью-Йорк таймс", – что книга удастся, если по прочтении ее никто не сможет уйти от вопроса, обращенного к самому себе, – все ли ты сделал для того, чтобы ничего подобного не произошло?"[101]
А теперь обещанное возвращение к рассказу Фредерика Пола "Ферми и мороз".
Действие его, как уже говорилось, происходит в Исландии, где укрылись последние выжившие в ядерном "жертвоприношении". Герой рассказывает спасенному им мальчику об ученом по имени Энрико Ферми, некогда решившем знаменитый парадокс "молчащей Вселенной" с обезоруживающе-ледяной логикой. Разумные цивилизации "молчат", потому что: (а) они не существуют; (б) они боятся вступить с нами в контакт; и (в) они действительно высокоразвиты, а значит, обладают не только звездолетами для покрытия космических расстояний, но и оружием, способным истребить их самих еще до широкого выхода в космос…
Рассказ закапчивается тоже неожиданным вариантностным финалом:
"Можно закончить рассказ так. Когда солнце наконец вновь засияло, было уже поздно. Исландия до этого оставалась последним местом на Земле, где еще теплилась жизнь, но и сюда в конце концов пришел голод. И отныне на всей планете не найти было живого существа – никого, кто бы говорил, или строил машины, или читал книги. Третий вариант ответа Ферми оказался единственно верным.
Но это не единственное окончание рассказа. Почему бы не предположить и такое: солнце вновь появилось над горизонтом вовремя. Может быть, и не совсем вовремя, по пищи хватило, чтобы дожить до того дня, когда под воздействием солнечных лучей где-то опять поднялась зелень… В этом варианте финала Тимоти выжил и превратился в мужчину. Когда же Малиберт и Эльда поженились и родили дочерей, Тимоти по прошествии времени женился на одной из них. И кто-то из его потомков – спустя одно поколение или дюжину – жил уже в то время, когда о парадоксе Ферми с улыбкой вспоминали как о стародавнем заблуждении. Вроде того, как моряки в старину боялись плыть слишком близко к краю плоской Земли, дабы не свалиться на край ее. В этом варианте финала Вселенная больше не молчала – в ней было кому откликнуться…
Именно так все и произошло!
По крайней мере, хотелось бы верить, что так"[102].
Хотелось бы… Но можем ли мы довольствоваться одной лишь верой!