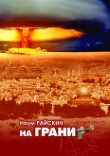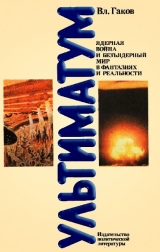
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Вероятно, имя Жюля Верна может кого-то смутить. Трудно представить создателя "Наутилуса" и "Колумбиады", "отца" капитана Немо и Сайруса Смита – в роли кого! В роли мрачного резонера, тем более зараженного ура-патриотизмом "военного сценариста".
Вообще сочетание: Жюль Верн и политика… ну, может быть, только в тридесятую очередь. Восторженный певец техники, которой покоряются бездны космические и океанские, создатель бессмертных образов оптимистов, романтиков, идеалистов, стремящихся превратить мир в одну прекрасную техническую утопию, – вот что значит для большинства имя великого французского писателя.
Досье по теме «Канун»:
ЖЮЛЬ ВЕРН
1828–1905
Выдающийся французский писатель, один из основоположников научно-фантастической литературы. С молодых лет – профессиональный литератор. Участник франко-прусской войны, позднее, убежденный пацифист. Автор десятков научно-фантастических, приключенческо-географических и социально-сатирических романов (большинство объединено в серию "Необыкновенные путешествия").
Досье на таких людей может потребовать нескольких десятков страниц, но, по-моему, достаточно двух слов: имени и фамилии.
Жюля Верна знают все. Правда, иногда ореол чрезмерной популярности искажает истинные черты человека: так случилось и с Жюлем Верном. В обыденном сознании прочно сложился образ убежденного, аполитичного до мозга костей технократа, постоянно витавшего в небесах, на неоткрытых землях, в недрах планеты.
Между тем классик научной фантастики не был чужд треволнениям века. И с годами в восторженном оптимисте проснулся зрелый скептик. По крайней мере, опасность превращения новых технических изобретении во все более отвратительные средства ведения войны Жюль Верн разглядел вовремя.
Его личный военный опыт небогат. Относительно спокойная служба в береговой охране в Нормандии и пассивное же наблюдение за Парижской коммуной и ее разгромом – вот и все впечатления. Но писатели умеют хорошо описывать то, чему никогда лично не были свидетелями; фантасты так вообще только этим и занимаются.
А Жюль Верн не знал себе равных в этом качестве. В его лучшем антимилитаристском романе "Пятьсот миллионов бегумы" (1879) читатели-современники увидели всего лишь пересказ недавних событий франко-прусской войны. Зато потомки, перечитав роман, обнаружили описание войны следующей (тогда еще – будущей).
Напомню: в "повести о двух городах" – утопическом Франсевилле и мрачном Штальштадте – второй город, детище пушечного короля герра Шульце, получился куда выразительнее первого, возведенного идеалистом доктором Саразеном. Давно подмечено, что художественно антиутопия часто выигрывает в сравнении со своей сестрой-утопией; однако мне кажется, «успех» Штальштадта и Шульце предопределен другим обстоятельством.
Утопии писали и до Жюля Верна, и после. Но в кошмарном царстве металла и тупого милитаристского усердия писатель первым разглядел тревожную перспективу. Дальнюю, не на ближайшие десятилетия… Гигантская пушка герра Шульце – это будущая "Большая Берта", тут все ясно. Но предвосхищение чего – навязчивые бредни пушечного короля о "высшей саксонской расе", о неизбежном истреблении всех народов, не желающих "слиться с германской расой и посвятить себя служению фатерланду"?[32]
Как знакомо… Знакомо нам, столетием отделенным от замечательного пророчества, сделанного "восторженным певцом техники" и "романтиком-идеалистом". Гитлеровский рейх в миниатюре, поточная казарменная система, функционирующая с единственной целью – создавать больше оружия для безудержной агрессии. Этот гигантский конвейер смерти зиждется на техническом прогрессе – раз и на относительно новой милитаристской идеологии ("право сильного", "высшая раса", "богоподобный фюрер") – два.
…Перевернув последнюю страницу романа, тотчас натыкаешься на дату окончания работы, поставленную самим писателем. Десять лет отделяют книгу от другого события – рождения в австрийском городе Браунау того, кто впоследствии выберет себе партийный псевдоним Гитлер.
Но вернемся к Жюлю Верну. Да, трудно спорить: славу ему составили произведения подчеркнуто "мирные". Но чем ближе к концу, тем больше занимали воображение писателя картины бесчеловечной кровавой каши. Правда, приближающейся империалистической войны убежденный пацифист Верн не предвидел, и его последние романы – "Дорога во Францию", "Архипелаг в огне", "Паровой дом", "Север против Юга", "Дунайский лоцман" – посвящены войнам реальным, не будущего, а настоящего, в основном гражданским и национально-освободительным. Но все же неспроста, думается, столь мощно вторглась в его творчество военная тема.
А тут еще возвращение к образу Робура. И снова пробудившаяся тревога за достижения науки, которыми овладели безумцы. Если в "Робуре-Завоевателе" (1886) продолжал звучать гимн во славу авиации, технического гения человека, то в вышедшем спустя 18 лет "Властелине мира" – ровно десятилетие оставалось до Сараева – тон куда мрачнее. И герой не тот; теперь это гениальный одиночка-мизантроп, одержимый жаждой власти над миром…
В 1888 году, когда писатель работал над последним романом из серии о Пушечном клубе, он с тревогой заметил по поводу развития взрывчатых веществ: "Неизвестно, какой прогресс в этом деле сулит нам будущее. Быть может, скоро найдутся средства уничтожать целые армии на любом расстоянии"[33]. Герой романа «Флаг Родины» (1904) такое средство нашел – но к его изобретению я вернусь позже, ибо, как часто случалось, великий фантаст в этом произведении «угадал» по высшему счету. Хотя, может быть, и сам не заметил.
Незадолго перед кончиной (жить ему оставалось менее полугода) Жюль Верн поделился с журналистами тревогой в связи с русско-японской войной: "Это пролитие крови приводит меня в ужас. Самые новейшие смертоносные орудия и взрывчатые вещества впервые вводятся в употребление… Но все же, мне кажется, есть действенные факторы, которые будут способствовать ограничению войн в будущем. Один из них – трудность доведения операции до определенного исхода благодаря усовершенствованию вооружения с обеих сторон, а другой – исключительная дороговизна, которая может привести к обнищанию целые государства… Цивилизованное варварство! Тем более дипломаты должны стараться сохранить мир… Но что бы нам ни угрожало сейчас, я верю в созидательные силы разума. Я верю, что народы когда-нибудь договорятся между собою и помешают безумцам использовать величайшие завоевания науки во вред человечеству"[34].
Шел только пятый год нового века. И, не задерживаясь с выработкой соответствующего ему нового мышления, самые прозорливые уже принялись закладывать первые камни в фундамент совершенно иных представлений о технике и прогрессе, мире и войне.
И все-таки в своих воззрениях на прогресс, на мир и войну Жюль Верн остался в уходящем столетии. Он только чуть внимательнее современников глядел за горизонт – в столетие новое.
Герберт Уэллс, наоборот, открыл XX век. Чуть раньше официальной хронологии, как и положено писателю-фантасту.
Досье по теме «Канун»:
ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЭЛЛС
1866–1946
Выдающийся английский писатель, классик научно-фантастической литературы. Окончил Кембриджский университет, учился у Томаса Гексли (Хаксли), защитил диссертацию (биология). Работал врачом, журналистом. Дебютировал в литературе в 1895 г. Автор всемирно известных романов, писал также эссе, статьи, очерки. В 1920-х годах примкнул к Фабианскому обществу, связей с социалистическим движением не прекращал всю жизнь. Дважды побывал в СССР, встречался с В. И. Лениным. В канун второй мировой войны посетил руководителей крупнейших держав, призывая их сесть за стол переговоров, предотвратить войну. Принимал активное участие в создании Лиги Наций и разрабатывал планы всеобщего мира и всемирного правительства.
К концу XIX века число военных сценариев перевалило за сотню. Но в 1897 году вышел еще один (формально – тоже прогноз будущей войны), и о всех прочих читатели мгновенно забыли. Это была «Война миров».
Отдельные главы книги появились еще раньше. "В 1895–1896 годах Уэллс, – сообщает исследователь его творчества Ю. Кагарлицкий, – некоторое время жил в Уокинге и, разъезжая на велосипеде по окрестностям, выискивал место, где лучше всего упасть первым цилиндрам с Марса. Он производил рекогносцировку на местности. О том же, какие силы вывести на поле боя, он знал давно"[35].
Начиная со студенческих лет, писателя не покидала мысль о разумных обитателях планеты Марс, – это от рано проснувшихся в нем "генов" научного фантаста. А глубокий социальный мыслитель не мог не видеть надвигавшейся на мир реальной войны. Две темы, две половинки критической массы соединились, и пошла цепная реакция!
С апреля по ноябрь 1897 года популярный английский журнал "Пирсонс мэгэзин" был, вероятно, в зените славы: новый роман уже полюбившегося автора "Машины времени", "Острова доктора Моро" и "Человека-невидимки" стал сенсацией литературного года. Год публикации совпал с торжествами по случаю юбилея королевы Виктории. Вместе с нею англичане славили эпоху, когда с Британских островов можно было снисходительно поглядывать на весь мир. "Произносились юбилейные речи. Газеты были полны восторгов и оптимистических предсказаний. Обыватель раздувался от самодовольства, и Уэллсу, вероятно, доставляло неизмеримое наслаждение из месяца в месяц преподносить ему по главе своего романа"[36], уже в январе вышедшего отдельной книгой.
Это, вероятно, лучшее произведение из всего написанного Уэллсом в ранний период. По крайней мере, только "Войну миров" он рискнул послать Льву Толстому, когда тот изъявил желание познакомиться с творчеством молодого английского писателя.
Хотя не было ли в том подсознательного желания узнать, как отнесется прославленный русский классик именно к "Войне миров"? Вспоминала же дочь Томаса Манна, что первой мыслью, пришедшей ей в день начала мировой войны, была мысль о Толстом: "Право, если бы старик был жив – ему ничего не надо было бы делать, только быть на месте в Ясной Поляне, – этого бы не случилось, это бы не посмело случиться"[37]. Авторитет Толстого – миротворца в начале века был абсолютным, и его мнение не могло не интересовать молодого Уэллса.
Ведь его книга была о будущей войне. Уэллс предчувствовал опасность острее, чем другие, а уж воплотил свое предчувствие в художественное слово так, как никто не смог ни до, ни после него.
Сейчас трудно заставить себя поверить в захватчиков-марсиан, о них вспоминать-то – дурной тон, хотя вина в том не Уэллса. Однако книга – живет. И в наши дни читается с не меньшим интересом. Потому что он писал не о марсианах, а о современниках, которым вскоре было суждено наблюдать картины пострашнее тех, что нарисовала его фантазия.
С точки зрения приоритета Уэллс не был первопроходцем. Тему инопланетного вторжения до него разрабатывали другие авторы, чьи книги он скорее всего читал; что до подражаний, то им попросту нет числа. В России это был роман Н. Холодного, вышедший спустя три года под почти неизмененным названием – "Борьба миров". В самой Англии – пародия Ч. Грейвза и Э. Лукаса "Война венер" (1898), где агрессивные жительницы Венеры прилетают на Землю в космических кораблях, по форме напоминающих кринолины, с единственной целью: разузнать все о здешних модах… Всех их, эпигонов и безвестных предтеч, унесло время; роман Уэллса остался.
Дело не в выбранной теме и не в точности прогноза, а в масштабе творческой личности. Уэллс «вычислил» в недалеком будущем кровавую бойню, кошмар вторжения, перевернувшие все монолиты морали, философии, политики, изменившие представление о сущности и ценности человеческой личности. Подобные видения озаряли, как мы уже убедились, в те годы не одного Уэллса. Но лишь его талант смог отлить зыбкие кошмары в совершенную художественную форму.
"Война миров" оказалась миной замедленного действия, заложенной под недвижимые стереотипы британского имперского сознания. В конце концов, неважно, кто в романе оккупировал Лондон – марсиане или войска кайзера. Самодовольному оптимизму буржуа все равно конец. И хотя мина разорвалась не сразу – скоро, очень скоро современники оцепили мощь уэллсовской фантазии, причем им не понадобилось помощи никаких "марсиан".
В 1899 году разразилась англо-бурская война – одно из последних громких событий уходящего века. Международный авторитет Британской империи покатился вниз и, как это исстари велось, нацию захлестнула волна оголтелого шовинизма. В мутный водоворот политической демагогии оказались вовлечены многие выдающиеся деятели культуры, среди них – Редьярд Киплинг. Его читали повсюду, и голос писателя звучал порой громче призывов профессиональных политиков. Не мудрено, что на выборах 1901 года, метко прозванных историками "выборами цвета хаки", голоса миротворцев тонули в реве опьяненной воинственными призывами толпы.
"Война забивает и надламывает одних, закаляет и просвещает других, – как и всякий кризис в жизни человека или в истории народов"[38]. Книга Уэллса пришлась холодным душем на горячие головы, наглядно показав, чего стоят на деле мощь и «национальная монолитность интересов» викторианской Англии. Чего они будут стоить.
Но дело не только в специфическом английском "моменте". По своему художественному воздействию роман Уэллса – одно из лучших в литературе художественных отражений первой мировой войны.
Правда, пришельцы с Марса не сбрасывают бомб на мирные города, не травят солдат газами и не разрывают артиллерийскими снарядами. Но эффект от их "лучей смерти" сродни тому, который воочию будут наблюдать спустя шестнадцать лет. Развалины и пепелища, выжженная, перепаханная бомбами, вытравленная ипритом земля, потоки беженцев на дорогах – бессмысленная мясорубка, втягивающая в свое жерло все новые миллионы солдат, не ведающих, за что и против чего воюют. Целые народы, предназначенные на роль рабочего скота, обслуживающего гигантские "фермы" победителей!
Все это легко прочитывается в книге Уэллса. "Эмоции, страх, вспышки шовинизма, паника, импульсивные решения и распоряжения, ограниченность, игра престижен, самолюбии, злоба – все перемешивается и перепутывается в эти дни и часы. У людей не хватило ни мысли, ни фантазии, чтобы отойти от инстинкта упования на силу и обман"[39]. Я цитирую не рецензию на «Войну миров», а сегодняшние размышления историка о «человеческом факторе» первой мировой войны. Но сказано как будто о романе.
Исследователи научной фантастики охотнее всего отмечают в произведениях Уэллса то или иное предсказание различных конкретных систем оружия. Действительно, он одним из первых глубоко обосновал революционизирующую роль военной авиации в романах "Война в воздухе" и "Когда спящий проснется", предсказал появление танков; о самом удивительном из его "военных" предсказаний речь пойдет в следующих главах.
Но разве в этом дело? Будущая всемирная бойня – писатель хорошо это понимал – перевернет все вверх ногами не только в сфере военной техники.
Параллельно боевым операциям на полях сражений развертывались истинно человеческие драмы, невидимые нравственные битвы в душах людей. То, что было заложено в характерах, война лишь заострила и высветила. Безвестные герои и трусливые предатели, разобщенная планомерно раздавливаемая и втаптываемая в грязь человеческая личность – и небывалое объединение народов перед лицом общей опасности. Зачатки новых представлений о характере и степени "эффективности" войны – вместе с мучительной ломкой сословных барьеров, предрассудков, оставшихся в наследство от века ушедшего.
Владимир Дмитриевич Набоков, отец знаменитого русского писателя, в феврале 1916 года встречался с Уэллсом в Лондоне. В воспоминаниях Набокова-старшего мы найдем примечательную запись: "Он (Уэллс. – Вл. Г.), конечно, не сомневается в ее (войны. – Вл. Г.) колоссальных последствиях, которые отразятся на всех сторонах жизни, на индивидуальной и общественной психологии, на политическом и социальном строе. И он хочет угадать, какую форму примут грядущие изменения"[40].
Мне кажется, английский писатель задолго до наступления войны увидел в "облике грядущего" прежде всего абсурдность всемирной бойни, в которой не победит никто. А в недалеком будущем, когда средства разрушения превысят некий критический порог, однозначно проиграют все.
Запомним эту мысль. Еще один зеленый побег "нового мышления", проросший из далекого доатомного прошлого. Как все-таки давно семя дало рост дереву…
Катастрофа тем временем надвигалась неудержимо. В самый канун ее генералы и политики еще тешили себя иллюзиями "вариантностного" исхода затеянной ими кровавой игры по перекройке мира. Плелись дипломатические интриги, множились взаимные уверения и одновременные подстрекательства, создавались и распадались коалиции и военные союзы. Казалось, сам затяжной характер этих игр "на грани" – надежный гарант того, что они будут продолжаться без конца.
"Горючего материала за последнее время накопилось достаточно, и он все растет… – отмечал В. И. Ленин в 1908 году. – Между тем при сети нынешних явных и тайных договоров, соглашений и т. д. достаточно незначительного щелчка какой-нибудь "державе", чтобы "из искры возгорелось пламя""[41].
Литераторы тоже не были все, как один, близоруки. Более чем за десятилетие до наступления войны писатель, казалось бы бесконечно далекий от каких бы то ни было фантазий, пометил для себя в записной книжке: «Нерабочие, так называемые правящие классы не могут оставаться долго без войны. Без войны они скучают, праздность утомляет, раздражает их, они не знают, для чего живут, едят друг друга… Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех»[42]. Это наблюдение я вычитал у Антона Павловича Чехова… Но уж кто подавно не обольщался, так это писатели-фантасты. Достаточно бросить взгляд на обложки книг той поры: «Человеческая бойня», «На пороге всемирной катастрофы», «Перед концом»… чтобы ощутить царившее настроение.
О неизбежности войны с одинаковой настойчивостью предупреждают авторы из Англии и Франции, Германии и США. А в библиографиях русской литературы обнаружена ссылка на вышедшее в Петрограде сочинение некоего И. Де-Рока (скорее всего, псевдоним) "Гроза мира". Очередная история изобретателя, на сей раз английского, создавшего новое взрывчатое вещество "радиотит"; его готовятся применять в ожидаемой воине с Германией. Дата выхода книги – 1914 год…
Тем летом, 28 июня, бомба, а затем выстрелы из револьвера молодого сербского националиста Гавриила Принципа поставили в Сараево точку. Закончилась смертоносная игра на грани войны, игра, которую многие надеялись тянуть вечно.
Первой реакцией было даже не замешательство. Наоборот, все подозрительно оперативно начали указывать друг на друга пальцем: это ты начал! «Социалисты!» (военный губернатор Боснии и Герцеговины). «Жиды!» (черносотенная газета «Русское знамя»). «Русские!» (английская «Дейли кроникл»)… Но, разумеется, кто бы ни начал войну, она сразу всем воюющим государствам оказалась кстати.
В. И. Ленин писал сразу же по горячим следам событий: "Европейская война, которую в течение десятилетий подготовляли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточноевропейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата – таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны"[43].
Своего рода "точка" была одновременно поставлена и в воображаемой войне, которую вели на страницах своих произведений писатели-фантасты.
Книги продолжали выходить и после выстрелов в Сараеве, например заметно оживилась американская литература, – назову романы Г. Мэзона "Победивший кайзера" (1915) и Т. Диксона "Падение нации" (1916), – но количество и качество их резко упало.
Как только заговорили пушки, умолкла муза научной фантастики. Она свое сказала.
Предсказанная фантастами война обрушила лавину вопросов – либо вообще не имевших прецедента, либо давно забытых, поставила, по словам В. И. Ленина, человечество "на край пропасти, гибели всей культуры, одичания"[44]. Впервые в истории человечество задумалось: так ли однозначно связан прогресс техники с прогрессом нравственным?
По изрытым траншеями и воронками полям Европы прошел чудовищный в своей иррациональности парад человеческого гения: танки, "Большие Берты", аэропланы и дирижабли, броненосцы-дредноуты, иприт и ток в колючей проволоке. Демонстрировали успехи физика, математика, химия, медицина, техника во всех видах. Техника правила свой бал, людские жизни шли в расчет только как топливо для непрерывно разгоравшейся топки мировой войны, которая стала "катастрофой человеческой личности. Массовое индустриальное убийство, тогда еще не ведомое никому, дало повод власть имущим уничтожать многомиллионные массы также и морально, и с социальной точки зрения, постоянно указывая, что отныне они лишь придаток всемогущей техники, которая топчет их и разрывает в клочья, оставляя им одно право – героически погибать за императора, короля, царя или за кого-то еще"[45].
Ошеломляли и результаты войны. О каких «блистательных победах», «стратегических замыслах» и «достигнутых политических успехах» можно было говорить, обозревая растерзанную, обескровленную, отчаявшуюся Европу? За четыре года три месяца и девять дней в войну оказались втянуты 38 государств на всех континентах. Было уничтожено и искалечено 22 миллиона мужчин; столько тогда не набралось бы в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, вместе взятых…
И за что они гибли! Снова цифры: во время третьего сражения при Ипре артиллерия союзников выпустила по противнику около миллиона (!) снарядов, обеспечив продвижение вперед со скоростью… улитки: 4 метра в час. Буквально каждый шаг солдата в атаке обходился в миллионы рублей золотом. И это «военные действия», «стратегия» и «тактика»?
"Я много раз читал, часто сам рассказывал истории о войне и сражениях, – вспоминал Марк Блок. – Знал ли я действительно – в полном смысле слова "знать", – знал ли я нутром это жгучее отвращение, прежде чем сам его испытал, прежде чем узнал, что означает для армии окружение, а для народа – поражение?"[46]
Правильнее было бы говорить о временном помешательстве человечества, давшего себя втянуть в это коллективное самоубийство. И хотя время повсеместного распространения нового мышления еще не наступило, мы можем утверждать: в результате первой мировой войны общественная мысль заработала в требуемом направлении.
"Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры"[47]… – констатировал В. И. Ленин в «Положении и задачах Социалистического Интернационала» (1914). И предрекал, что эта война, «если не будет ряда успешных революций»[48], может оказаться не последней.
…Как развивались события дальше, хорошо известно. В ночь на 25 октября (по старому стилю) из Петрограда заявило о себе на весь мир новое общество, первым документом которого стал Декрет о мире.
Он оказался, пожалуй, самым непредсказуемым и просто катастрофическим результатом для империалистических стратегов, "посеявших ветер". Война, доведенная ими до какого-то логического предела, в своем же горниле выковала из мечей орала.
Первому шагу Советского правительства поначалу мало кто поверил, а многие не захотели, смертельно боялись поверить. Не прошло и суток, а американская газета мрачно сетовала: "Сегодняшние новости из Петрограда являются самыми печальными. Большевики во главе с Лениным захватили власть в столице… Это новая революция. Самым серьезным аспектом положения является то, что новая власть в России провозглашает "немедленный справедливый мир"[49].
Сколько потом клеветали на этот первый в истории человеческой цивилизации государственный Закон о мире, называя его то "тактическим отступлением" молодой Советской власти, то "ширмой для советского экспансионизма". Но только что процитированное первое, в целом еще непосредственно-эмоциональное признание буржуазной прессы говорит многое.
С самого начала – испугались, будто током поразил их клочок бумаги, отпрянули от него, как от какого-то нового «сверхоружия».
В каком-то смысле это и было сверхоружие. Декрет о мире объявлял новую войну. Длящуюся почти три четверти века, последнюю затяжную войну в истории: войну против войны.