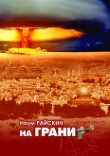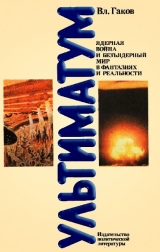
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Уже в 1946 году вышел сборник статей "Один мир или никакого" под редакцией Декстера Мастерса и Кэтрин Уэй. Книга с подзаголовком "Доклад общественности о том, что из себя представляет атомная бомба" оказала огромное влияние на массового читателя: под одной обложкой были собраны высказывания людей, безусловно знающих, о чем говорили. Статьи, воззвания, научные исследования и, между прочим… научно фантастический сценарий будущей атомной бомбардировки Манхэттена! Правда, сочинил его не профессиональный писатель-фантаст, а выдающийся физик, будущий нобелевский лауреат Филипп Моррисон – непосредственный участник «Манхэттенского проекта» и один из первых инспекторов, прибывших в Хиросиму вскоре после атомной бомбардировки.
Наверное, не абстрактной игрой ума выдающегося физика можно объяснить этот странный экскурс в научную фантастику. Как же быстро прозрели Франкенштейны XX века!
И еще штрихи к теме "ученые и научная фантастика".
В конце 40-х годов трое школьников-одноклассников из нью-йоркского района Бронкс начали выпускать любительский журнал научной фантастики (так называемый "фэнзин"). Само по себе событие рядовое – подобную издательскую самодеятельность среди американских любителей фантастики никогда не рассматривали как нечто из ряда вон выходящее. Однако в данном случае уникально "трио" "редакторов": Джеральд Фейнберг, Шелдон Глэшоу и Стивен Вайнберг. Два последних стали лауреатами Нобелевской премии, да и Фейнберг, вероятно, входит в десятку виднейших физиков-теоретиков нашего времени![63]
Другой будущий ученый (он был постарше и в то время уже занимался самостоятельной научной работой) не только истово читал научную фантастику, но и пробовал писать сам. И быстро сообразил, что именно – с точки зрения любимой им литературы – произошло 6 августа 1945 года.
"Итак, была взорвана атомная бомба, – писал он четверть века спустя, – и неожиданно это событие сделало научную фантастику респектабельной. Впервые фантасты предстали пред всем миром не как малочисленная группка чокнутых фанатиков, наоборот, мы сразу ощутили себя в положении кассандр, которым мир отныне внимал с почтительным благоговением. Но право же, я бы мечтал остаток своих дней провести с клеймом "чокнутого" вместо того, чтобы завоевывать нынешнее признание такой ценой – нового дамоклова меча, занесенного над человечеством"[64].
Книга, в предисловии к которой это написано, называется "Опус 100". Ее автор Айзек Азимов не нуждается, кажется, в подробных рекомендациях.
Досье по теме «Атомные часы»:
АЙЗЕК АЗИМОВ
Род. в 1920 г.
Выдающийся американский писатель-фантаст и популяризатор науки, автор более 300 книг: "Я, робот" (1951), "Конец Вечности" (1955), трилогии "Основание" (1951–1953) и др. Неоднократно награждался высшими премиями в жанре научной фантастики. Выходец из России (в США с 1923 г.). Окончил Колумбийский университет, до 1958 г. занимался активной научной деятельностью, был профессором биохимии Бостонского университета.
…До середины марта 1988 года Айзек Азимов оставался для меня живой легендой. Какая-то непостижимая фантастическая «литературная машина» работала, по слухам, дни и ночи напролет в Нью-Йорке, исправно выдавая добротную продукцию на протяжении почти полувека. Сотни книг, иногда отличных, порой средних, но всегда надежных во всем, что касалось их научного содержания, фантастических и детективных, по физике, химии, биологии, истории, даже шекспиро– и библиеведение! А еще – сотни собранных им антологий фантастики, тематических и мемориальных, посвященных милому его сердцу «золотому времени», когда и он, и фантастика были молоды и дерзки.
Словом, в глубине души я все-таки сомневался в существовании этого человека, о котором говорили, что он не покидает своей нью-йоркской "берлоги", не любит летать, не доверяет литературным агентам и сам ведет свои дела. Когда же счастливый случай свел нас, я наконец убедился в правдивости слухов об Азимове.
Например, об его активной общественной деятельности. Когда он находит время и на нее, не могу взять в толк!
А она не прекращается и сегодня, несмотря на приближающееся семидесятилетие писателя. Несколько лет назад его избрали президентом Ассоциации американских гуманистов. Члены ее верят в то, что "люди способны улучшить условия своего существования, если будут прилагать ко всем своим начинаниям разум и мораль"[65]. Хочется думать, что среди многих наград, свидетельствующих об общественном признании деятельности Азимова, эта – самая значимая и дорогая для него. Он неоднократно выступал в печати и на телевидении против гонки вооружений, против программы «звездных войн», вообще против атмосферы подозрительности, которая разъедала отношения между нашими странами.
Но интереснее всего то, что в конце 40-х годов молодой ученый, оказывается, был включен в группу экспертов, которым поручили исследовать и оценить результаты атомных испытаний на полигоне в Бикини! Правда, на атолл Азимов не попал – его имя было вычеркнуто из списка. Как рассказал писатель, кому-то из офицеров службы безопасности пришло в голову покопаться в его личном деле, в результате чего обнаружились более чем подозрительные обстоятельства его появления в Америке. (Русский! И родной дядя, оказывается, жив и занимает высокий пост в Красной Армии!) "И атолл Бикини мне улыбнулся", – с видимым сожалением закончил Азимов.
В 1930 и 1953 годах на английском языке были изданы две книги, названные по случайному совпадению одинаково – "Конец света". Обе по жанру принадлежали к литературоведческому обзору. Но если автор первой Г. Деннис ни словом не обмолвился о ядерной войне как апокалипсической теме, то во второй книге, принадлежащей перу его коллеги К. Хэйра, этой теме посвящен целый раздел.
Первый отклик в литературе на атомную бомбардировку Хиросимы датирован совершенно точно. Отклик после события (ибо в фантастике, как мы убедились, встречаются и «отклики до»). Речь идет о рассказе молодого тогда писателя Теодора Старджона «6 августа 1945 года», появившемся в декабрьской книжке журнала «Эстаундинг» за тот же год. По странному стечению обстоятельств редактор Кэмпбелл посчитал пришедшую по почте рукопись письмом в редакцию, и текст Старджона увидел свет в постоянной колонке читательских отзывов.
В кратком "письме" содержится столько, что писателям-фантастам хватило бы не на один год. Достаточно уже ясно выраженного двойственного отношения к бомбе: поздравление писателям-фантастам в связи с блестящим пророчеством и вместе с тем – какие-то недобрые предчувствия… «Человек знает отныне, – писал Старджон, – человек узнал это 6 августа 1945 года, что он один настолько велик, что может убить себя или жить вечно»[66]. Не случайно один из лучших рассказов раннего Старджона – «Гром и розы» (1947) и в историю атомной фантастики вошел как своего рода классика.
Справедливости ради нужно сказать, что первое время после взрывов в Хиросиме и Нагасаки широкие массы читателей не могли отчетливо представить себе масштабы свершившегося. Тем более задуматься о последствиях. Даже упоминаемую в прессе разрушительную мощь атомного оружия многие рассматривали как пропагандистскую "утку"; что до фантазий писателей, то к ним читатель относился как к кошмарным фантазиям, не более[67].
Ранняя "постхиросимская" фантастика об атомной войне сейчас хорошо изучена специалистами. В монографиях, статьях и диссертациях детально описаны все рассказы, беллетризованные очерки и даже стихи [*****]*****
Не прошло и двух недель с момента атомного взрыва над Хиросимой, а в газете «Чикаго дефендер» (от 18 августа) уже было напечатано стихотворение крупнейшего негритянского поэта США Ленгстона Хьюза «Простак и атомная война»!
[Закрыть], вышедшие в 40-е годы[68]. Среди причин, вызвавших рост фантастики на атомную тему – теперь бы ей, казалось, и уступить место реалистической прозе, – все авторы называют одну: «холодная война».
В ноябрьском номере журнала "Лайф" за 1945 год читателей ждал сюрприз в виде девятистраничного "фоторепортажа", рассказывающего о ядерной атаке на США. Противоракеты (!), стартовые шахты, Нью-Йорк в развалинах… Комментировал "снимки" военный специалист генерал Генри Арнольд, заверивший сограждан, что Америка все равно победит, хотя и потеряет около 40 миллионов убитыми. А секретарь по военно-морским делам США Кеннет Мэтьюз, словно не чувствуя иронии в своих словах, в речи от 26 августа 1950 года высказался в том духе, что "развязывание военной агрессии снискало бы нам славный и популярный титул – мы стали бы первыми агрессорами ради мира"[69].
Как в такой обстановке не активизироваться писателям-фантастам!
В 1949 году в декабрьском номере "Журнала Американского легиона" был опубликован рассказ Роберта Хайнлайна "Долгая вахта" об атомном заговоре на лунной базе. Согласитесь, что названный журнал – более чем странное место для публикации научной фантастики. Впрочем, некоторые факты биографии "самого американского из американских фантастов", как назвала Хайнлайна критика, проливают свет на загадочный источник…
Досье по теме «Атомные часы»:
РОБЕРТ ЭНСОН ХАЙНЛАЙН
1907–1988
Крупнейший американский писатель-фантаст, один из классиков современной американской фантастики. Образование получил в университетах штатов Миссури и Калифорния (физика); окончил также Военно-морскую академию в Аннаполисе. Служил в ВМС США, вышел в отставку по состоянию здоровья. Во время второй мировой войны работал инженером на экспериментальной станции техобслуживания морской авиации. Печататься начал с 1939 г. Автор десятков научно-фантастических романов: "Воины звездного корабля" (1959), "Чужой в чужой земле" (1960) и др. – и сборников рассказов; лауреат высших премий в жанре.
…Работа над этой книгой подходила к концу, когда в начале лета 1988 года я получил сразу от нескольких моих корреспондентов в Америке открытки с грустной вестью: во сне на восемьдесят втором году тихо ушел из жизни Роберт Хайнлайн. Мир американской фантастики погрузился в траур (в том же месяце умер и Клиффорд Саймак, но по значимости смерть Хайнлайна перечеркнула и эту потерю).
Он, действительно, остался в памяти как "самый американский". Это не преувеличение: одно из последних серьезных исследований творчества писателя – монография профессора Брюса Франклина так и называлась: "Роберт Хайнлайн: Америка в призме научной фантастики". И еще о многом говорит дружеский шарж из английского научно-фантастического журнала "Сайнс фикшн мансли": Хайнлайн изображен в позе римского цезаря, завернувшегося в звездно-полосатую тогу…
Творчество Хайнлайна многогранно и неровно; всякий однозначно осуждающий разбор его приведет к искажению образа писателя, первым получившего сравнительно недавно учрежденную в научной фантастике премию "Великий мастер". Но вот одну черту Хайнлайна-писателя – отличительную – я бы все-таки отметил.
В одном из его ранних рассказов – "Проект "Кошмар" (1953) действуют специальные отряды "сверхчеловеков", способных усилием мысли детонировать атомные заряды на расстоянии. Лучше б они их разряжали… А спустя шесть лет вышел роман "Воины звездного корабля" – и снова о "сверхчеловеках"! – вызвавший восторг читателей (присудивших ему премию как лучшему роману года) и одновременно лавину упреков.
Писатель сам дал повод к этому. В романе отчетливо слышен отдающий сталью призыв к "сильной личности" (то есть человеку, который прошел армейскую муштру, не привык рассуждать, зато впитал в кровь с молоком матери "великие американские идеалы"): решительно забрать власть из рук рефлексирующих интеллигентов!
Мысль эту Хайнлайн сформулировал еще в романах 40-х годов "Шестая колонна" и "Космический кадет". А с выходом в свет "Воинов звездного корабля", как бесстрастно сообщает энциклопедия научной фантастики, "творчество Хайнлайна вступило в новую фазу… Этот жестокий роман о межзвездной войне завоевал премию "Хьюго" в 1960 году, по одновременно создал автору репутацию милитариста, даже фашиста". Редакторы энциклопедии, правда, тут же уточняют: "Природа политических взглядов Хайнлайна представляется достаточно ясной. Он не столько фашист, сколько анархист правого толка, т. н. "либертарианец", приверженец идей социал-дарвинизма"[70]. А умеренно консервативный американский журнал «Мир и я» в спецномере, частично посвященном научной фантастике, пытается окончательно реабилитировать роман Хайнлайна, называя его "демократической утопией, иначе говоря, описанием общественного устройства, в котором отказались от принципа всеобщего равенства, а право голоса нужно завоевывать двадцатью годами общественной деятельности (курсив мой. – Вл. Г.). Автор сконцентрировал внимание только на одном аспекте – воинской службе, отчего вызвал целую бурю возражений. Его немедленно обозвали фашистом, реакционером, милитаристом и всеми прочими дурными словами, которые обычно валятся на голову писателя консервативного толка" [71].
Я не случайно подчеркнул эти слова: "общественная деятельность". Американский писатель сконцентрировал внимание не просто "на одном аспекте" – Хайнлайн безусловно считает его главным! Военная служба для него, сам воинский дух – это нечто имманентно присущее настоящему мужчине и долженствующее оставаться таковым присно и во веки веков. Ясно, что его «утопия» (позволю себе все же кавычки) – не для интеллигентов. И вообще, всем слабым, нерешительным, мятущимся в ней не место…
Давайте вспомним прочитанные в русских переводах книги американских фантастов того периода. Критики назвали 50-е годы "десятилетием социальной ответственности" в истории американской научной фантастики; в это время свои лучшие, гуманистические книги создали Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак, Роберт Шекли, Фредерик Пол… По-разному они подходили к вопросам войны и мира, но никто не забирал так круто вправо, как Хайнлайн. К счастью, его гимн космосу-казарме прозвучал как соло на трубе или военном барабане. Подхватить партию желающих не нашлось.
В последних книгах Хайнлайна – а писатель не прекращал активно работать до самого конца – боевая труба звучит куда тише. Однако его старые романы тоже не сбросишь со счетов; да и во всех современных дискуссиях о войне и мире это имя неизменно поставят в лагерь убежденных адвокатов, а не противников тотальной милитаризации общественной жизни.
Жаль, что не успел с ним поговорить… Только листая траурный выпуск журнала "Локус", полностью посвященный его памяти, я узнал любопытную деталь биографии писателя. Оказывается, весной 1961 года Роберт Хайнлайн с супругой совершили туристскую поездку в СССР. Все им понравилось, было очень интересно – но тут случился всем памятный инцидент с американским самолетом-шпионом У-2. Вирджиния Хайнлайн вспоминает, что они были доставлены в местное (в то время Хайнлайны находились в Казахстане) отделение милиции, "где провели несколько часов в тревожных размышлениях о Гулаге. Боб за одну ночь превратился в ярого консерватора, поклонника Голдуотера, защитника СОИ и активного сторонника выдвижения Джин Киркпатрик в президенты"[72].
Такая вот версия… Мне все-таки представляется сомнительным, чтобы прямо так "вдруг".
Достаточно перечитать "Воинов звездного корабля", вышедших за год до той поездки, чтобы почувствовать крепость незримых нитей, что все послевоенные годы связывали Роберта Хайнлайна с американской армией. Армейским духом он был буквально пропитан. А какую роль сыграл этот дух (присущий, конечно, не только Хайнлайну) в развитии американской фантастики, мы скоро узнаем.
А сейчас вернемся вновь в первое послевоенное десятилетие.
Среди авторов самых первых вышедших после Хиросимы произведений об атомной войне мы встретим знакомое имя: Лео Силард.
Его рассказ "Как я был осужден на процессе военных преступников" – своего рода горькое покаяние измученного, разуверившегося в своем деле человека. В каком еще состоянии мог быть написан – и кем? Физиком-атомщиком! – трагифарс, в котором русские после удачной бактериологической войны оккупируют Америку и устраивают показательный процесс над всеми учеными, запятыми в атомных исследованиях! Судят их, кстати, согласно процедуре, разработанной еще в Нюрнберге…
Позже, в 1961 году, университетский журнал в Чикаго, где продолжал до самой смерти работать Силард, опубликовал другой его рассказ – "Доклад о центральном вокзале". Он переведен на русский язык; напомню только, что его герои – инопланетяне с дотошностью архивариусов копаются в духовном "наследии" человечества, после которого сохранились только радиоактивные развалины общественных туалетов… Эпиграфом к рассказу могли бы послужить слова Макса Борна: "Несмотря на всю мою любовь к научной работе, результаты моих размышлений оказались угнетающими… Теперь мне представляется, что попытка природы создать на этой земле мыслящее животное вполне может кончиться ничем. Доводом в пользу такого заключения служит не только большая и всевозрастающая вероятность развязывания ядерной войны с уничтожением всей жизни на земле. Если даже такую катастрофу удастся предотвратить, ничего, кроме темного будущего, не ждет человечество. Другого будущего я увидеть не смог"[73].
Такие бытовали настроения. Ученых можно понять, однако ничего хорошего не обещали человечеству и книги писателей-фантастов. До взрыва бомбы над Хиросимой еще можно было предаваться "сослагательным" рассуждениям на тему атомной войны. Теперь же никаких спасительных "если" не оставалось. Для тех, кто профессией своей был постоянно обращен в будущее, атомная война стала фактом свершившимся. Она уже полыхала в душах.
И вопрос, следовательно, ставился так: а что потом?

Глава 6
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
«В это мгновение началась и окончилась война… Бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же моментально, как взмах серпа, окончилась война… Город поднялся на воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение – новый неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесток разорванного в клочья металла, в путанице обломков; с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы низвергнуться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез»[74].
Прежде чем прокомментировать только что приведенную цитату, предлагаю еще одну – из другой книги:
"…Там, за окном, за раскалившимися стенами лежала мертвая планета. Ее убили в самый разгар весны, когда на деревьях едва проклюнулись листочки и в норах только что появились крольчата. Теперь нигде не единого зверя. Ни одной птицы. Даже насекомых. Только сожженная земля. Жилища обратились в пепел. Лишь кое-где торчат обуглившиеся, искореженные колья, вчера еще бывшие деревьями. И на развалинах мира – горсточка людей, возможно оставленных в живых в качестве подопытных морских свинок, необходимых для какого-то гигантского эксперимента. Незавидная доля. В этой всемирной гигантской мертвецкой осталось всего несколько работающих легких, перегоняющих воздух. Несколько живых сердец, перегоняющих кровь. Несколько мыслящих голов. Мыслящих во имя чего?.."[75]
Почти двадцать лет разделяют книги. Обе хорошо знакомы нашему читателю – это, соответственно, "451° по Фаренгейту" Рэя Брэдбери и "Мальвиль" Робера Мерля. Первый роман вышел в 1953 году, а второй – в 1972-м. Войны человечество счастливо избежало, но тревога остается – и ее эстафетная палочка по-прежнему в руках фантастов. Все вроде бы без изменений… Однако изменения есть. Опасность, о которой давным-давно возвещали писатели, перестала быть сферой их узкопрофессиональных интересов.
Чтобы почувствовать сдвиг в представлениях, достаточно вернуться к предыдущим главам, к цитатам из "Освобожденного мира" Уэллса. Помните картины атомной бомбардировки: клубы огня, "огненный крот"?
Удивительная перекличка времен: Уэллс – Брэдбери – Мерль. 1914–1953 – 1972. Уэллс дал волю фантазии, а вот Брэдбери наверняка были доступны документальные материалы, описания очевидцев трагедии Хиросимы и Нагасаки. Спустя еще два десятилетия фантазия Робера Мерля, вооруженная витавшими тогда в воздухе идеями, изобразила нечто недоступное воображению предшественников: "чистое" оружие.
И что знаменательно. Рэя Брэдбери пугает образ города, поднявшегося на воздух; Мерль сочиняет реквием по целой планете, убитой в разгар весны.
Образ "следующего дня", пейзажа после ядерной битвы, как и само понимание, что никакой такой битвы не будет, а произойдет лишь общепланетная бойня, родились не вдруг, не в чьем-то одном гениальном мозгу. Подобные страхи вообще чаще всего произрастают, накапливаются, зреют в подсознании, чтобы потом мгновенно овладеть нами, бросив в липкий холодный пот…
Изменение шкалы образов, относящихся к ядерной войне и ее последствиям, совершалось постепенно. Иногда фантазия художников шла параллельно общественной мысли – господствовавшим представлениям ученых, политиков, военных; но случалось, что и блуждала по каким-то своим, не ведомым никому катакомбам сознания.
Проследить ее маршруты особенно интересно сейчас, когда мы хотя бы в общих чертах можем сказать, как будет развиваться тот или иной возможный вариант "ядерной зимы". Ретроспектива атомной фантастики представляет интерес не только академический, в беспрецедентном мозговом штурме писателей-фантастов (сравнить его можно только с фантазиями космическими) и сегодня отыщется немало поучительного.
Конечно, большинство авторов ошибалось – в деталях, в сроках, в вопросах принципиальных. Теперь это абсолютно ясно. Но предрассудки и заблуждения, обильно произраставшие и в среде "впередсмотрящих", можно извинить в сравнении с близорукостью других – экспертов, военных.
Вот что пишет о последних Д. М. Проэктор:
"История большинства буржуазных военных доктрин в XX столетии достойна удивления… Оказалось, что вся милитаристская мудрость не стоила и ломаного гроша. Что первосвященники оказались безнадежно отставшими не только в понимании социальных движущих сил войны, но и изменений в самом военном деле. Что все, что они делали по "законам военной науки", представляло собой шаманство. Что вся их слава оказалась дутой, тем же бессовестным обманом, что и волшебства Мерлина во времена короля Артура… Несмотря на очень большое разнообразие буржуазных военных доктрин, у них было нечто общее: большинство из них, за малым исключением, оказывались никуда не годными… Большинство империалистических доктрин XX века на поверку не стоило бумаги, на которой их писали. А после 1945 года война – ядерная – стала вообще немыслимой, поэтому и доктрины развязывания такой войны стали видением из потустороннего мира"[76].
Впрочем, оказывается, что общество периодически испытывает необходимость и в такой странной деятельности, как вызывание духов. Это не просто дань моде, обычно подобные социальные "сеансы" преследуют вполне определенную цель. Потребовались потусторонние "создания" и в Америке, как раз во времена маккартизма и атомной истерии. На сей раз на роль спиритов время назначило фантастов.
Они точно угадали едва зашифрованный социальный заказ. Поскольку обществу в целом явно недоставало информации (в 40 – 50-е годы все военные планы ведения атомной войны были строжайшим образом засекречены), только фантастам и оставалось писать об этом. Лишь они обладали фантазией, интуицией, наконец, тем особым, более никому не доступным знанием, которое развили их предшественники в прошлом веке.
И писали…
В одной из редакционных статей Хорас Голд, возглавлявший популярный журнал научной фантастики "Гэлакси", пеняет на авторов – и за что! "Свыше 90 % предлагавшихся в журнал рассказов, – пишет он, – это уже всем приевшаяся атомная, водородная и бактериологическая война, послеатомный мир, возврат к варварству, дети-мутанты, которых убивают за то, что у них только по десять пальцев на руках и ногах – вместо двенадцати… Послушайте, братцы, так же нельзя! До конца света еще далеко"[77].
Самое любопытное, однако, дата: январь 1952 года. Продолжая наше наблюдение за циферблатом атомных часов – они "тикают" и после взрыва, отсчитывая теперь уже секунды, минуты атомной эры, – можно подсчитать, что со "времени ноль" не прошло и десяти минут. А тема третьей, чаще всего последней мировой войны уже успела редакторам прискучить.
Голд имел в виду коммерческий вал американской фантастики. В этой стране налаженный издательский конвейер действительно способен быстро откликнуться на любой спрос и выдавать продукцию сразу "промышленными партиями". Причем в полноводном потоке обычно все перемешивается: паника, трезвый анализ, протест, циничный расчет на всегдашнюю любовь читателя к страшненькому и просто стихийная реакция на моду, которая, бог даст, продержится долго. Шум, ярость, страх, надежда, боль, недоумение…
Разумеется, те, кто громко протестовал и возмущался, вступали в определенное противоречие с официальной доктриной "накачки" атомных мускулов. Но книжный рынок исправно поглощал и этих, недовольных. Дело не в "плюрализме": чего не было в маккартистской Америке, это свободы мнений! Причина в другом. Вал, заглушавший голоса отдельных "прогрессистов", сам по себе оказался уж очень могуч.
Издательская "бетономешалка" быстро справилась с поначалу неудобной темой. Традиционный, вошедший в кровь и плоть нации оптимизм не смогли поколебать тревожные картины ядерного Апокалипсиса, их быстро переиначили, приспособили на вкус "среднечитающего" американца. Правда, выяснилось это позднее, когда атомная фантастика в США оказалась не чем иным, как развлекательной безделушкой.
Однако самое интересное в этом потоке – как раз камешки исключения. Вот только три ярких примера.
О военной доктрине ядерного устрашения, подземных противоатомных убежищах и многих других технических деталях, в то время широкой публике неизвестных, рассказал Мюррей Лейнстер в своем раннем романе "Убийство Соединенных Штатов Америки" (1946). В трагической и человечной "Тени над домом" (1950) канадская писательница Джудит Мерилл описала почти реалистическую историю жертв атомной бомбардировки, умирающих от лучевой болезни. А уже известный нам Филипп Уайли в романе «Завтра!» (1954) – тот вообще попытался представить себе то, что, кажется, просто не возьмется описать рука художника. «Время ноль», мгновение перехода в небытие людей, оказавшихся в эпицентре ядерного взрыва.
"Вот оно и явилось, – подумал он со странным чувством.
Длинный темный цилиндр с огненным оперением на хвосте, сверкнувший на зимнем небе. Куда-то он нацелился – у человека возникло такое ощущение; и в тот миг, когда светящееся тело возникло на горизонте, до пункта назначения было уже, вероятно, рукой подать. Нос падающего предмета был тонким, заостренным.
Затем, почти мгновенно, возник Свет.
Он был до того яркий, что Коули не смог бы ничего сказать о нем, кроме того, что он режет глаза и стремительно заполняет все вокруг. Коули мог бы рассказать, что именно чувствовал в это мгновение, только начал чувствовать: странное физическое ощущение отсутствия тяжести… он взлетает, его уносит куда-то далеко-далеко, и все тело будто пронизывают мариады шипов, а кожу обжигает нестерпимый жар…
Но он никому ничего не рассказал, ибо в тот момент его уже не существовало на свете"[78].
Эти одиночные выстрелы заглушила в самом начале 50-х годов грозная «канонада»: к теме атомной войны обратились подлинные художники. В особенности один – новичок, уже второй своей книгой снискавший мировую известность. Это был Рэй Брэдбери, автор вышедшего в 1950 году сборника «Марсианские хроники».
Досье по теме «Атомные часы»:
РЭЙ ДУГЛАС БРЭДБЕРИ
Род. в 1920 г.
Выдающийся американский писатель, классик современной фантастической литературы. Систематического образования не получил, рано посвятив себя литературной деятельности. Печатается с 1941 г. Автор романов "451° по Фаренгейту" (1953), "Вино из одуванчиков" (1957), "Чувствую, что Зло грядет" (1962), сотен рассказов, эссе, стихотворений, пьес, киносценариев.
Так обычно бывает: чем более знаменит писатель, тем лаконичнее, скуднее на подробности его досье. Разумеется, если не перечислять книги – они-то и составляют наиболее весомые «факты» подлинной писательской биографии…
В годы войны Рэя Брэдбери не призвали в армию из-за его близорукости. Физический недостаток с лихвой искупила зоркость социальная. Одним из первых он смог не только разглядеть ядерный гриб на горизонте, но и отлить свои эмоции – гнев, страх, страсть – в совершенную художественную форму.
Это важный момент. До Брэдбери многие предвидели – ему удалось все это впечатляюще показать. Растормошить соотечественников, а затем и читателей всего мира (книга только на английском языке вышла шестьюдесятью изданиями и переведена в сорока с лишним странах), заставить сердцем прочувствовать еще не свершившуюся трагедию как трагедию их собственную, уже пережитую. Атомная тема под пером Брэдбери превращалась в явление искусства.
Потому что не о далеком Марсе его книга. Скорее о Земле, населенной глупыми, невежественными эгоистами, нетерпимыми ко всякому проявлению неординарности. И в конце концов погубившими свою планету.
Те из них, кто не мог дальше готовить это убийство планеты-матери, бросили все и подались на Марс: "Прилетали, потому что чего-то боялись и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого были свои причины. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города; прилетали, чтобы найти что-то или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий"[79].
Но, оказывается, бежали и от надвигавшейся войны: "Любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже, чем через два года на Земле разразится атомная мировая война…"[80]Знали о ней, страшились ее, она неотступно стояла перед мысленным взором людей, но, вместо того чтобы как-то ей противодействовать, предпочли сбежать. Только разве от себя убежишь?
Земля была беременна войной. Она неотвратимо вызревала в обществе, добровольно отдавшем себя на попечение машин. Комфорт был своеобразной платой – за отказ от поступка, от ответственности и необходимости думать. Но за комфорт пришлось заплатить еще дороже. И когда в финальных эпизодах "Хроник" колонисты на Марсе видят родную планету, расцвеченную атомным заревом, они с горечью понимают, что видят собственное детище. Большинство улетает обратно на Землю, скорее всего на верную гибель – но хоть так выполнить свой долг перед прахом тех, кого в свое время покинули…