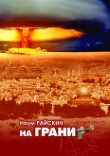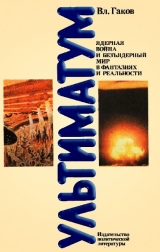
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Может быть, автор верил – хотел верить – в возможность создания "нового неба на новой земле". Не случайно в финале группа монахов на построенном с невероятным трудом звездолете отправляется искать счастья в космос. Мне кажется, Миллер искренне искал "вариант" духовного возрождения на атомном пепелище. Но многие детали романа, и в особенности его финал, убеждают лучше любой атеистической лекции: христианский бог не спасет.
…Через восемь лет американский писатель Деймон Найт опубликует коротенькую новеллу "Восславит ли прах Тебя?" (1967). В ней Господь в сопровождении ангелов отправляется на Землю, чтобы узнать, почему никто не восстал из могил по трубному гласу, возвестившему приход Страшного Суда. Земля обезлюдела, океаны испарились, и даже горы разрушились в результате ядерной катастрофы, вызванной Его неразумными чадами. Впрочем, кое-что они все-таки разумели, ибо оставили гигантскую надпись, "вырезанную" в горах и залитую расплавленным металлом их машин и приборов. И Бог прочел: "Мы были здесь. Где же был Ты?"
Но вернемся к Миллеру. В рассказе "Тупой официант" мелькнули отголоски темы, которую потом развивали и расцвечивали разными красками многие авторы. Речь идет о технике, которая после смерти человечества в атомном пожаре возьмет все в свои руки.
Еще раньше Брэдбери в рассказе "Будет ласковый дождь" описал бессмыслицу, идиотизм запрограммированных действий в отсутствие и "программистов", и какой бы то ни было цели подобных операций. О том же пишет и Миллер (можно добавить «Летучего голландца» Уорда Мура)…
Но в отдельных случаях фантазия авторов шла дальше простой констатации ирреальности происходящего.
…Два военных суперкомпьютера, построенные враждующими странами, тайно "сговариваются" и уничтожают все человечество. За исключением случайно уцелевших одной женщины и четырех мужчин, брошенных ими в подземелье, на свалку бесполезных машин (рассказ Харлана Эллисона «У меня пет губ, чтобы кричать», 1967) [******]******
Два года спустя Эллисон опубликовал рассказ «Феникс», в котором экспедиция из будущей Атлантиды (а не легендарной древней) разыскивает погибший город, о котором рассказывают, будто он недавно поднялся со дна морского. Оказывается, что это радиоактивные развалины Нью-Йорка…
[Закрыть].
Компьютер министерства обороны США, призванный избавлять население от "военного невроза" во время затяжной ядерной войны, влюбляется (!) в свой советский аналог, после чего вместе они уничтожают автоматизированные армии противников и восстанавливают мир на планете (рассказ Альберта Фриборга "Неосторожное чувство", 1954).
Наконец, нельзя не упомянуть целую серию произведений на эту тему Филиппа Дика, имя которого нам уже встречалось.
Досье по теме «Атомные часы»:
ФИЛИПП КЕНДРЕД ДИК
1928–1984
Ведущий американский писатель-фантаст. Систематического образования не получил, сменил много профессий, прежде чем обратился к литературной деятельности. Печататься начал с 1952 г., за тридцать лет опубликовал несколько десятков книг: "Человек в Высоком Замке" (1962), "Убик" (1969) и др., сотни рассказов. Лауреат высших премий в жанре научной фантастики.
В 50 – 60-е годы картины постатомного мира преследовали писателя неотступно.
Правительство бежит от войны на "переоборудованную" Луну, а на Земле продолжается бойня. Она идет без остановки даже после того, как все человечество истреблено, а драться продолжают военные роботы. Они бьются между собой, а также с мутировавшими крысами, которые научились строить "убежища" из пепла. Это рассказ "Вторая разновидность" (1953). В том же году вышел еще один, вероятно самый известный и наиболее часто упоминаемый, рассказ Дика – "Защитники" (впоследствии на его основе был написан роман "Предпоследняя правда"), в котором автор предлагает оптимистичный вариант того, что воспоследует, если люди не образумятся. Образумят их… роботы!
Долгие восемь лет ядерную войну вели на поверхности планеты автоматы, пока их хозяева отсиживались в подземных убежищах. И вот на поверхность послан исследовательский отряд, который обнаруживает невероятное: оказывается, роботы войну давно имитируют, чтобы люди сидели себе под землей и не вмешивались. Ибо у роботов есть цель. Они чистят, дезактивируют планету, возводят разрушенное – готовясь к тому дню, когда люди, преодолев наконец свои примитивные инстинкты саморазрушения, смогут слова выйти на поверхность, чтобы отныне жить в мире и согласии…
Чего больше в этом рассказе – веры или отчаяния? Не знаю, смотря как читать эту притчу. Сам факт, что произведений, подобных "Защитникам", в американской фантастике – единицы, говорит о многом. На фоне того, что пишется, рассказ Дика можно читать как произведение безусловно оптимистическое.
Если же честно… Стоит только серьезно задуматься о судьбе закопавшихся под землей людей, и к выводам приходишь совершенно иным. Никакой второй попытки не будет. А само выживание превратится в растянувшийся на долгие годы и оттого еще более мучительный конец.
Вдвойне мучительный. Потому что, умирая, люди будут вспоминать содеянное ими там, наверху, на поверхности Земли. У них хватит времени обо всем поразмыслить перед смертью.
В один год с "Кантатой на смерть Лейбовица" вышла книга, которую заметили и высоко оценили такие выдающиеся борцы за мир, как Лайнус Полинг и Бертран Рассел, – роман Мордекая Рошвалда "Уровень 7".
…На сей раз мир погиб просто по ошибке. В живых остался только персонал сверхсекретного подземного центра управления ядерными ракетами. Отсюда планировалось нанести удар возмездия. Все было рассчитано: при атомной атаке на "Уровне 7" успели бы нажать соответствующие кнопки… Дневник безымянного офицера (имен у жителей убежища нет, они заменены цифровыми индексами), последнего летописца атомной эры, опускающегося все ниже и ниже, с уровня на уровень, никто на поверхности никогда не прочтет. Те, кто составлял проект убежища, не предусмотрели лифтов и эскалаторов, идущих вверх… Пропитания, энергоресурсов у выживших – на добрые сотни лет; но вот солнца ни они, ни их дети никогда не увидят.
До боли ясный образ-символ всей постатомной фантастики. Раз нажав роковую кнопку, человечество никогда не выберется на поверхность.
И вздрогнул мир, и затих – распорот!
Ссутулясь от войн, приподнявши ворот,
Они уходили в подземный город,
Сами, наверно, не зная тогда,
Что не вернутся уже никогда [89], —
написал четверть века спустя западногерманский поэт и писатель Эрих Кёстнер.
…В массе своей постатомная фантастика представлена американскими авторами. Но не только в Соединенных Штатах были озабочены судьбой цивилизации, прошедшей через горнило ядерной войны. Может быть, эта проблема в первую очередь затрагивала, должна была затронуть, как раз писателей-неамериканцев. Одно дело престиж, амбиции "сверхдержавы" и совсем другое – ощущения безвинных заложников в ядерной игре.
Тем не менее подобных примеров почему-то немного. В библиографиях встречаются произведения шведа Свена Хольма, венгра Питера Жолдоша, итальянца Ливио Хораха; рассказы и отдельные книги японских фантастов. В своих розысках самых ранних, созданных еще в первое десятилетие после Хиросимы примеров такого рода я обнаружил только два романа французских авторов – Р. Б. Брюсса и Рене Баржавеля.
Но нашему читателю, без сомнения, известна одна такая книга писателя-неамериканца. Дебют в научной фантастике молодого тогда польского врача и начинающего литератора – роман "Астронавты" Станислава Лема.
Досье по теме «Атомные часы»:
СТАНИСЛАВ ЛЕМ
Род. в 1921 г.
Выдающийся польский писатель-фантаст, публицист, автор оригинальных философских работ; один из классиков современной научной фантастики. Окончил Львовский университет, работал врачом. Печататься начал с 1949 г. Дебютировал в фантастике в 1951 г. Автор романов "Солярис" (1961), "Непобедимый" (1964), "Возвращение со звезд" (1961) и др. Лауреат высших польских и европейских премий в области литературы.
Роман «Астронавты» (1955) не отнесешь к вершинам творчества Лема; в этой пробе пера лишь зоркий и искушенный глаз смог бы разглядеть будущего автора «Соляриса» и «Возвращения со звезд». Но в развитии темы, за которой мы следим, первая фантастическая книга польского писателя свой след прочертила.
В романе изображена глобальная ядерная катастрофа, гибель всего живого в масштабах планеты. Пусть это не Земля, а Венера, жители которой планировали осуществить ядерную бомбардировку своей небесной соседки, – все равно, земной цивилизации дано ясное и недвусмысленное предупреждение. Картины, которые застали на Венере члены международной экспедиции, только в общих чертах позволяли мысленно реконструировать события, которые произошли задолго до этого.
Еще один "пейзаж после битвы", рассказавший не о битве даже – о коллективном, нелепом и по-своему закономерном самоубийстве целого мира.
"Энергия, которая должна была обрушиться на Землю, встала над всеми городами этой планеты в виде атомных солнц – солнц, заблиставших не навеки, чтобы творить и улучшать жизнь, а лишь на мгновение, чтобы уничтожить ее. При температуре в миллион градусов кипели и растворялись их великолепные здания, пылали машины, лопались и плавились мачты радиоактивных излучателей, взрывались подземные трубы, по которым текла черная плазма. Так возникли картины, которые нам довелось увидеть через много десятков лет после катастрофы: развалины, пепелища, пустыни, леса сконденсированных кристаллов, реки ферментирующей плазмы в диких ущельях и этот Белый Шар, последний свидетель катастрофы, механизм которого, разладившийся, но все еще действующий, продолжает работать, бессмысленно и хаотически освобождая накопляемую энергию… и будет работать, пока в подземных резервуарах еще пульсируют запасы черной плазмы. Это может тянуться сотни лет…"[90]
При всем обилии постатомной фантастики, написанной на исходе первого десятилетия Хиросимы, книга Лема особенно впечатляет. Встречались в книгах его американских коллег картины пострашнее, но, пожалуй, только в его романе "атомная лавина" получила адекватное воплощение.
Сорвавшаяся от случайного крика лавина. Бикфордов шнур в пороховом погребе, зажженный от искры в проводке… Спустя почти тридцать пять лет мы в состоянии оцепить точность сравнения, но не будем забывать: Станислав Лем привел его в 1955 году, когда счет шел по старинке: у нас бомб столько-то, у противников – меньше (больше), соответственно в результате молниеносной ядерной атаки шансов победить у нас больше (меньше). В те годы подобная логика никому не представлялась пещерной, за исключением, может быть, отдельных авторов фантастических романов. Но кто их читает? Дети, подростки, отдельные фанатичные поклонники этого жанра…
Тем более ценным – и сегодня все еще редким – представляется трезвый и логичный взгляд польского писателя на проблему. Большинство его коллег все это время откровенно развлекали читателя приключениями или мелодрамой, разыгранными на постатомных подмостках.
Особенно заметна игра с читателем в последние годы. Если задуматься, то в этом не было ничего удивительного. "После того как предсказания ученых становились все более и более мрачными, "внутренние ландшафты" серьезной постъядерной фантастики являли собой вид все более бледный. И разве странно, что в ворота, перед которыми в задумчивости останавливались авторы научной фантастики, сломя голову и давясь кинулись авторы фэнтэзи"[91], – ставит диагноз новому поветрию обозреватель журнала «Локус».
Фэнтэзи на радиоактивном пепелище – это что-то новое. А почему бы и нет? Большинство авторов научной фантастики, по-прежнему остающейся в Америке популярной коммерческой литературой, массовым чтивом, в первую очередь озабоченно мыслью: как подать себя? Или продать. В этом термине на американский слух не содержится ничего предосудительного, скорее наоборот. А уж предотвращение угрозы ядерной войны – дело десятое…
И понеслись по страницам американской фантастики, по пустыням и развалинам городов, еще "чадящих" радиацией, бесчисленные орды варваров, вооруженных волшебными амулетами и мечами. Не уступают им в кровожадности и садизме вооруженные до зубов амазонки. Изо всех щелей повылезли волшебники, демоны, мутанты, какие-то "неопанки" или "неорокеры" на остатках уцелевшей колесной техники. Ядерные взрывы "стимулировали" появление драконов и уж попросту необъяснимых темных сил, века, если не тысячелетия, сидевших под запором. В мире, пережившем ядерную войну, вновь воцаряется магия, а орды неолуддитов громят остатки ненавистного прошлого, в том числе его памятники, технику, произведения искусства…
Конечно, дело вкуса, но читать подобное в большом количестве (а в последние годы еще и смотреть – достаточно привести пример популярного киносериала о Бешеном Максе!) мне представляется допустимым только с целями исследовательскими. Это не явление литературы, даже если серьезно изучать ее "массовую" составляющую, а феномен общественного сознания.
Авторы большинства позднейших произведений на редкость солидарны: на радиоактивном пепелище идеально "проходят" битвы и вооруженные схватки, "ядерные драки на мечах определенно в моде"[92].
В качестве примера подобной "фантастики на тему атомной войны" (как часто критиков и издателей у нас в стране вводят в заблуждение такие сверхлаконичные аннотации) я приведу серию книг американского автора Роберта Адамса "Всадники".
Первый роман серии – "Появление всадников" вышел в 1975 году. Поначалу темп "изготовления" книг не вызывал тревогу (все могло ограничиться и весьма популярной на американском рынке трилогией), однако позже автор вошел во вкус, и издательство "Сайнет" стало выпускать книги серии с бесперебойностью штампующего пресса.
Рассказывать о таких многосерийных опусах очень просто. Перипетии конкретных выпусков, во-первых, быстро забываются, а кроме того, похожи как капли воды; так что беглая аннотация "в целом" достаточно ясно даст представление о подобной продукции.
Итак, Адамс изображает мир 2250 года. Прошло шесть столетий после ядерной войны, длившейся всего два дня. Человечество вернулось к варварству, слегка "украшенному", правда, открывшимся даром телепатии (популярная идея). Но вот что поновее, так это телепатическая связь с братьями нашими меньшими – от ягуаров до лошадей.
С экспозицией покончено. Происходит же на сцене привычное, так сказать, большой джентльменский набор: кровопролитные битвы, переходящие в резню, изуверские пытки и изнасилования всех, кого ни попади: женщин, мужчин, детей обоего полу. Последние вообще, кажется, представляют для автора особый интерес; честно говоря, не читал я произведений, где бы столь планомерно, долго и, да простятся мне кощунственные слова, "с чувством" насиловали детей…
Научная фантастика! Боже правый, мир человеческого будущего… Надо ли говорить, что "атомную" тему автор приплел лишь из соображений актуальности.
Впрочем, он не остановился на достигнутом и в последних выпусках серии описал еще кровосмешение, каннибализм, скотоложество, некрофилию… В восьмом романе "Всадников" (вышел в 1981 году) Адамс вроде бы смилостивился над главным героем, убив его и избавив в будущем от новых подвигов на ниве половых извращений.
И такая продукция находит читателя. По крайней мере, серийный конвейер продолжает работать безостановочно: в 1988 году издательство порадовало читателей очередным, восемнадцатым по счету выпуском адамсовой эпопеи.
Что же, с одним из полюсов современной постатомной фантастики как будто все ясно. Но переведем свой взор на противоположную границу спектра; справедливости ради нужно указать и редкие примеры настоящей литературы о мире, пережившем ядерную войну. За последние полтора десятка лет атомный пепел стучал в сердца честных, талантливых художников, и они пытались сказать что-то повое по сравнению с предшественниками. Только вот что они могли предложить?
Предлагали – даже утопию, новую робинзонаду! Причем без пошлого "звездно-полосатого" оптимизма с его святым убеждением, что крепкие руки, природная смекалка, умение стрелять, а также спасительные остатки передовой американской технологии, мистически пощаженной войной, обеспечат привычное "о'кэй" и в постатомном мире.
Правда, французский писатель Робер Мерль (а о нем и пойдет сейчас речь) несколько облегчил участь своим "робинзонам", героям романа "Мальвиль" (1972). В его чистой литиевой бомбе, не оставляющей смертельного фона радиации, легко угадывается вполне реально разрабатывавшаяся тогда нейтронная…
Досье по теме «Атомные часы»:
РОБЕР МЕРЛЬ
Род. в 1908 г.
Ведущий французский прозаик. Окончил Парижский университет, защитил диссертацию по литературе. Во время второй мировой войны сражался в армии, пережил трагедию Дюнкерка, описанную впоследствии в романе "Уикэнд на берегу моря". Автор романов "Война – мое ремесло" (1948), "Мадрапур" (1976) и др. Член Французской коммунистической партии. Гонкуровская премия по литературе (1949), лауреат международных премий в жанре научной фантастики.
«Мальвиль» – произведение значительное во многих отношениях и разговора требует обстоятельного[93]. Но некоторые детали полезно напомнить.
Формально это классический "роман о выживании", пропетый – вполне в традициях Жюля Верна – гимн неистребимой человеческой способности выстоять, отстроить вновь по кирпичикам разрушенное (пусть даже атомным смерчем) здание цивилизации. Начав, можно сказать, с нуля… Герои "Таинственного острова" во главе с Сайрусом Смитом использовали знания, опыт, смекалку и природный оптимизм, поставив задачу не просто выжить, но и выжить достойно, сохранив человеческий облик. Мальвильской общине, возглавляемой Эмманюэлем Контом, предстоит то же самое.
Только на сей раз исходные условия принципиально иные.
Персонажей Жюля Верна поддерживала надежда на спасительный белый парус на горизонте. Они лишь временно оказались оторваны от человечества, но оно само жило, присутствовало незримо во всех их мыслях и поступках. И вопрос стоял: как сохранить в себе выработанные цивилизацией мораль, законы поведения, повседневный опыт, знания, как не растерять их до момента возвращения в общество, воспитавшее этих людей. Да если б у них хоть на мгновение погасла надежда на возвращение – что бы заставило их держаться за истинно человеческое в условиях абсолютно нечеловеческих!
Обитателям замка Мальвиль начинать в полном смысле слова с нуля. Никакого возвращения не будет, ибо "оборвалась за отсутствием объекта История; цивилизации, о которой она рассказывала, пришел конец"[94]. И вместе с ней – писатель не пытается как-то смягчить жестокую правду – и морали этой цивилизации, и ее культуре, и науке, и социальным институтам – словом, всему-всему, что было с ней связано. Что, подобно неприступной замковой твердыне, укрывшей мальвильцев от атомного пламени, защищало на протяжении веков и человека, его сознание, духовный мир; его человечность… Отныне все признано недействительным, все отменено, превратилось в пустой звук, в фантом – кроме горстки людей, представляющей теперь население Земли.
Оптимизм Мерля кажется заразительным: веришь, что население маленькой общины сохранится и умножится. Только сможет ли опять стать человечеством? Целый мир придется возводить заново, не оглядываясь на прошлый опыт и подчиняя все заботы, идеи и действия единственной задаче – выжить. Выкарабкаться из ямы, куда завел этот проклятый «опыт», и оставить будущим поколениям какой-то новый, тот, что их – убережет.
Многое из того, что предлагает Мерль, вызовет активное неприятие, даже протест у определенной категории читателей – будь то новая сексуальная политика или новая же политика социальная, замешенная на католицизме. И в становящейся совершенно уж харизматической фигуре вождя – Эмманюэле Конте начинают проступать до боли знакомые черточки «отца и учителя», идущего буквально на все (в том числе наступающего на мораль) во имя «народа»… Не потому ли так скоропалительно, с точки зрения внутренней логики произведения, необоснованно убивает его в финале автор, что обоснования у него другие, не литературные? Он ведь помнит, к чему это не раз приводило в истории…
Двусмысленная утопия, если разобраться. И финал оставляет ощущение двойственное: "Теперь мы можем смотреть в будущее с надеждой. Если только к данным обстоятельствам применимо слово "надежда", – ставит свою последнюю точку в повествовании друг и соратник Конта, новый летописец Мальвиля, отметив знаменательное событие: мальвильцы заново открыли порох. Продержаться-то они продержатся, но останутся ли человечеством? Все тот же вопрос, на который нет ответа…
И смогут ли противостоять искушению – все попробовать заново: сначала с порохом, потом с иными изобретениями неуемного человеческого духа?
Эти вопросы автор только формально оставляет открытыми. Кажется, он хорошо знает, что ответить, но сохраняет внешне бесстрастную, объективистскую манеру изложения, призывая читателя самостоятельно прийти к ответам.
Кстати, идея с вторичным открытием пороха – не случайная оговорка французского романиста. Верят, что заново открытый атом вернет человечество в существовавший до ядерной войны "золотой век", и персонажи романа английского писателя Рассела Хобана "Гуляка Риддли" (1980). В этом блестящем литературном эксперименте – роман представляет собой фейерверк словесных находок и фольклорных аллегорий – герой совершает паломничество в Кентерберийское аббатство с целью обнаружить тщательно скрываемый или же безвозвратно утерянный секрет атомной энергии. И что произойдет, если он раздобудет искомое?
"С точки зрения литературной техники, – пишет в своей книге "Видения конца света" (1982) профессор-историк Уоррен Уэйгар, – "Гуляка Риддли" представляет собой одно из оригинальнейших и наиболее профессионально сделанных произведений современной литературы воображения. Но по содержанию книга не вносит решительно ничего нового. Просто наследует формулу романтизма: противопоставление утерянного Рая с его святой невинностью и незнанием – обреченной современности, вожделеющей по науке и власти"[95]. Правда, сами поиски в прошлом, показывающие растерянность и даже отчаяние ищущих, – это тоже по-своему содержательная информация о настроениях, бытующих сейчас, на пятом десятке лет атомной эры.
Все вернется на круги своя… Унылый, похожий на заклинание мотив звучит, как мы убедились, даже в произведениях безусловно талантливых, написанных неравнодушными людьми. Как в заколдованном лабиринте, бродят они по темным "закоулкам", не в силах ни самостоятельно выбраться на волю, ни, на худой конец, взорвать этот лабиринт к черту!
Хотя их блуждания все-таки приносят пользу. Можно не доверять политическому документу (политика!) или журналистскому репортажу (пресса!). Однако вредные иллюзии ненадолго застрянут в голове, если время от времени перечитывать книги, подобные романам Брэдбери, Миллера, Шюта, Мерля.
Из лабиринта, о котором речь, не выведет никакой мифический Персей – взрывать нужно лабиринт. Решать "атомную" проблему – без всякой приставки "пост", ибо никакого после не будет.
И в заключение – два слова еще об одной книге. Ищет ответов на вопросы, заданные Робером Мерлем, и героиня романа Бонды Макинтайр "Змей снов" (1978). Бродячей целительнице, врачующей с помощью особых "гипнотических" змей, нельзя поддаваться малодушию, постоянно искать какой-то выход призывает профессия, долг. Не задумываться, а просто ходить от поселения к поселению, раскинувшихся в радиоактивной бескрайней пустыне, и лечить, лечить, благо страждущих тысячи…
Благородный порыв – однако разум все ставит с ног на голову. Ибо что за смысл лечить отдельных выживших – скорее всего обреченных, когда лечить-то нужно было раньше и все общество целиком! Героине романа Макинтайр сочувствуешь, но выхода все равно не видно. Почему я завершаю рассказ этой книгой? Она напоминает об эмблеме международного движения врачей. Змея душит в кольцах бомбу… Справится ли та змея со своим и нашим врагом?
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

6 августа 1985 года в сороковой раз скорбно поплыл колокольный звон над площадью в Хиросиме, где установлен монумент погибшим.
Сорок лет – и менее пятидесяти минут высветил индикатор атомных часов, продолжавших отсчет и после взрыва. Если точно, то сорок восемь минут прошло – новой атомной эры. Чтобы сравнение было наглядным, вспомним обратный отсчет: за это же время до Хиросимы близилась к развязке русско-японская война, авиации не исполнилось и двух лет, а вершиной военной техники были отравляющие газы и ток в колючей проволоке…
И все сорок лет не гас огонь в лампадке, зажженный японским крестьянином Тацуно Ямамото от пламени атомного костра, в котором сгорел его дом вместе с родными. Ровный язычок пламени не только напоминает о погибших тогда, по и возвращает нас к положению нынешних хибакуся (так называют в Японии тех, кто носит атомное проклятие в своих костях, тканях, генах). "Кровоточащей раной человечества" назвал Хиросиму писатель Кэндзибуро Оэ: "На ее искромсанном теле прорастают два побега: надежда на возрождение человечества и угроза его полного гниения"[96].
Память о Хиросиме особого рода.
Можно сказать, взрыв достал всех нас – и живших тогда, и появившихся на свет позже. Даже те, кто ни разу в жизни не ступал на землю Японии, хранят в сознании образы с фотографий, из книг и фильмов. Скелет «атомного дома» на холме. Изящную строгую арку монумента в честь погибших. Бумажных журавликов, которых посылали в Хиросиму дети всего мира в надежде спасти девочку, умиравшую от лучевой болезни.
Звонит колокол, и ровно горит свеча-память. Но не все, оказывается, слышат и видят. Не хотят…
В стране, руководство которой осуществило варварское жертвоприношение 100 тысяч японцев, трагический "юбилей" Хиросимы был встречен подчеркнутым молчанием. Никаких комплексов, не разбередила душу больная память, и безмятежно дремала совесть. Никто из высших правительственных чинов – ладно бы извинился! – не высказал даже приторно-официального сожаления по поводу случившегося сорок лет назад.
Зато с голливудским размахом отпраздновали годовщину другого события – первого испытания атомной бомбы. Было множество юбилейных статей, банкетов, в пустыне Аламогордо к торжественной дате открыли музей, куда водили специальные экскурсии школьников…
В хоре славословий и звоне патриотических фанфар лишь очень тонкий слух настроился бы на тревожную короткую ноту: газета "Нью-Йорк таймс" словно нехотя процедила, что "спустя 24 дня после эксперимента под кодовым названием "Троица" две небольшие по нынешним понятиям примитивные атомные бомбы разрушили два японских города, унеся 106 тысяч человеческих жизней"[97]. И все.
Так отписались за Хиросиму, попутно еще почти вдвое занизив число жертв. А о том, что накануне памятной даты покончил с собой бывший штурман "летающей крепости" В-29 Пол Брегман, принимавший участие в атомной бомбардировке Нагасаки, большинство американских газет вообще не сочло нужным оповестить читателей даже абзацем.
Зато почти все крупнейшие печатные издания поместили слова отставного бригадного генерала ВВС шестидесятидевятилетнего Пола Тиббетса: "Хиросима? Если бы это надо было повторить, я снова предпринял бы полет… Могу подтвердить и сегодня, сорок лет спустя после того, как я сбросил бомбу: я нисколько не сожалею об этом. Воспоминания о том, что я сделал, не вызывают у меня никаких угрызений совести. У меня за все эти сорок лет не было ни одной бессонной ночи"[98].
Так что – совсем не заметили? В том-то и дело, что нет, не прошел бесследно мрачный «юбилей» и в США. Только уж очень странно и двусмысленно его отмечали.
На фоне официального молчания поражает беспрецедентная вспышка активности американских писателей-фантастов. Только за 1985 год опубликовано около трех десятков книг, посвященных атомной войне. И еще половину этого количества – в предыдущем, 1984-м. Много это или мало? Оценка зависит от учета всех факторов.
Читатель этой литературы приучен к другим "фантастическим" цифрам: ежегодно на книжный рынок США выбрасывается около полутора тысяч отдельных названий фантастики. Да и убедились мы уже, что тема далеко не нова. Все так. Но большинство книг, о которых ранее шла речь, создано два, три десятилетия назад. Тогда американская фантастика действительно испытывала тревогу за будущее человечества – и книги выходили яркие, страстные, бередящие душу. Тогда создавали свои лучшие вещи Брэдбери, Шют, Миллер.
Времена изменились. И сегодня те водопады американских научно-фантастических книг, что обрушиваются на читателей во многих странах мира, менее всего придет в голову ассоциировать с такими понятиями, как "гражданская ответственность" или "политическая активность". (Если и вспоминается, то активность иного рода – с очевидным креном вправо.)
Разумеется, постатомные сценарии пишутся и по сей день. Но в большинстве случаев как-то вяло, неинтересно, равнодушно "пугают" читателя нынешние авторы. Тем более заметен всплеск 1984–1985 годов.
Выходит, и американскую фантастику – как минимум, ту часть ее, о которой идет речь, – не миновал хиросимский синдром". Множество мелких деталей говорит за это, но достаточно одного веского доказательства – тех поистине героических усилий, которые были предприняты с целью скрыть его симптомы! В Вашингтоне, судя по всему, были настроены решительно; ни в коем случае нельзя было допустить повторения другого синдрома – вьетнамского.
Скрывали по-разному: холодным резонерством, вызывающе злой и даже агрессивной бравадой, развязным шутовством. Ядерную войну на все лады расхваливали и оправдывали, утешали радостной перспективой гарантированного выживания в ней, строили изощренные, по большей мере утопические проекты ее предотвращения. Ну и, наконец, масс-культура по старинным рецептам не преминула использовать атомные ландшафты как место действия авантюрного боевика, мелодрамы или фарса.
А проблема – острая, тревожная, болезненная – упрямо проступала сквозь частокол фраз и всевозможные словесные ухищрения. Как неотвратимо проявляется на фотопленке положенный в конверт со срезом дерева траурный (на темном негативе он выходит как раз светлым) круг, соответствующий годовому кольцу 1945-го.
Деревья планеты помнят Хиросиму.
Американская атомная фантастика 1984–1985 годов – это именно отступление от темы.
Темой нашего разговора была атомная война в научной фантастике. Мы проследили ее истоки, познакомились со всеми значительными авторами, отдавшими дань этой теме. А год сорокалетия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – это уже наше атомное настоящее, какая тут фантастика… Да и потом, почти все, что она могла сказать, она уже сказала.
Значительных произведений в "хиросимской серии" немного, да и большинство сюжетных ходов покажутся читателю удивительно знакомыми: в этой книге он о чем-то подобном уже читал. Верно, в массе своей произведения, о которых пойдет речь, откровенно эпигонские и по идеям неоригинальные. Но они интересны другим. Как урожай одного года – и столь обильный, они представляют любопытную иллюстрацию социальных нравов, царивших в годовщину Хиросимы в Америке.