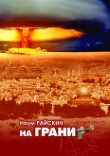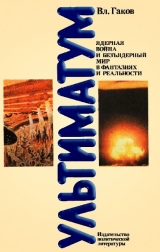
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Отвлечемся на миг от перипетий "атомной гонки" и обратим внимание на некоторые штрихи к портрету общественного деятеля, гуманиста, выдающегося "философа мира".
Еще во время марокканского кризиса 1911 года, спровоцированного германским милитаризмом, молодой физик – но уже в зените славы – крайне презрительно высказался в печати по поводу немецкой военщины. А спустя три года, когда, поддавшись шовинистическим настроениям, многие ведущие ученые Германии подписали документ, известный как «Манифест 93-х» (среди них В. Нернст, Ф. Хабер, В. Рентген, Ф. Ленард, Э. Гаккель, В. Освальд, М. Планк – цвет немецкой и мировой науки!), Альберт Эйнштейн снова пошел против волны. Он составил свое собственное «Воззвание к европейцам», в котором призвал ученых использовать свой авторитет для скорейшего прекращения войны.
На протяжении всех 20-х и 30-х годов он в водовороте общественной деятельности: участвует в работе различных "обществ" и "союзов", сам создает объединение борцов за мир, десятками подписывает различные воззвания…
До 1933 года это образец бескомпромиссного пацифиста, для которого естествен отказ вообще оправдывать участие в войне. Но, по свидетельствам его биографов, пацифистское мировоззрение Эйнштейна дало заметную трещину после прихода Гитлера к власти. Когда весной 1933 года бельгийские пацифисты обратились к Эйнштейну с вопросом, что им делать в случае нападения Гитлера на их родину, великий физик "разочаровал" их ответом: "В этом случае каждый, по мере своих сил, должен бороться за свободу своего отечества"[26].
Есть еще одно любопытное свидетельство.
В начале 30-х годов он публикует статью-размышление под названием "К вопросу о разоружении". В ней, очевидно, впервые промелькнула мысль, которая позже – пройдет война, упадут атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки – ляжет в основу знаменитого "Манифеста Эйнштейна – Рассела": "От нас самих зависит, найдем ли мы путь мира или будем продолжать идти по прежнему, недостойному нашей цивилизации пути грубой силы. Наша судьба будет такой, какую мы заслужили"[27].
Такова ретроспектива. Вернемся теперь к событиям 1939 года. Эйнштейн подписал письмо Рузвельту. Только 11 октября друг Эйнштейна крупный финансист Александр Сакс передал письмо президенту. Тот вначале не проникся содержанием письма, не убедили его и пояснения Сакса, но потом, видимо, суть схватил и заразился тревогой ученых. Так на историческое письмо Эйнштейна слева, в углу, легла историческая же резолюция президента: "Это требует действия!" Машина завертелась…
Интересно, что в тот же год, в апреле, на приобретавшем знаменитость "физтеховском" семинаре впервые, по-видимому, задумался о возможности военного применения цепной реакции еще один непосредственный участник событий, которых недолго осталось ждать. Это был тридцатишестилетний советский физик Игорь Курчатов…
Досье по теме «Атомные часы»:
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ
1902/03 – 1960
Выдающийся советский физик и организатор науки. Академик АН СССР (1943). Обнаружил ядерную изометрию. Открыл спонтанное деление ядер урана (1940). Руководил созданием первого советского циклотрона (1939), первого в Европе ядерного реактора (1946), первой в СССР атомной бомбы (1949), первых в мире термоядерных бомб (1953) и АЭС (1949). Основатель и первый директор Института атомной энергии (1943). Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), четырежды лауреат Государственной премии (1942, 1949, 1951, 1954), первый лауреат Ленинской премии (1957). Член Советского комитета защиты мира.
За две недели до этого семинара произошло событие: физики-антифашисты, эмигрировавшие в Америку, обратились к своим французским коллегам с призывом прекратить публикации по делению урана. Известно, что немецкий ученый Виктор Вайскопф послал в Париж телеграмму Жолио из ста слов, убеждая знаменитого физика прекратить исследования, так как Гитлер может употребить их открытия во зло.
Знал о телеграмме и Курчатов. Было от чего задуматься! Драма еще в будущем – почти каждый из творцов атомной физики в той или иной мере ощутит ее после Хиросимы, – но сомнения возникли. И судя по свидетельствам очевидцев, застряли в сознании Курчатова надолго…
Вот что пишет в своей книге "Творцы" (1979) советский писатель Сергей Александрович Снегов, которому довелось принимать участие в создании советской атомной бомбы:
"– Что-то мы недооцениваем или чего-то не знаем, – задумчиво сказал Курчатов. – Главная предпосылка цепи – появление вторичных нейтронов – обнаружена. Но в экспериментах Флерова и Русинова нет даже намека на цепь… Почему? Очередная загадка! И еще одно – взрывная реакция может быть использована в военных целях.
Возражения не развеяли тревоги. Жолио четыре года назад говорил, что взрывные превращения ядер могут уничтожить всю планету, если охватят большое количество элементов. Тогда это казалось фантастикой. А если это пророчество? Фашизм ведет мир к истребительной войне. Деление урана открыто в Берлине, не надо об этом забывать. Из Германии масса талантливых физиков бежала, но и многие остались. Кто даст гарантию, что все они сейчас не нацелены на создание ядерной взрывчатки?
…Курчатов всегда засыпал, чуть голова касалась подушки. В эту ночь он долго не мог уснуть. Тревожная беседа породила тревожные мысли и видения. Это не был кошмарный сон, это была бессонница, расцвеченная кошмарами"[28].
Уже в 50-е годы в одном из выступлений он скажет: "Нестерпима мысль, что может начаться атомная и водородная война…" [29]
Курчатов-то засомневался, а отечественная печать в 30-е годы вовсю успокаивала читателя оптимистическими сценариями будущей войны – даже с использованием новейшего оружия. Причем порой совершенно фантастического… Сегодня для нас это не новость, но все же приведу еще два примера. Они взяты из журнала «Вокруг света» за 1933 год и дают, на мой взгляд, достаточное представление об общей атмосфере тех лет.
"В прошлом году, – сообщает журнал, – американец Барлоу объявил, что он изобрел "лучи смерти". Так называются лучи, которые могут на расстоянии останавливать машины, взрывать пороховые погреба, зажигать здания, убивать людей. Впрочем, о них еще мало известно. Но зато известно точно заявление Барлоу. Барлоу сказал, что он не хочет, чтобы его изобретение послужило убийству людей. Он отдаст свои "лучи смерти" только той стране, которая действительно хочет мира. "Если начнется война," – сказал Барлоу, – я отдам мое изобретение СССР"[30].
Как в таких случаях пишется: "Журнал печатает и фантастику!.." Впрочем, наряду с подобными умилительными сказками в журнале публиковались и научно-популярные статьи, в которых авторы разъясняли читателю, что «на изобретение новых, более сильных взрывчатых веществ, по мнению химиков, рассчитывать нельзя. Но если бы даже открыли такие вещества, вряд ли пушки выдержали бы давление при взрыве»[31].
Полезно иногда вспоминать, о чем писали газеты и журналы. Когда мы говорим о принятии общественным сознанием той или иной научной концепции, пусть на память придут не только легендарные "физтеховские" семинары, но и подобные публикации в научно-популярных изданиях.
И еще один малоизвестный эпизод из истории отечественной физики.
В конце 1939 года ее общепризнанный "патриарх" Абрам Федорович Иоффе написал обзорную статью для "Вестника Академии наук". Очень интересной фразой начинается в статье академика раздел "Атомное ядро": "Этот передовой участок современной физики наиболее удален еще от практики сегодняшнего дня". А завершалась рукопись фразой, свидетельствующей о совсем иных мыслях прославленного физика: "В феврале 1939 года в неожиданной форме возродилась проблема использования внутриядерной энергии, до сих пор не преступавшая рамок фантастических романов"[32].
Это редкое упоминание научной фантастики в солидной академической статье не случайно. Время само превратилось в сюжет научно-фантастического романа, и читатели этого захватывающего произведения готовы были к любым сюрпризам.
Когда стрелки атомных часов подошли к границе последнего пятиминутного сектора, в американской прессе появились приметные статьи. Это были, видимо, последние ласточки предвидений на тему атомной бомбы.
Броские заголовки: "Наука обнаружила источник атомной энергии, не сравнимой ни с чем, доселе известным", "Потрясающая взрывчатая сила" – открыли номер газеты "Нью-Йорк таймс" от 5 мая 1940 года. В статье научного обозревателя Уильями Лоуренса расписывалась мощь гипотетической "урановой бомбы", причем автор особенно упирал на то, что и "Германия стремится к этому"[33]. Чтобы читатель не поддался панике, журналист уверенно предсказывал скорое появление подобной бомбы на вооружении великих держав.
В другой статье в газете "Сатердей ивнинг пост" от 7 сентября он же писал об атомной бомбе как о чем-то само собой разумеющемся. (Забегая вперед, скажу, что энтузиазм журналиста был очень скоро вознагражден по достоинству: он единственный из представителей его профессии был допущен на аэродром, где в бомбовый люк бомбардировщика Б-29 грузили странную, необычного вида бомбу, которую все ласково именовали "Малышом"…)
"В каком-то смысле, – пишет Пол Брайнс, – "Манхэттенский проект" захлопнул двери конюшни уже после того, как украли лошадь. Об этом прямо сказано в редакционной статье "Сатердей ивнинг пост" от 8 сентября 1945 года: оказывается, военное министерство всячески пыталось воспрепятствовать распространению того злополучного номера газеты 1940 года, включая "нажим" на публичные библиотеки с требованием не выдавать его на руки. Основные принципы расщепления атома и возможность создания урановой бомбы были общеизвестны, и цензура военного времени могла скрыть очень немногое из той информации, которая была доступна шпионам. Однако популярные статьи на эту тему отсутствовали, и, кажется, поглощенная злоключениями второй мировой войны публика успела забыть эти сенсационные предвоенные сообщения ученых.
Только на страницах научной фантастики не переставали бушевать страсти вокруг атомной бомбы"[34].
Истекла 55-я минута, и стрелке на циферблате оставалось пройти последние пять делений.
И тут все настолько переплелось и закрутилось в водовороте событий – фантастика, реальность, – что обстоятельный разбор событий потребует включения на наших часах еще одной шкалы. Секундной…

Глава 5
СЕКУНДЫ И ГОДЫ ХИРОСИМЫ
Когда объявили пятиминутную готовность, по календарю шел 1941 год.
Он был особенным. Не в истории "атомной проблемы" (начиная с конца 30-х годов каждый год был для нее особенным), а в истории нашей страны, в истории второй мировой войны. А значит, и во всемирной истории. Когда на жарком изломе его гитлеровские армии напали на Советский Союз, фашизм подписал себе смертный приговор, хотя исполнения его пришлось ждать четыре бесконечно длинных года и заплатить десятками миллионов жизней.
Приговор народы вынесли и веками культивировавшейся политике агрессии, наглого разбоя. Размышляя над ценой, которую пришлось заплатить во вторую мировую войну за эту, с тех пор уже очевидно немыслимую политику, люди приходили к первым зачаткам того, что спустя почти полвека назовут новым политическим мышлением.
Впрочем, и в истории создания атомной бомбы 1941 год оказался временем этапным.
Случилось так, что решение американцев приступить к работам по созданию атомного оружия было принято в день начала контрнаступления советских войск под Москвой – 6 декабря. Письмо Эйнштейна подтолкнуло высшие эшелоны власти к мысли о необходимости развернуть небывалые по тем временам практические работы.
Через сутки (это по календарю, а с учетом разницы во времени – почти в тот же день!) японцы напали на крупнейшую американскую военно-морскую базу на Тихом океане – Пёрл-Харбор. Был уничтожен почти весь флот, стоявший на рейде, и Соединенным Штатам не оставалось ничего иного, как официально вступить в войну.
Впоследствии не раз утверждалось, что решение создать атомную бомбу если и не было прямым актом мести за это крупнейшее военное поражение США, то, во всяком случае, продиктовано этим чувством. Мы еще поговорим об этом, но обратите внимание на даты! В тот день, когда атомная бомба официально была "прописана" в планах американского военного ведомства, ни о каком нападении японцев там, очевидно, не подозревали. Бомбу собирались делать с более далеким расчетом – не думаю, чтобы многие в ту пору помышляли о нем.
Некоторые причастные к этой истории люди, впрочем, догадывались и даже хладнокровно высчитывали эти грядущие, пока еще гипотетические цели. «Наша стратегия в области охраны тайны, – делился своими воспоминаниями в книге „Теперь об этом можно рассказывать“, шеф проекта генерал Лесли Гровс, – очень скоро определилась. Она сводилась к трем основным задачам: предотвратить попадание к немцам любых сведений о нашей программе; сделать все возможное для того, чтобы применение бомбы в войне было полностью неожиданным для противника; и, насколько это возможно, сохранить в тайне от русских наши открытия и детали наших проектов и заводов»[35].
Такая вот трогательная, ничего не скажешь, забота о союзниках…
Но от кого, несмотря на все усилия Гровса и его аппарата, так и не удалось уберечь секреты, так это от писателей-фантастов. Те, правда, и не подозревали, что в своих произведениях выдают действительные военные секреты – мы уже знаем, что в научной фантастике перспективы атомного оружия обсуждались давно и ничего таинственного не содержали.
"В следующем месяце Энсон Макдональд представит на ваш суд свой новый рассказ "Неудовлетворительное решение", – сообщал читателям Джон Кэмпбелл в редакционной статье (апрельский номер "Эстаундинг" за 1941 год). – Это рассказ о новом несокрушимом оружии. Автор полагает, что оно скоро появится на вооружении, и даже убежден, что это случится в ближайшие три года. Лично я более всего опасаюсь, как бы он не оказался абсолютно точным в своем прогнозе"[36].
Кажется, где-то нам уже встречалось это название… Совершенно верно, но автором почему-то был назван Хайнлайн! Дело в том, что "Энсон Макдональд" – это один из ранних псевдонимов Роберта Хайнлайна. Мы еще остановимся подробнее на этой фигуре, а вот о "Неудовлетворительном решении" пришел черед сказать сейчас.
Напомню: на атомную бомбу в рассказе нет и намека, хотя, по сути, произведение посвящено как раз атомному оружию: фантазия автора остановилась на управляемом облаке радиоактивной пыли, которое американцы насылают на Германию. Среди прочих пионерских предвидений начинающего фантаста бросается в глаза и такое. Он убежден, что сохранить монополию на использование нового оружия вряд ли удастся, и новое оружие предполагает и введение нового мирового порядка.
Мысль здравая, но каким видит американский писатель этот "новый порядок"?
То, что предлагал Хайнлайн, значительно позже, в первые годы атомной эры, получит название "плана Баруха". Иными словами, это диктат с помощью ядерной монополии, принудительное разоружение других стран, лишенных "атомных" аргументов в споре с Соединенными Штатами. В рассказе американский президент распространяет обращение к нациям, в котором, в частности, говорится: "Соединенные Штаты сейчас в состоянии победить любую державу, или группу стран, в один миг. Поэтому мы объявляем войну вне закона и требуем немедленного разоружения"[37].
Словно окрик из какого-нибудь вестерна: "Парни, опустите оружие, вы у нас на мушке!" Как видно, рецепт установления "мира без оружия", впервые описанный в произведениях Ньюкома или Трэйна – Вуда, не был забыт.
Есть в рассказе Хайнлайна еще одна приметная деталь. К несчастью – для Америки, разумеется, – в неком государстве, весьма прозрачно зашифрованном как "Европейский Союз", ученые тоже нашли секрет нового оружия. Конец вспыхнувшей тотчас же Четырехдневной войны кладет некий решительный полковник, еще один счастливый обладатель "атомной тайны" – с ее помощью он устанавливает наконец прочный мир. Ценой железной диктатуры… Это и есть абсолютно неудовлетворительное "решение" по Хайнлайну.
Чего только не нафантазировали писатели-фантасты в 1941 году!
2 минуты до взрыва (1943 год). К этому моменту наука выходит на финишную прямую в решении атомной проблемы. Окончательно распределились и места на финише трех, пожалуй, главных участников гонки – Энрико Ферми, Роберта Оппенгеймера и Эдварда Теллера.
"Оба они, Оппенгеймер и Теллер, – вспоминал Макс Борн, – а также Ферми и другие участники этой работы, включая нескольких русских физиков, были когда-то моими сотрудниками по Геттингену задолго до этих событий, еще в те времена, когда существовала чистая наука… Приятно сознавать, что у тебя были такие одаренные и деятельные ученики, но мне бы хотелось, чтобы они проявили меньше одаренности и больше мудрости. Я чувствую, что заслуживаю порицания, если все, чему они у меня научились, – это лишь методы исследования. Теперь их одаренность повергла мир в отчаянное положение"[38].
Положение стало действительно отчаянным после того, как в начале 1942 года под руководством Ферми в Чикаго был запущен первый ядерный реактор. Путь к созданию бомбы был открыт…
Досье по теме «Атомные часы»:
ЭНРИКО ФЕРМИ
1901–1954
Выдающийся итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики. В 1938 г. эмигрировал в США. Разработал квантовую статистику Ферми-Дирака (1925), теорию бета-распада (1934). Открыл искусственную радиоактивность, вызванную нейтронами, замедление нейтронов в веществе (1934). Построил первый ядерный реактор и первым осуществил в нем цепную ядерную реакцию (1942). Нобелевская премия (1938).
Первая цепная реакция деления атома была блестяще проведена Ферми на исходе 1942 года – 2 декабря.
И как бы параллельно с нею пошла другая реакция, не закончившаяся по сей день. Реакция пробуждения совести, гражданской ответственности у ученых, непосредственно занятых в "Манхэттенском проекте" (получившем, кстати, свое название в августе того же года).
"Я употребил слово "ответственность", а не "вина", – пишет Борн. – Ибо кто может осмелиться судить людей, которые, неся бремя войны, честно отдавали свои силы и знания. В качестве оправдания этого решения обычно выдвигается тот довод, что оно ускорило окончание войны и спасло жизнь сотням тысяч солдат, не только американских, но и японских. Мы избегаем упоминать сотни тысяч японских мирных граждан – мужчин, женщин и детей, которые принесены в жертву. Или если о них упоминают, то говорят, что их уничтожение существенно не отличается от того, что происходило при обычных воздушных нападениях. И действительно, этого нельзя отрицать. Но можно ли оправдать большое преступление утверждением, что мы привыкли совершать множество мелких преступлений"[39].
И снова – отставим на время в сторону хронику, чтобы внимательнее присмотреться к участникам "атомной гонки".
Об этой драме – людей и идей – написаны десятки книг, пьесы, стихи. Почти полвека идут споры. То разгораясь, то затухая, они продолжаются по сей день. Причем самое простое и заведомо бесперспективное дело в этом споре – развести физиков по углам ринга, охарактеризовать их гражданскую позицию либо как во всем "положительную", либо как сугубо "отрицательную".
Если бы все было так просто… Взять, к примеру, Ферми. Один из тех, кому американцы обязаны своевременным началом работ по атомной бомбе, человек, подтолкнувший Эйнштейна на поистине гражданский, ответственный шаг, – и тот же Ферми после первого ядерного взрыва произнес историческую фразу: "А по-моему, это только прекрасная физика!"
Позже драматический конфликт возникает в душах двух, вероятно, главных "крестных отцов" бомбы: атомной – Роберта Оппенгеймера и водородной – Эдварда Теллера.
Досье по теме «Атомные часы»:
РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР
1904–1967
Американский физик. Труды по квантовой механике, физике атомного ядра и космических лучей, разделению изотопов, астрофизике. Руководил созданием первой атомной бомбы (1942–1945). Председатель генерального консультативного комитета Комиссии по атомной энергии США (1946–1952), директор Института фундаментальных исследований в Принстоне (1947–1966). Выступал против водородной бомбы и был обвинен в "нелояльности", после чего отстранен от секретных работ (1953).
Досье по теме «Атомные часы»:
ЭДВАРД ТЕЛЛЕР
Род. в 1908 г.
Американский физик. Родился в Венгрии, учился и работал в Германии, Дании, Великобритании; с 1935 г. гражданин США. Труды по ядерной физике, термоядерным реакциям, астрофизике. Участник работ по созданию атомной бомбы, после отстранения Р. Оппенгеймера возглавил работу по созданию водородной бомбы, на всех этапах ратовал за "практическое применение" нового оружия. Директор Ливерморской лаборатории им. Лоренса, где в 80-е годы возглавил работы по созданию рентгеновского лазера (программа СОИ). Профессор Калифорнийского университета. Один из энергичных противников разрядки. Член американского "Общества физиков-ядерщиков", нескольких иностранных академий, Бюро научных советников ВВС США. Автор книг "Наше ядерное будущее" (с Э. Лэттером, 1958), "Наследие Хиросимы" (с Э. Брауном, 1962), "Покорившийся революционер" (1964).
В 1943 году Оппенгеймер был назначен руководителем «Манхэттенского проекта». В характеристике, секретно составленной службой безопасности, в частности, говорилось: «Можно полагать, что как ученый Оппенгеймер глубоко заинтересован в приобретении мировой известности и в том, чтобы занять свое место в истории после осуществления проекта. Представляется также вероятным, что Пентагон может позволить ему осуществить это, но что он может и перечеркнуть ему имя, репутацию и карьеру, если найдет это нужным. Если дать Оппенгеймеру достаточно ясно осознать такую перспективу, это заставит его по-новому взглянуть на свое отношение к Пентагону»[40].
В секретных характеристиках спецслужбы только одного, по-видимому, не сообщают: есть ли у человека гражданская совесть. Роберт Оппенгеймер ею, несомненно, обладал, но, судя по биографическим книгам о нем, проснулась она поздно. Хорошо, что все-таки проснулась.
У сотрудника Оппенгеймера Теллера "ничего такого" не случилось и за последние четыре с лишком десятка лет.
Эдвард Теллер – фигура в научном мире одиозная. К образу "типичного" ученого читатель привык: крупный специалист в своей области, но по-детски наивный в политике, обычно идеалист и пацифист. Но это все не о Теллере. Достигнув весьма преклонного возраста, он последние полвека был последовательным и принципиальным реакционером-антикоммунистом. Не скрывал – даже не думал – своих откровенно человеконенавистнических взглядов, а в 50-е годы даже свидетельствовал против своего коллеги Оппенгеймера, когда того заслушивали в Комитете по расследованию антиамериканской деятельности. Впрочем, в то время побудительным мотивом Теллера скорее всего была зависть и жажда сделать карьеру на водородной бомбе…
Писатели, исследовавшие "драму физиков", занятых в "Манхэттенском проекте", чаще обращали внимание на фигуру Оппенгеймера. Нас всегда подсознательно более тянет к жертве, образы во всем удачливых баловней судьбы не в пример скучнее… А мне вот гораздо интереснее Теллер. Как по-прежнему интригующе непостижимы для меня Гамсун и д'Аннунцио – незаурядные личности, ставшие прислужниками "идеологии толпы", фашизма. Тут уж не просто конфликт гения и злодейства, но что-то более сложное, глубинное, таящееся в нас самих, в чем мы сами стыдимся себе признаться.
Одно дело – оставаться демоническим злодеем-одиночкой, презирающим обывательский здравый смысл и ханжескую мораль буржуа. И совсем другое – вместе с организованными бандами обывателей-чернорубашечников принимать участие в физическом уничтожении интеллигентов, творцов и носителей культуры…
Эдвард Теллер не "интеллектуальный недоумок" вроде воннегутовского героя профессора Хоникера. Он образован, не чужд искусствам, много читает. Работы по созданию рентгеновского лазера для будущих "звездных войн" закодированы как "Проект "Экскалибур" – романтично! Хотя, конечно, название волшебного меча из рыцарского цикла о короле Артуре руководством Ливерморской лаборатории выбрано не для того, чтобы привлечь внимание благородных рыцарей, отправляющихся на поиски чаши святого Грааля…
Он и научную фантастику читал! Хотя бросил. "Не то чтобы мои вкусы изменились, – пишет Теллер в "Наследии Хиросимы", – просто изменилась сама фантастика. Отражая общую установку читателей, она вместо прежнего: "Как прекрасно!" – теперь восклицает: "Как ужасно!"[41]
Эдакий оптимист рода человеческого… Но как же сочетается занятие интеллектуальной деятельностью, культура мысли, здравый смысл, наконец, с такими вот поистине пещерными сентенциями: "Оледенение загнало людей в пещеры, а радиация в них сильнее, чем на открытом воздухе. В результате этого человеческая раса развивалась быстрее, и человек стал человеком, вероятно, как раз в результате воздействия этой повышенной радиации. Теперь мы покинули пещеры, и наше развитие прекратилось. Мы становимся вследствие этого все более тучными и тупыми"[42].
Но вернемся в начало августа 1942 года. Чем же памятным пометил для себя тогда еще молодой и честолюбивый эмигрант-физик Теллер эти две последние минуты перед взрывом? Тем, что впервые, оказывается, задумался о водородной бомбе – ровно за три года до реального взрыва первой атомной.
Между прочим, в книге "Наследие Хиросимы" (название в сочетании с фамилией автора на переплете, согласитесь, отдает кощунством) Теллер поместил короткий научно-фантастический сценарий собственного сочинения. Фактически литературную иллюстрацию к любимому тезису Теллера: "ограниченную" ядерную войну можно успешно вести и выиграть. Конфликт между СССР и США по поводу применения обеими сторонами ракет класса "воздух – воздух" приводит к обмену ядерными ударами; Америка конечно же побеждает… Но я снова забегаю мыслью вперед.
А чем были заняты мысли писателей-фантастов за две минуты до вступления человечества в атомную эру?
Заняты, в частности, ею – атомной эрой.
Под руководством Кэмпбелла журнал "Эстаундинг" дал атомной теме статус едва ли не магистрального направления редакционной политики. Многие начинающие авторы, только попробовав перо в научной фантастике, сразу же с головой погружались в мир таких терминов – в то время еще звучащих фантастически, – как "цепная реакция", "уран-235", "вторичные нейтроны".
Среди таких ранних атомных волонтеров был молодой писатель со звучным именем Лестер Дель Рей.
Досье по теме «Атомные часы»:
ЛЕСТЕР ДЕЛЬ РЕЙ
Род. в 1908 г.
Американский писатель-фантаст. Систематического образования не получил. Дебютировал в научной фантастике в 1938 г. Автор романов "Нервы" (1942), "Двенадцатая заповедь" (1962) и др. В последние годы – издатель.
Я мог бы увеличить досье ровно вдвое, выписав полное имя писателя: Рамон Феличе Сан-Хуан Марио Сильвио Энрико Смит Ниткур Брэйс Сиерра-и-Альварец-Дель Рей-и-де лос Уэрдес. Обладатель столь пышного имени смог достойно «поддержать» его полувековым литературным трудом; написал и издал Лестер Дель Рей немало… По крайней мере, в атомной фантастике Дель Рей «образца 40-х годов» был признанным мэтром.
Напомню, что еще в апреле 1938 года на страницах журнала "Эстаундинг" появился его рассказ "Верный" – о мире, пережившем ядерную войну и населенном мутантами – разумными обезьянами и собаками. А в сентябре 1942 года вышел роман Дель Рея "Нервы", на долгие годы превратившийся в образец литературы такого рода. Темы атомного оружия автор в романе не затрагивал, но описал событие, тоже до боли знакомое нам, жителям конца 80-х годов: аварию на атомной электростанции…
Месяцем позже в другом рассказе – "Высадка на Луну" Дель Рей описывает (неожиданно) марсиан, у которых мировая война прошла без применения атомного оружия. Его просто побоялись построить.
И наконец, в майском номере "Эстаундинг" за следующий, 1943 год подписанный псевдонимом "Джон Альварец" вышел еще один рассказ молодого писателя – "Пятая поправка". Тут уж все названо своим именем: атомная бомба (причем, согласно нынешним нашим знаниям, скорее нейтронная, ибо убивает радиацией, а не тепловым излучением и не взрывной волной)! И даже изотоп урана под правильным номером – 235 указан мимоходом.
Насколько же уверенно разрабатывали свою тему «птенцы Кэмпбелла»!
1 минута до взрыва (1944 год). Если точно следовать минутной стрелке атомных часов, то одноминутная – правильнее называть ее уже шестидесятисекундной – готовность была объявлена в октябре 1944 года. А до этого, за девять месяцев, произошло много всего.
Начало и середину года руководителям Англии и США неприятности доставлял в основном знаменитый физик, бежавший 30 сентября 1943 года из Дании, – Нильс Бор…
Досье по теме «Атомные часы»:
НИЛЬС ХЕНРИК ДАВИД БОР
1885–1962
Великий датский физик, один из создателей современной физики. Основатель (1920) и руководитель Института теоретической физики в Копенгагене, одного из крупнейших научных центров в мире. В 1943–1945 гг. работал в США. Создал теорию атома. Труды по теории металлов, теории атомного ядра и ядерным реакциям, философии естествознания. Активный участник борьбы против атомной угрозы. Нобелевская премия (1922).
В мае датский физик добивается приема у Черчилля и пытается поделиться с британским премьером своей растущей тревогой по поводу создающегося (Нильс Бор не сомневается в этом) атомного оружия. Тревожит Бора не возможность создания атомной бомбы в Германии, а возможность ее применения союзниками.
Может быть, это было первое обращение выдающихся ученых к правительствам по поводу атомной угрозы. Первый ясно выраженный пример нового мышления.
И первое унижение, которое пришлось испытать науке после этого пионерского контакта с властями предержащими: Черчилль с видимым раздражением посоветовал ученым не лезть в политику, а в секретном меморандуме Рузвельту поставил вопрос о "лояльности" Бора…
Нильс Бор все же не отступил и 7 сентября написал американскому президенту письмо, где с поразительной точностью сформулировал свою тревогу всего в нескольких компактных фразах: "Перспектива высвобождения огромного количества энергии за счет расщепления атома бесспорно окажет глубокое влияние на будущее человечества. Но надежды, порожденные данным открытием, могут быть омрачены самыми зловещими угрозами для безопасности народов, если в надлежащее время не будет выработано международное соглашение об эффективном контроле над новым ужасным оружием"[43].
Спустя двенадцать дней состоялась очная встреча Черчилля с Рузвельтом; речь на ней шла, в частности, о Боре. Мнение руководителей двух ведущих капиталистических держав было единодушным: эти ученые, когда ударяются в политику, становятся невыносимыми. Делали бы свое дело – бомбу, а как распорядиться ею, решат люди более компетентные в военных и политических вопросах.