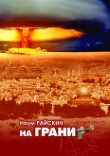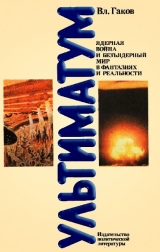
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
О Германе Кане у нас много писали (в основном в связи с анализом западных футурологических прогнозов), но я хотел бы напомнить всего два отзыва на его книгу "О термоядерной войне".
Рецензент журнала "Сайнтифик америкэн" не смог удержаться от эпитетов, вообще-то не принятых в научной прессе: "дьявольская святотатственная книга". (Кан ответил редактору энергичным сердитым письмом, где возмущенно заявил, что не считает журнал ни научным, ни американским…) А известный социолог Джон Ньюмен охарактеризовал научный труд Кана следующим образом: "Книга пропитана такой кровожадной иррациональностью, какой я никогда не встречал за все время, что читаю книги"[79].
По безнравственности проект MAD конечно же не уступает проекту из воннегутовских "Сирен Титана". Сейчас нам это тем более понятно, что (признаемся, чего греха таить) во время оно и мы фактически следовали концепции, весьма близкой к "Проекту Безумие", хотя и не по своей инициативе оказались втянуты в гонку вооружений. Ведь не секрет, что на взаимном устрашении – и не на чем ином – держался мир в Европе все сорок послевоенных лет. До тех пор, пока не стало ясно, что дальше это балансирование на грани пропасти попросту невозможно…
Все-таки удивительные "докторы хоникеры" встречаются на обочине дороги, по которой идет марш мира.
В 1982 году некто Джером Слейтер опубликовал в журнале "Диссент" статью, в которой вновь вернулся к вопросу о том, зачем нужно столько оружия массового уничтожения, чтобы быть в состоянии двадцать раз убить одного русского? Для Слейтера сомнения отсутствуют: "Риторический этот вопрос звучит довольно удачно, но в нем упущен важный момент. Наша цель, безусловно, не в том, чтобы по двадцать раз убивать каждого русского. Наша задача – быть в состоянии убить каждого русского один раз и реально гарантировать эту возможность"[80].
Курсив в данном случае не мой – автора статьи…
Видимо, в таких же головах-арифмометрах родился и другой абсурдный неологизм – overkill. В переводе с английского – буквально "сверхубийство". В смысле: "дважды убийство", "трижды"… "стократное убийство" – всего человечества!
И те же арифмометры трещат, пытаясь доказать абсурдность "мифа о ядерном Апокалипсисе".
В последней своей книге "Следование простоте" (1980) Эдвард Теллер объяснил нам нелепость и вредность легенды о том, будто бы ядерная война "всех уничтожит". Вот, приводит он пример, вторгся Чингисхан в Персию и устроил в 1219 году образцовую резню: убивали всех, до кого руки могли дотянуться. "Однако примеров великого разрушения цивилизации мы не видим. Примерно 10 % населения Персии выжило"[81].
Видный американский ученый-медик, один из основателей движения "Врачи мира за предотвращения ядерной войны", Герберт Абрамс внешне старается соблюсти спокойствие, отвечая коллеге: "Для Теллера смерть 90 % персов – это выживание. Вероятно, он то же самое сказал бы о 90 % погибших в Северном полушарии, разразись там ядерная война. Может быть, кто-то выживет. Человеческий вид, в противоположность динозаврам, вероятно, еще будет населять планету на протяжении нескольких ближайших тысячелетий. Следуя лексике Теллера, "выжить" означает остаться живым, сохранить природный метаболизм. Однако выживание биологического вида совсем не означает выживания – политического, социального, экономического, психологического – человечества"[82].
С динозаврами сравнение, впрочем, хромает. Динозавры, как выясняется, тоже оказались живучи, по крайней мере голос их, особая «завро-логика» преследует нас в последнее время все чаще и чаще.
Это логика, очевидно, встревожила и видного венгерского прозаика Лайоша Мештерхази. И он – неожиданно для многих – обратился к научной фантастике, опубликовав незадолго до кончины фантастическую повесть "Великолепная рыбалка".
Досье по теме «Ультиматум»:
ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ
1916–1979
Выдающийся венгерский писатель. Окончил Будапештский университет, защитил докторскую диссертацию (филология). Во время хортистской диктатуры вступил в коммунистическую партию. Был на партийной, литературной работе. Автор романа "Загадка Прометея" (1976) и др. В последние годы жизни неоднократно обращался к научной фантастике – сборник "Семпитернин" (1975) и другие произведения.
Жизнь его была столь богата событиями и переменами, что просто невозможно себе представить, как бы он смог пройти мимо научной фантастики. «Я видел и пережил все, что видели и пережили многие мои сверстники в Европе. Конечно, в разной степени, но лучше не сравнивать: все мы насмотрелись ужасов куда больше, чем может себе представить нормальный человек, на нашу долю выпало столько страданий, что ни одна душа не способна перенести их без необратимых изменений… Появилось новое средство уничтожения, и память о бомбежках, о захвате заложников, о газовых камерах очень быстро отодвинулась в сознании куда-то на задний план; представления о мировом катаклизме стали качественно иными. Целое поколение выросло в тени грибовидного облака»[83].
Описывая в повести "Великолепная рыбалка", переведенной на русский язык, некое "новое" – в данном случае химическое – оружие, Лайош Мештерхази мудро предостерег нас от чересчур утопических надежд на безъядерное будущее. Безъядерное – вовсе не значит беспроблемное.
Сначала нужно что-то понять в феномене Коэна и Теллера и что-то предпринять против этой бациллы; пока она не имеет противоядия, тревогу не развеет даже Пакт о ядерном разоружении. Эти что-нибудь да придумают своим работодателям. "Гуманно" убивающего все живое, оружия, буквально уничтожающего живые организмы без следа (подходящая армия застает нетронутыми пашни, города и заводы противника), пока не создано. Но особая порода людей – можно ли называть их людьми? – к сожалению, уже благополучно выведена.
В небольшом по объему произведении четко разграничены два плана. Внешний – расписанный до нюансов, подчеркнуто реалистичный, с эффектными, "вкусными" деталями, заражающий особым азартом рыбалки даже тех читателей, кто был чужд этому таинству. И второй план за кадром, выявляемый лишь пунктиром реплик, полуфраз, разбросанных по повести намеков. Скучноватые будни спецкомандировки, запечатленные в дневнике одного из исследователей: разбивка лагеря-полигона, отработка новой серии экспериментов, анализ результатов. Лишь одно скрашивает рутину (ибо скучны даже общеобразовательные лекции для командированных: о природе войны, об «атомном пате», о новом «сверхоружии», которое и испытывается на полигоне): та самая заветная рыбалка!
А затем – успех, прощальный банкет со множеством тостов: за будущие награды, за увеличение ссуд на будущие же опыты. И следа не осталось от пятерых людей – жертв, на которых испытан новый препарат, улетучились малейшие следы и его самого.
Безумная ситуация: перспективы на будущее строят те, кто только что изрядно потрудился над его уничтожением…
Сопоставление двух планов, выбранная автором казенно-лаконичная манера ("дневник специалиста") – все это не случайно. Талантливый мастер ни разу не дал ярости прорваться наружу. Ему было важнее придержать ее – чтобы не выплеснулась сразу, не перегорела быстро; еле уловимый намек зажег костер, которому пылать и пылать. Схватило какой-то нерв в душе читателя – и уже не отпустит никогда.
Курт Воннегут оружием выбрал любимый им "черный юмор", Лайош Мештерхази защищает воображение "ледяным" внешним спокойствием… Странно, если бы среди таких фигур, марширующих в колонне научных фантастов, мы не встретили одного старого знакомого – Станислава Лема!
А чем силен польский писатель-фантаст, поклонник этой литературы знает без подсказки.
Отточенный интеллект, смелость и логическая убедительность фантазии – все эти качества Лема проявились в полной мере и в его новой повести "Мир Земле" (1986). В качестве самостоятельного фрагмента в нее включена одна из удивительных лемовских "рецензий на ненаписанные книги": впервые она вышла в 1983 году и называлась "Системы оружия XXI века, или Эволюция вверх ногами". Без упоминаний об этом маленьком интеллектуальном шедевре любое исследование "нового мышления" осталось бы досадно неполным.
Рецензия неизвестного нам автора XXIII века дает сжатую и яркую ретроспективу эволюции систем вооружений. Хотя правильнее было бы назвать ее инволюцией, потому что стремление к гигантомании – все больше, все мощнее – довольно скоро зашло в тупик. «А значит, решили конструкторы XXI века, следовало гораздо раньше пойти на выручку к биологической эволюции, ведь миллиардолетний возраст ее творений – свидетельство оптимальной инженерной стратегии»[84].
Увеличение быстродействия электронных систем, из которых теперь в значительной мере состояло оружие, приводило к росту фактора случайности: «Системы неслыханно быстрые ошибаются неслыханно быстро… В прежних сражениях, где рыцари бились верхом и в латах, а пехота схватывалась врукопашную, на долю случая выпадало, жить или умереть отдельным бойцам и военным отрядам. Но могущественная электроника, воплощенная в логике компьютеров, повысила случай в звании, и теперь он уже решал вопрос о жизни и смерти целых народов и армий»[85].
Микроминиатюризация в сочетании с почтительной оглядкой (наконец-то человечество избавилось от своего технического высокомерия) на эволюцию привела к созданию особых микрокремниевых бактерий, которым "присвоили" имя Винера. Началось обезлюживание армий: "Последняя стадия бронегигантомании исчерпала себя в середине столетия; наступила эпоха ускоренной микроминиатюризации под знаком искусственного неинтеллекта"…[86]
Рассказывать далее об этой странной эволюции вооружений – значит просто переписывать сочинение Лема, страница за страницей, строка за строкой. У него, польского писателя, как обычно: словам тесно, а что касается мыслей… Позволю себе привести еще одну длинную цитату. С единственной целью – продемонстрировать действительные возможности раскрепощенного воображения:
"Синсектное (от Synthetic insects – "искусственные насекомые". – Вл. Г.) оружие XXI века не было просто роем металлических ос, известных нам по атласу энтомолога. Некоторые из этих псевдонасекомых могли как пули прошить человеческое тело; другие служили для создания оптических систем, которые фокусировали солнечное тепло и создавали тепловые течения, перемещавшие большие воздушные массы, – если план кампании предусматривал, например, проливные дожди или, напротив, солнечную погоду. Были «насекомые» таких «метеорологических служб», которым сегодня вообще нет аналогий; взять хотя бы эндотермальных насекомых, поглощавших значительное количество энергии для того, чтобы посредством резкого охлаждения воздуха вызвать на заданной территории густой туман или инверсию температур. Были еще насекомые, способные собираться в лазерный излучатель разового действия… Новое оружие диктовало новые условия боя, а следовательно, новую тактику и стратегию, общим знаменателем которых было полное отсутствие людей. Но для приверженцев мундира, знамен, смен караула, почетных конвоев, маршировки, перестроений, муштры, штыковых атак и медалей за храбрость новая эра в военном деле была изменой возвышенным идеалам, сплошной обидой и поношением. Эту новую эру специалисты назвали «эволюцией вверх ногами»[87].
Кажется, этой "дурной бесконечностью" абсурда, выстроенной, однако, с филигранной математической точностью, Станислав Лем делает с нашими мозгами то, что его коллеги – Воннегут и Мештерхази – с нашими чувствами и эмоциями. Они закипают – от ужаса, творящегося на наших глазах.
Я не оговорился. Взгляд читателя фантастики особый: он обращен в будущее. То, на что он падает, имеет "склонность" сбываться раньше, чем мы предполагаем…
На состоявшемся зимой 1987 года московском форуме "За безъядерный мир, за выживание человечества" журналисты разрывались между приглашенными знаменитостями. А обстановка полной "свободы контактов", тогда еще у нас достаточно непривычная, только усложняла задачу интервьюеров… Если говорить об ученых (а были еще деятели культуры, представители многих религий, общественности, бизнеса), самым "недоступным" казался американский физик Теодор Тейлор.
Личность яркая и непростая. Один из создателей американской водородной бомбы. Конструктор самой маленькой и легкой из всех существовавших атомных бомб. И создатель самой большой из когда-либо взорванных на Земле… Один из плеяды знаменитостей легендарной Лос-Аламосской лаборатории, друг и коллега Бёте, Ферми, Гамова, Теллера. А сегодня – активнейший борец за ядерное разоружение!
Его друг писатель Джон Макфи написал о Тейлоре книгу, названную "Кривая энергия связи"[88]. Есть такой физический термин: внутренняя энергия (или энергия связи); высвобождение ее и приводит к атомному взрыву. Однако физика здесь, кажется, ни при чем, речь идет о человеческой судьбе.
Кривая жизни Тейлора – ученого и человека – действительно захватывающа.
Школу окончил в пятнадцать лет, знаменитый "Калтех" (Калифорнийский технологический институт) – в девятнадцать. И закончил его в год знаменательный – 1945-й… Вот отрывок из его письма домой, датированного августом того "атомного" года: "Для меня совершенно очевидно, что скоро нас всех ждут революционные изменения. Боюсь, что человечество открыло нечто, способное уничтожить всех нас еще до того, как мы его хорошенько изучим. В скором времени, я убежден, это открытие станет общим достоянием всех правительств. И мне кажется, что это была последняя война в истории – в противном случае следующая станет последней для всего человечества, так как нации попросту истребят друг друга"[89].
Ранние августовские дни 1945 года, пишет девятнадцатилетний юноша, который до того и слов таких не слышал: "расщепление атома"! (В то время было много профессионалов-физиков, которые о расщеплении атома не слыхивали…) Вундеркинды бывают разные, но случаи столь редкого социального прозрения действительно наперечет.
Впрочем, его "кривая" только начинала раскручиваться… В 70-е годы, после многих лет работы над бомбами – большими и маленькими, после участия в опросах, проводимых Пентагоном с целью выработки оптимальной ядерной стратегии в будущей войне против СССР, Тейлор с горечью признал: «Я думал, что выполняю долг перед родиной, что вношу посильный вклад в дело укрепления мира. Сейчас я думаю иначе. Если бы я мог никогда не приступить к тому, чем был занят долгие годы… Это была ошибка. Как ни „улучшай“ бомбу, как ее ни рационализируй, она не перестанет быть бомбой – то есть устройством для умерщвления огромного количества людей. Иногда мне кажется, я не смог бы протестовать, если бы человечество вывело всех ученых к одной стенке и расстреляло… Надеюсь, теперь меня уже не покинет убеждение: ядерное оружие никогда не должно быть применено ни при каких обстоятельствах. Никогда. Нигде. Даже в ограниченных масштабах… Даже если русские начнут бомбить Манхэттен – я бы не стал в ответ бомбить Москву»[90].
Американский физик Тейлор вряд ли знал об аналогичном заявлении советского писателя Адамовича. Но он, безусловно, был осведомлен о том, что такие же мысли посетили еще одного его коллегу – советского. Тоже, кстати, "отца" ядерного оружия…
Путь многих физиков, теснейшим образом связанных с бомбой, был воистину непрямым; часто путаная, извилистая дорога вела их к осознанию своей ответственности. Это был путь от участия – и соучастия – в смертоубийственной "физике" к пониманию того, что ей должен быть положен конец. Процесс требовал многих лет, а часто десятилетий; были на том пути и личные драмы, и столкновения с властями, и ошибки – и почти всегда мучительный пересмотр всего, чем жил до сих пор.
"Ядерная война принесет человечеству варварство и возврат к дикости"[91]. Фраза, не претендующая ныне на оригинальность. Но сказана она была двадцать лет назад, и сказана человеком, без упоминания, хотя бы краткого, о котором я не мыслил себе эту последнюю, завершающую главу книги!
Академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
Досье по теме «Ультиматум»:
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ
Род. в 1921 г.
Выдающийся советский ученый-физик и общественный деятель. Специалист по ядерной физике, физике элементарных частиц, теории относительности. Академик АН СССР. Окончил Московский государственный университет. Во время войны работал инженером-изобретателем на заводе. Окончил аспирантуру Физического института АН (1945–1948). Участник работ по созданию водородной бомбы. Государственная премия (1953). Ленинская премия (1956). Активный борец за разоружение, за прекращение ядерных испытаний и права человека. Нобелевская премия мира (1975). В 1980 г. был отстранен от секретной работы, лишен правительственных наград и выслан в г. Горький, где провел шесть лет. В 1986 г. вернулся в Москву.
…В те дни, когда я заканчивал книгу, официальная справка об академике Сахарове в последнем издании советского Энциклопедического словаря не содержала и трети зафиксированного в досье. Но и оно неполно – нам еще предстоит заново восстанавливать биографию и заслуги человека, у которого не столь давно попытались отнять и то и другое.
Не знаю, как для кого, но для меня новое мышление означало прежде всего вновь появившуюся возможность пусть несколькими добрыми словами, но сказать в этой книге открыто об одном из признанных его создателей.
Повествуя о драме "отцов" атомного оружия, писатели и журналисты обращаются к примерам каноническим – Эйнштейн, Силард, Оппенгеймер… Совсем недавно мы узнали о Теодоре Тейлоре; и пришел наконец черед рассказать об Андрее Дмитриевиче Сахарове. "В 1953–1968 годах, – пишет он (пусть лучше он сам все расскажет), – мои общественно-политические взгляды претерпели большую эволюцию. В частности, уже в 1953–1962 годах участие в разработке термоядерного оружия, в подготовке и осуществлении термоядерных испытаний сопровождалось все более острым осознанием порожденных этим моральных проблем. С конца 50-х годов я стал активно выступать за прекращение или ограничение испытаний ядерного оружия. В 1961 году в связи с этим у меня возник конфликт с Хрущевым. Я был одним из инициаторов Московского договора 1963 года о запрещении испытаний в трех средах (т. е. в атмосфере, в воде, в космосе)…"[92]
А спустя пять лет появились составившие славу Сахарову "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе". Напечатанные на Западе, они не только открыли всему миру (к сожалению, кроме собственной страны) прежде засекреченного физика-ядерщика, но и честного, думающего, активного гуманиста, страстного проповедника нового мышления. Тогда, в 1968 году, на родине автора "Размышления…" пришлись не ко двору, вызвав сначала газетную травлю, а затем и административное преследование.
Тем более горько сознавать это сейчас, когда мы сравниваем сказанное Сахаровым двадцать лет назад с тем, что в наши дни превратилось в азы политической стратегии, в конкретику договоров и международных акции. А Сахаров еще в конце 60-х годов предостерегал: "Разобщенность человечества угрожает ему гибелью… Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций – безумие, преступление… Три технических аспекта термоядерного оружия сделали термоядерную войну угрозой самому существованию цивилизации. Это огромная разрушительная сила термоядерного взрыва, относительная дешевизна ракетно-ядерного оружия и практическая невозможность защиты от массированного ракетно-ядерного нападения…"[93]
Рассказывают, что академик Сахаров сопровождал группу высокопоставленных военных чинов на остров Новая Земля, где на специальном полигоне был взорван один из самых мощных в то время термоядерных зарядов. Не знаю, что именно за картина предстала взору высокой инспекции и что за размеры были у радиоактивной воронки, растопившей вечную мерзлоту вглубь на… метры? или километры?.. Но думаю, что разными глазами смотрели на этот "триумф" научной мысли те, кто ее использовал, и тот, кто ее воплотил в это варварство. Могу только себе представить, как Сахаров совсем другим человеком возвратился из той поездки.
Воистину одного раза увидеть – недостаточно (генералы тоже смотрели на результат испытаний во все глаза). Нужно еще задуматься, напрячь воображение, чтобы – представить себе возможные последствия.
…Если даже физики-ядерщики восстают против собственного детища, то что говорить о врачах, чья задача – бороться против смерти во всех видах! Тем более – суперсмерти.
На Московском конгрессе врачей можно было встретить специалистов онкологов и радиологов, организаторов санитарной службы и травматологов; и еще, по-видимому, представителей всех остальных разновидностей медицины. Однако речь пойдет не о них.
Оказывается, врачи обеспокоены тем, что поражены будут не только тела, но и души.
Конгресс собрал много известных психологов, невропатологов и психиатров; но для меня интереснее всего оказалась встреча с психоаналитиком. Не могу сказать про себя, что глубоко разбираюсь в проблемах психоанализа, но встреча с молодым американским психоаналитиком Робертом Боснаком, выступившим на дискуссии о научной фантастике и ядерной реальности, открыла глаза на удивительную область пересечения психоанализа и фантастической литературы.
Доктор Боснак имеет частную практику в Кембридже (штат Массачусетс); последователь психоаналитической школы Юнга, он, как оказалось, прибыл в Москву в поисках… людей. Участников будущей конференции "Лицом к Апокалипсису-II" (первая с успехом прошла в 1986 году в США), которую он организовал и на которую собрался пригласить коллег-врачей, писателей, поэтов, художников, психологов, политиков, религиозных деятелей, чтобы всем вместе поразмышлять о нашем "ядерном" времени и о человеческом воображении, которое одно только способно это время отразить. А может быть – спасти?
"Мы должны вообразить что-то такое, что максимально приближалось бы по образной мощи к картинам ядерного уничтожения цивилизации, – пишет в сборнике "Лицом к Апокалипсису" (1987) уже известный нам психолог и публицист Роберт Джей Лифтон, один из первых скорбных летописцев Хиросимы. – Только в этом случае у нас есть шанс избежать его в реальности. Нам требуется расширить нашу "психологическую" и "моральную" фантазию для того, чтобы держаться подальше от "воображенного" в действительности"[94].
Роберт Боснак рассказывал мне о школе Юнга, а я мысленно сравнивал метод знаменитого швейцарского психолога и философа с более знакомой мне "атомной" фантастикой и… находил много общего! Только узнав полную, упрятанную в глубины подсознания правду о собственных страхах, начинаешь путь к спасению, заручившись первым проблеском надежды. "Свет в самом сердце тьмы", как сформулировал это сам Карл-Густав Юнг, находившийся под большим влиянием восточной философии Дао… Но не к тому ли призывает читателя и фантастика?
После тех долгих бесед (а мы не раз еще встречались впоследствии с Робертом Боснаком) впервые забрезжила мысль о том, что сферы "внешнего космоса" и "внутреннего" оказываются гораздо более взаимосвязанными, чем мне казалось раньше. Если обратиться к ядерным страхам человечества, эта связь проступает особенно ясно: мы изучаем их не ради академического любопытства – и уж, конечно, не из мазохистского наслаждения, – но чтобы извлечь какой-то урок для себя, не так ли?
О том же пишет и Сэм Кин в книге "Лица врага": "Следует опасаться не только переведения политических событий в психологическую плоскость, но и переведения психологических событий в плоскость политическую. Проблема войны носит сложный, комплексный характер, и едва ли ее можно решить в рамках одного научного подхода, одной научной дисциплины. Для того чтобы подступиться к ее решению, необходимо, как минимум, иметь нечто вроде "квантовой теории войны" – вместо теории, объясняющей возникновение войн одной какой-нибудь причиной. Подобно тому как уяснить себе природу света можно, лишь представив квант световой энергии одновременно как частицу и как волну, мы сумеем разобраться в теме войны, только если станем рассматривать войну как систему, которая имеет двойную основу: государственную политику насилия и воинственную психологию; пропаганду и паранойю; идеологические и геополитические конфликты между странами и враждебное воображение (курсив мой. – Вл. Г.). Для плодотворного осмысления природы войны всегда нужно будет принимать в расчет как социальные институты, так и индивидуальную психику. Общество формирует психику людей, и наоборот. Поэтому нам придется решать двоякую задачу: создания и политических и психологических альтернатив войне, изменения и структуры международных отношений, и психики Homo hostilis"[95].
Слова "враждебное воображение" я выделил не случайно. В нашем "дуальном" мире всякое определение предполагает наличие какого-то другого – полярного по смыслу. И читатель уже познакомился со множеством примеров воображения как враждебного, так и дружественного. Между прочим, общественная организация, которую создал доктор Боснак, названа также не совсем обычно: «Воображение в действии»…
Оно воистину действенно в наши дни. По словам другой знаменитости – Карла Ясперса, «единственным средством, с помощью которого вероятное сегодня стало бы в конце концов невероятным и даже невозможным, является возможно более полная осведомленность о вероятности всеобщей гибели»[96].
Свет в конце тоннеля… Нужно еще мужество, чтобы пройти его. "Есть страх смерти, и он присущ всем нам, – говорил Боснак, – и есть страх страха смерти. Задача психоаналитика – помочь пациенту преодолеть этот «второй» страх; только когда он будет высвечен, вытолкнут на поверхность из нашего подсознания, осмыслен и проанализирован, человек сможет смело взглянуть в глаза смерти. И понять, что за мир он может потерять… Это своего рода возрождение!"
Чтобы продемонстрировать серьезность намерений психиатров и психологов, а также меру осознания ими своей собственной профессиональной ответственности за пораженное тяжким душевным недугом человечество, приведу только перечень названий научных статей. Все они включены в специальный выпуск уже упоминавшегося «Международного журнала психического здоровья» за 1986 год.
"Изучение стресса и путей его преодоления в ядерный век: новая медицинская специальность", "Колокол тревоги: последняя эпидемия", "Типы психологических реакций на угрозу ядерного уничтожения", "Дети встревожены перспективой ядерной войны", "Психологические установки на ядерную угрозу у старшеклассников", "Психическое здоровье и угроза ядерной войны – тема для истории болезни", "Психологические последствия ядерной угрозы – семейный аспект", "Реакция творческого человека на жизнь под ядерным мечом", "Научно-исследовательские и профессиональные действия врача в "ядерно-осеннее" время (пока не наступила "ядерная зима")"…
Пока есть время, стоит задуматься и о душе. О бессмертии души, как сказал бы религиозный человек, но эти сакраментальные слова в ядерный век наполнены особым содержанием и для того, кто не верит в бога.
Ядерная трагедия поставит точку на развитии вида Homo sapiens, закроет навсегда саму возможность существования будущим, еще не родившимся, поколениям. А если, с точки зрения атеиста, считать бессмертной душой человечества как целого ноосферу – все накопленное и овеществленное им духовное богатство, то проходит аналогия. Атомная катастрофа непременно разрушит ноосферу до основания. Все наши книги и верования, музыку и обычаи, картины и нравственные законы, могилы предков и достижения науки. Философия, чувство юмора, любовь, душевные сомнения, страхи, надежды, посаженные деревья и воспитанные нами дети – все потеряет смысл – и то, чем жили, и то, для чего жили десятки тысяч поколений землян.
Вот какая страшная судьба ждет планету. Таким увидел исход ядерной катастрофы американский публицист Джонатан Шелл. К сожалению, мне не удалось собрать о нем сколько-нибудь солидного досье; он, по сути, и прославился одной-единственной книгой "Судьба Земли" (1982).
Дай бог каждому пишущему однажды создать такое… Я много прочитал книг, написанных публицистами на эту тему, но труд Шелла стоит особняком. Никто, пожалуй, не смог так ярко, детально и логично описать бессмысленность грядущего Армагеддона. Все аналогии с Судом блекнут, потому что ядерный конец света будет прежде всего нелеп, как нелепо отнимает жизни и разрушает города стихийное бедствие. Ядерный холокауст будет означать не просто огненное жертвоприношение всего населения Земли. В жертву принесут и то, что это население создало своим умом и руками, – все те плоды цивилизации, которые и ей самой сообщали какой-то смысл[97].
"Было ли еще в истории столетие, знающее настолько ясно, что оно способно сделать доброго, но с таким упрямым постоянством творившее зло? – задается вопросом американский писатель, кинорежиссер, дипломат и солдат Лоуренс ван дёр Пост. И сам себе отвечает: – Сомневаюсь. И это мое сомнение заставляет меня ощущать особую ответственность человечества, не имевшую прецедента ни в одном из прошлых столетий"[98].
А Джонатан Шелл, следуя как раз тому методу, что рассказан мне Боснаком, проводит читателя по всем кругам ядерного ада, воздействуя в большей степени не на эмоции – это-то несложно, – но на здравый смысл. Хотя все же апеллирует и к эмоциям…
Все книги на тему ядерной войны рано или поздно, но невольно сбиваются на возвышенный библейский пафос – может быть, потому, что история человеческой культуры чаще и быстрее подсказывает нам этот источник для подражания? Вот и американский публицист, "накачав" нас вдосталь информацией, обогатив длинными и нетривиальными умозаключениями, тоже не может удержать себя от проповеди:
"В один прекрасный день – и трудно поверить, что он не наступит скоро, – мы сделаем наш выбор. Либо мы окончательно впадем в коматозное состояние, и это будет конец всего, либо, как я верю и надеюсь, мы восстанем ото сна и осознаем реальность угрожающей нам опасности – реальность столь же великую, как сама жизнь, и, подобно человеку, принявшему смертельный яд, но в последний момент сбросившему с себя оцепенение и изрыгнувшему его, мы покончим с нашими сомнениями, отбросим малодушные оправдания и восстанем во имя того, чтобы очистить Землю от ядерного оружия"[99].
…Вероятно, самая лаконичная и предельно емкая микрорецензия на книгу Шелла принадлежит Карлу Сагану: «Каждую секунду – по целой второй мировой войне, и так весь долгий ленивый полдень». А в одной из своих статей Артур Кларк, приведя это высказывание Сагана, заметил: «Хотел бы я, чтобы ненормальные, твердящие о „затяжной“ ядерной войне, всего-навсего перечитали бы это единственное предложение – медленно, вдумываясь в каждое слово»[100].