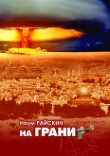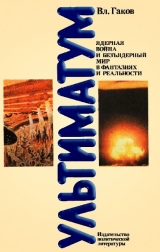
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Очень ядовита и в огне не горит. На удивление точный образ.
Хотя образ саламандр в романе и неоднозначен, слишком явные аналогии вызывали тупо марширующие пресмыкающиеся; оставалось мысленно дорисовать шлемы с рожками и выкинутую в знакомом приветствии переднюю конечность. Воинственная серость, "среднесть" бессловесных винтиков-исполнителей – вот что такое саламандры в романе Чапека.
Как в зеркале в них отражался фашизм.
По мере развития сюжета нарастает, приближаясь к критической, масса всех его известных признаков. Поначалу тихие и покорные земноводные меняются на глазах: откуда-то повылезли прикрытая броской фразой демагогия, безудержный прагматизм, ломающий на пути все нравственные преграды, и расизм, муштра, борьба за "жизненное пространство". И еще саламандр отличает какая-то "животная глухота к человечности"[70].
На вопрос, есть ли у них душа, следует ответ: "Все, как один, похожи друг на друга, одинаково старательные, одинаково способные… и одинаково невыразительные, – словом, в них воплощен подлинный идеал современной цивилизации, то есть Стандарт"[71].
Конечно, только к серости, косности, мещанству социальный феномен фашизма сводить нельзя. Мещанство – лишь дрожжи, на которых он прорастает, когда добавляются факторы социально-политические. Мещанин становится фашистом, как только у пего в мозгу забрезжит смутная идея общности с себе подобными, после чего сообща они начнут укреплять друг в друге агрессивное неприятие всех "иных". Стремление к мировому господству – вечному, на тысячи лет! – жажда бесконтрольной власти, национализм и "голос крови", комплекс фюрерства – все соединится в общем котле, где варят фашистское зелье "повара".
А повара найдутся. Процесс превращения фашизма в агрессивную, направляемую вовне силу требует и внешней подкормки. В книге ясно показано то, от чего, как от навязчивых бредней, отмахивались многие политики Старого и Нового Света. Фашизм подкармливали!
Чапеку, вероятно, первому удалось показать фашизм снаружи – в тесной связи с теми, кто заботливо высевал смертоносную бактерию на питательный бульон озлобленного немецкого мещанства. А когда процесс вышел из-под контроля, трусливо попытался "умиротворить" агрессора, бросив ему на съедение союзника послабее. Как в сказках: умиротворяли злого дракона, отдавая в жертву прекрасных девушек… "Пусть саламандры, лишь бы не марксисты!"[72]– это тоже из романа.
И менее чем через два года – прозвучало в жизни. К чему это привело, мы знаем. Избитая донельзя фраза: "Точку в романе поставила жизнь" – но как подходит к творению Карела Чапека!
…Последние месяцы жизни крестный отец роботов проводит в неустанной борьбе с их "реальными воплощениями" – теми, что со свастикой на рукавах. Спустя ровно три года после начала публикации романа в газете – судьба подгадала: день в день – прикованный к постели Чапек заканчивает статью под названием «Защитим жизненные интересы республики». И в тот же день, 21 сентября 1938 года, правительство Чехословакии отвечало на ноту Англии и Франции – умиротворители поддерживали наглое требование Гитлера об отторжении Судет.
Последствия Мюнхена раскручивались как туго сжатая пружина, и великий провидец вправе был ожидать самого скверного. К счастью для него – не дожил…
Судьбу Карела Чапека, дотяни он до 15 сентября следующего года, когда гитлеровцы вошли в Прагу, нетрудно угадать. Задолго до начала войны местные пронацистски настроенные круги грозили ему концлагерем. Можно не сомневаться, угрозу бы привели в действие (эсэсовцы отыгрались на его брате Йозефе, замученном в концлагере Бельзен-Берген накануне капитуляции). Но вскоре после мюнхенского сговора, который он предчувствовал, писатель умер.
Случилось это на рождество, когда люди еще поднимали бокалы, поздравляя друг друга с наступившим праздником. Кто мог подумать, что наступающий год будет первым годом мировой войны! Смерть чешского писателя, по словам историка фантастики, была "просто атомом той общей тьмы, что неудержимо наползала на Европу"[73].
Памфлет американца Синклера Льюиса появился в совершенно иной обстановке, нежели книга Чапека.
Досье по теме «Канун»:
СИНКЛЕР ЛЬЮИС
1885–1951
Видный американский писатель XX века, автор многих классических романов об американском "среднем классе": "Главная улица" (1920), "Бэббиты" (1922) и др. Бросил учебу в Йельском университете, чтобы примкнуть к группе социалистов. Первый среди американских писателей лауреат Нобелевской премии (1930).
Вслушайтесь еще раз, произнесите про себя название романа Синклера Льюиса. "У нас это невозможно"…
Карел Чапек, какую бы сугубо фантасмагоричную форму он ни выбрал для своей книги, рассказывал о вещах, европейскому читателю уже знакомых. Его американский собрат по перу заведомо шокировал соотечественников. Стоит представить себе среднего читателя той поры, чтобы немедленно вспомнить бессмертное гоголевское: "Но что страннее, что непонятное всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы"[74].
Слова сказаны совсем по другому поводу – но и здесь удивительно к месту.
Мысль Льюиса и вправду отдавала кощунством. Фашизм – и где, в "оплоте демократии"?! Нелепость, клевета… словом, какая-то вредная фантастика. Персонажи романа твердят заученные с детских лет заклинания: «У нас это невозможно» – а вокруг льется кровь и рушатся демократические устои, в которые столь уверовали жители этой страны. В финале мы видим Америку, превращенную доморощенными «сверхчеловеками» в свалку людских отбросов, разобщенную и задавленную террором, где на свободе лишь подонки и подхалимы; те же, кто не согнулся, – прячутся, убиты, замучены в концлагере… Все, решительно все возможно в Америке!
Европейцы тогда уже могли познакомиться с непременными подпорками "корпоративного государства", которым в романе искушал американскую нацию сенатор-демагог Уиндрип: погромами и лагерями. Можно было представить и дальнейшую эволюцию фашистского режима. Собственно, после "ночи длинных ножей", поджога рейхстага и развернутого вслед кровавого террора в Германии и представлять было нечего – достаточно читать газеты.
Художественный прогноз Синклера Льюиса заключался в другом. Он подробно исследовал "интерьер" фашистского здания, осветил явление изнутри. В глубине человеческой души как раз хранятся кирпичики, из которых сооружено это мрачное здание: молчаливое соглашательство тех, кто пасует перед наглой поступью невежд и бандитов.
Вспомним фразу Чапека о "заговоре образованных людей" (на память приходит еще умный фильм итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи "Конформист"). Издатель провинциальной газеты Джессэп из романа Льюиса тоже поначалу исповедует философию бытия над схваткой; во всем облике, в высказываниях и поступках Джессэпа сквозит нескрываемое гордо-ироничное презрение интеллектуала к обезумевшим недоумкам… Однако после их прихода к власти, насмотревшись всякого и побывав в концлагере, Джессэп разительно меняется: интеллигент выбирает "свою" сторону баррикады. Берет в руки оружие.
Буржуазный либерал, на глазах превращающийся в сознательного, закаленного подпольщика-антифашиста, – вот кого разглядел в дымке недалекого будущего Синклер Льюис.
Не его вина, что в родном отечестве не вняли словам пророка. Как ни старался писатель подчеркнуть реальность, пусть потенциальную, изображаемых им картин, вот уже полвека американская литературная критика упорно рассматривает роман как политическую "агитку", и не более того. Действительно, в 1934 году автор хотел своим романом проголосовать за переизбрание Рузвельта. Но в процессе работы книга зажила своей жизнью, раздвинув рамки первоначального замысла. Не заметить этого в романе Льюиса можно только при активном нежелании смотреть.
Между тем американский писатель разглядел в окружающей жизни многое. В частности, надвигавшуюся войну. На страницах романа она не успела разразиться, но после прочтения книги в душе остается ощущение неизбежности ее.
Кровные узы связывали поднимавший голову фашизм с войной,
Опыт столетия подтвердил, и не единожды, прогнозы Чапека, Льюиса и других выдающихся провидцев.
Когда к власти приходит фашизм, военная агрессия против соседей не заставит себя ждать. Как бы конкретно ни складывался "новый порядок", во все времена, на любой почве фашизму никуда не деться без военных притязаний.
Не была исключением и Германия. "Военно-силовые, геополитические доктрины прошлого играли теперь чисто социальную роль. Нацизм как бы втягивал их в себя, поглощал в непомерных размерах, выдавал в концентрированном виде. И он не мог иначе. В другом случае его диктатура не удержалась бы и года, и расовые и геополитические теории, как и все другое, так и остались бы достоянием философии, не выходящей за пределы пивных. Формой существования фашизма могло быть только военное насилие. И без него германский нацизм не был бы самим собой. Он распался бы"[75].
Горькую истину о том, что в XX веке дракона не умиротворить никакими жертвами, художники хорошо понимали уже в первые десятилетия века. У лучших из них, по крайней мере, иллюзии отсутствовали; внутренняя убежденность подсказывала деятелям культуры, что первыми, кого пожрет чудовище, будут как раз подстрекатели, те, кто его натравливал на соседей. Мрачное пророчество Карела Чапека начинало сбываться.
К скверным предчувствиям подталкивало все: и первые внутриполитические авантюры гитлеровской партии, и громогласные заверения ее лидеров о реванше, о возвращении "старой процветающей Германии", и, наконец, разрыв Версальского мира и начавшаяся бурная индустриализация страны, перевод ее экономики на военные рельсы.
Литература на континенте чутко уловила это предощущение всемирной катастрофы. У Герберта Уэллса в "Самовластье мистера Парэма" (1930) выведен образ некоего фюрера на английский лад, разогнавшего парламент и в союзе с другими диктаторами Европы заварившего кровавую кашу. Война полыхает в романе Чапека; у Синклера Льюиса фашиствующие путчисты только собираются напасть на соседнюю Мексику, по ясно, что их аппетит еще разыграется.
Как тут не увидеть будущих планов Гитлера. Когда находившегося в эмиграции Томаса Манна лишили почетного звания доктора Боннского университета, писатель откликнулся пространным письмом, в котором расставил точки над "i":
"Национал-социалистическая государственная система предназначена для одной-единственной цели, и в этом весь ее смысл: не допуская, безжалостно подавляя и искореняя всяческое противление и помехи, подготовить немецкий народ к "грядущей войне", превратить его в беспредельно послушную, не зараженную ни единой критической мыслью, слепую и фанатически невежественную военную машину. Никакой иной цели, никакого иного смысла и оправдания эта система иметь не может; она считает себя вправе принести в жертву свободу, справедливость, человеческое счастье, без колебаний совершить тайные и явные преступления, и все это во имя одной идеи – непременной закалки для войны. Лишь только отпадет идея войны как самоцель, вся система окажется не более чем живодерней для людей – совершенно бессмысленной и ненужной"[76].
Потому я столь основательно «застрял» на теме фашизма, что его история – это одновременно и военная история XX века.
Впрочем, на эту неразрывную связь "тирания – война" обратили внимание, оказывается, очень давно. Вот что, к примеру, писал Жан-Жак Руссо в "Суждении о вечном мире": "Легко помимо всего понять, что войны и завоевания, с одной стороны, и прогресс деспотизма – с другой, взаимно содействуют друг другу; что в рабски покорном народе можно вдоволь черпать деньги и людей, чтобы порабощать другие народы; что со своей стороны война создает предлог для финансовых поборов, а также не менее серьезную возможность иметь всегда под рукой большие армии с целью удерживать народ в повиновении"[77]. Понято в 1761 году!..
А в 1937-м (им датировано письмо Томаса Манна) гитлеровцы не скрывали своих обширных военных приготовлений. На полные обороты включилась щедро подкормленная иностранными "радетелями" немецкая военная промышленность, благо прекрасный испытательный полигон был рядом, в Испании. Германский военно-морской флот рос и укреплялся год от году и скоро был способен захватить контроль над океанскими просторами. Что до воздушного океана, то Геринг неоднократно похвалялся, что противники рейха еще содрогнутся от ударов "люфтваффе".
Итак, ближайшие военные приготовления гитлеровской Германии были как на ладони. Существовали еще глобальные, долгосрочные планы, но о них никто, кроме их авторов, не знал.
Так уж и никто?
В 1937 году лондонское издательство "Виктор Голланц" выпустило книгу никому не ведомого автора Марри (Мюррея) Константина "Ночь свастики". Ее забыли быстро, хотя, перечитывая это произведение сегодня (переиздано в 1985 году), не перестаешь удивляться. Как же могло случиться, что не заметили? Еще тогда – вовремя?
Лишь совсем недавно приоткрылась тайна авторства удивительной книги. Все, кто писал о ней ранее (автор этих строк не составляет исключения), были уверены, что написал роман мужчина. Однако выяснилось, что под мужским псевдонимом скрывалась писательница Кэтрин Бурдекин; она, по словам открывшего ее авторство американского исследователя Роберта Кроссли, "более, чем кто другой из авторов утопий, пережила почти полное забвение"[78].
Я был бы рад включить и ее в досье, но по сей день мои сведения о ней ограничиваются лаконичными датами жизни: 1893–1963. Почти полвека и они отсутствовали, а саму книгу невозможно было достать даже специалистам. А жаль. Если бы массовый читатель предвоенной поры отнесся к ней повнимательнее, то для многих не были бы неожиданными первые шаги по реализации кошмарных фантазий писательницы, предпринятые прототипами ее «героев». Люди, по крайней мере, были бы вооружены надежным знанием, чем эти шаги грозят.
…Почти семь столетий мир под властью фашизма. После успешной Двадцатилетней войны они делят территорию с союзниками-японцами. Цивилизации в нашем представлении больше нет; в германской оккупационной зоне, например, на ее развалинах воздвигнуты новые феодальные замки. Евреев уничтожили поголовно, похоже, та же участь ожидает христиан (снова гонимые, они тайно собираются в пещерах…). Все виды искусств, кроме музыки, запрещены.
Самые страшные страницы книги связаны с положением женщины в этом "тысячелетнем рейхе". О браке, любви, материнстве забыто напрочь. Единственное послабление мужчинам – разрешен гомосексуализм; женщины, согласно официальной идеологии, лишены души, и к ним относятся как к бездушным тварям, скоту для размножения. Сразу после рождения младенцев мужского пола у матерей отбирают, чтобы воспитывать в специальных интернатах. Родившихся девочек ждет судьба их матерей: обритые наголо, они всю жизнь проведут в клетках, постоянно будут недоедать, и от них еще потребуют беспрекословного повиновения хозяевам-мужчинам. Те иногда нарушают "устав нравов" и насилуют рабынь – но это так, мелкий проступок, на который начальство смотрит сквозь пальцы.
Не менее обстоятельно описана политическая и идеологическая структура "нового порядка". Вся власть в германском секторе принадлежит возрожденному военно-религиозному тевтонскому ордену (вспомнили и его!). Центральный догмат повсеместно внедренного культа Святого Адольфа гласит: Гитлер, которого миф рисует двухметровым, голубоглазым и светловолосым нордическим красавцем, давшим обет безбрачия, не был рожден смертной женщиной и не умер. Он будто бы явился на свет прямо из головы бога-громовержца, а, в возрасте тридцати лет живым вознесся на небо, предварительно основав на земле Священную империю.
"Вы должны уяснить себе, что вы на целое столетие являетесь представителями великой Германии и знаменосцами национал-социалистский революции в новой Европе. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которых требует от вас государство"[79]. Это уже не фантастика, так звучит 6-я из «Двенадцати заповедей поведения на Востоке», приобщенных к прочим обвинительным материалам Нюрнбергского процесса. Заповеди составлялись при активном участии Геринга, ну а как они были усвоены, старшее поколение знает на собственном опыте…
Только после окончания войны, после Нюрнберга, когда был приоткрыт покров над сверхсекретными планами "Ост" и "Барбаросса"[80], стало возможным в полной мере оцепить интуицию автора «Ночи свастики». Кэтрин Бурдекин все предвидела верно, но… в 1937 году все это приняли за чистую фантастику (как и похожий рассказ американца Стэнли Кобленца «Повелитель Трамерики» и многие другие произведения). Слишком дико, чтобы принять всерьез.
Да и обстановка в Европе менее всего располагала к фантазиям. События разворачивались столь стремительно, что перед их динамикой бледнели самые головокружительные сюжеты фантастов.
В год выхода романа "Ночь свастики" кресло премьер-министра Англии занял Невилл Чемберлен. Годом позже, осенью, состоялся мюнхенский сговор, и в Германии окончательно утвердились в мысли: Европа никуда не денется, теперь уступит. Тем не менее в новогоднем обращении к нации 1 января 1939 года Гитлер клятвенно заверял: "Германское правительство охвачено лишь одним желанием – сохранить мир, чтобы в предстоящем году удалось привести события ко всеобщему примирению"[81].
И ведь нашлись политики, поверившие клятвам уже зарекомендовавшего себя лжеца и провокатора. 9 марта английский посол в Берлине телеграфирует министру иностранных дел правительства Его Величества лорду Галифаксу: "Гитлер сам участвовал в мировой войне, и он решительно против пролития крови и гибели немцев"[82]. В тот день Германия направляет ультиматум Праге, требуя «согласия» на полную оккупацию страны. Через неделю оккупирована Чехия (где, как мы помним, незадолго до этого умер писатель, предвидевший всю эту ситуацию чуть ли не до деталей)…
Прежде чем перейти к фантастике военных лет, хотелось бы обратить внимание на другую крайность, существовавшую в литературе накануне войны: излишнее доверие к фантастике утешительной, обещавшей, что все как-нибудь обойдется и гроза пройдет стороной.
Я бы покривил против исторической правды, если бы ограничил разговор об отечественной довоенной фантастике яркими антифашистскими книгами Эренбурга и Алексея Толстого (можно вспомнить и редкие заходы на ее "территорию" других видных прозаиков – Виктора Шкловского, Вячеслава Иванова, Валентина Катаева). К сожалению, в то время уже успела обособиться и утвердиться совсем иная "научная" фантастика. Ее горизонты оставались недалекими – в прямом и переносном смысле.
Об этом написано много[83], и я лишь кратко очерчу сложившуюся к концу 30-х годов ситуацию.
О смелых идеях Алексея Толстого, "летящей" фантазии Александра Грина и даже об успехе раннего Александра Беляева в то время вспоминать было как-то неудобно. На смену первопроходцам заспешили эпигоны, популяризаторы-очеркисты, фактически изгнавшие из научно-фантастической литературы художественность. Под их пером она превращалась просто в уныло-дотошные популярные лекции для школьников. Породила «фантастика ближнего прицела» и свою разновидность военных сценариев – и вот в них, напротив, воображение отдельных романистов не сдерживал никакой здравый смысл. Этому способствовали и сложившиеся тогда настроения шапкозакидательства, обещания быстрой и сокрушительной, а главное – почти бескровной победы над врагом. Фантастам оставалось только нарисовать какое-то очередное «сверхоружие», с помощью которого обещанные чудеса казались более реальными. Иные варианты в годы сталинского режима никто разрабатывать не рискнул.
Среди многих победоносных реляций с будущих полей сражений в те годы особенно выделялась повесть Николая Шпанова «Первый удар» (1939). Советские критики уже высказались по ее поводу, но приведу только оценку специалиста, причем не литератора, а эксперта по военно-техническим проблемам, затронутым в повести.
Выдающийся авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев вспоминал, что "книгу выпустило Военное издательство Наркомата обороны, и притом не как-нибудь, а с учебной серии "Библиотека командира"! Книга была призвана популяризировать нашу военно-авиационную доктрину"[84]. Эта доктрина, по мнению писателя-фантаста, выглядела следующим образом: «Наши воздушные силы… за какие-нибудь полчаса вытесняют вражеские самолеты из советского неба, через четыре часа после начала войны наносят поражение немцам… Только таким рисовалось начало войны Н. Шпанову»[85].
Если бы только ему одному! В романе П. Павленко "На Востоке" (1936) агрессора громит столь мощная советская авиация, что в небе буквально становится тесно от военной техники. А кто из моего поколения не зачитывался в детстве "Тайной двух океанов" (1939) Григория Адамова! Но ведь и в этом популярном романе автор, мягко говоря, переборщил с идеей чудо-подлодки, в одиночку способной потопить флот противника… Забытый ныне писатель Н. Автократов в повести "Тайна профессора Макшеева" (1940) усыплял тревогу соотечественников "обещанием" таинственных лучей, с помощью которых можно взорвать боеприпасы противника по всему фронту. И т. д. и т. п.
Такая "научная фантастика" убеждала, что "техника сделает войну молниеносной и почти безопасной"[86].
Разумеется, сегодня мы, оценивая то или иное произведение научной фантастики, не станем столь придирчиво разбирать заложенные в нем конкретные технические идеи. Это прежде всего художественная литература, а не "библиотечка командира", не технический паспорт и не патент на изобретение. Но в те годы отношение к фантастике было иным (его сформировали сами же писатели и критики). Книжки фантастов "давали установку", поучали и претендовали на самое серьезное отношение к техническим частностям. Поэтому и вред наносили солидный.
Чем обернулись "утешительные" фантазии накануне войны (разумеется, фантастика лишь заострила их и высветила – прорастали они не на ее страницах), хорошо известно. Взваливать вину на какой-то отдельный литературный жанр, конечно, нелепо. Но и этот грустный опыт, мне кажется, не должен быть забыт.
Ни пугающие военные сценарии, ни бодренькая "фантастика ближнего прицела" отдалить войну, тем более остановить ее, не смогли. Она все-таки разразилась, подтвердив даже для самых недоверчивых справедливость "прогноза" научной фантастики. Наиболее трезвомыслящие писатели главное схватили верно. И когда сбылись самые мрачные их прогнозы, встали в солдатский строй.
В европейских странах, конечно, было не до фантастики: заговорили пушки. То авторы, кому позволял возраст, в буквальном смысле сменили перо на винтовку; многие с войны не вернулись.
Война убивала не только на фронте. Чапека она убила еще до начала военных действий. В 1940 году умерла талантливая шведская писательница Карин Бойе, едва успев закончить свой роман – леденящую антиутопию "Каллокаин". Видимо, невмоготу было даже на миг представить себе как кошмарное пророчество: управляемый "сверхчеловеками" мир-тюрьма начнет сбываться в реальности. А зимой сорок второго в оккупированном пригороде Ленинграда – Пушкине ушел из жизни Александр Романович Беляев. Вероятно, тоже в последние месяцы жизни вспоминая с горечью своего героя – немца Штирнера, вознамерившегося стать властелином мира…
Их ухода фантастическая литература не заметила. Европа уже испытала на себе точность ее прогнозов, самой же фантастике нужно было искать новые места обитания и новые цели.
Неудивительно, что в военные годы полигоном для испытания специфического "НФ-оружия" стали американские специализированные журналы научной фантастики (к тому времени насчитывалось их больше десятка[87]). Они были молоды и открыты для любых, самых шокирующих тем; а кроме того, сам жанр заставлял авторов искать на тех направлениях, где их коллегам-реалистам было не развернуться.
Конечно, не следует преувеличивать значение антифашистской фантастики той поры. Основная читающая публика предпочитала все-таки различные космические приключения или взбунтовавшихся роботов, нежели жесткий, правдивый (это в фантастике-то!) разговор о творящихся в Европе событиях. Примешивалось и типично американское отношение к "остальному" миру: долгое время для большинства читателей война оставалась делом в общем-то "европейским". Чем-то далеким и эфемерным. Даже нападение японцев на Пёрл-Харбор, в корне изменив ситуацию политически (США вступили в воину), в массовом сознании революции не произвело.
Но не стоит и преуменьшать то, что сделали тогда американские писатели-фантасты (и английские, которые часто печатались в США). При некотором общем безразличии к военной тематике проблема фашизма в американских журналах научной фантастики как раз обсуждалась широко. И достаточно серьезно в исторической перспективе (она в фантастике равно уходит в прошлое и будущее). Развитая интуиция, постоянная нацеленность на мысленный (безумный!) эксперимент плюс живые свидетельства очевидцев-иммигрантов давали возможность говорить о фашизме во весь голос. Пусть авторам, в основном молодежи, не часто сопутствовал успех литературный – свою социальную позицию дебютанты высказали ясно и недвусмысленно.
Предварю один недоуменный вопрос. Конечно, как можно забыть о яркой антивоенной прозе Хемингуэя и других ведущих американских писателей! Но речь идет об охвате темы не менее значимой – о войне, затеянной фашизмом. Читатель скоро сам убедится, что ее возможные последствия далеко выходили за рамки полотна под названием "Вторая мировая война".
Еще в 1933 году, сразу после прихода к власти Гитлера, ведущий американский журнал научной фантастики "Эстаундинг сториз" предложил читателям рассказ молодого автора Натана Шэкнера "Голоса предков". "Публикация рассказа, – говорилось в редакционной статье, – открывает актуальную дискуссию по проблемам социальных наук, нынешнего положения в мире и его будущем"[88].
Это рассказ о том, как путешествие в прошлое на машине времени приводит к классическому парадоксу, хорошо изученному фантастами: из-за случайного убийства в V веке варвара-гунна в нашем столетии бесследно исчезают все 50 тысяч его прямых потомков. В их числе – два боксера-финалиста: немец и еврей… Автор, как и всякий здравомыслящий человек, считает "расовый вопрос" абсурдным, особенно при той интенсивности, с какой перемешивались расы и народности Европы за последние два тысячелетия. И тем не менее диктатор некой воображаемой Среднеевропейской империи герр Гелльвиг (тут не удержался художник: на обложке журнала Гелльвиг изображен с усиками и характерной, спадающей на лоб челкой) с пеной у рта изрыгает проклятия "не-арийцам"…
Приглашение к дискуссии оказалось преждевременным. Читателей по-прежнему увлекали всевозможные звездные одиссеи, бунтующие роботы и тому подобная привычная тематика. Да и редакторы не торопились выпускать "чистую политику" на страницы журналов, сохраняя как бы молчаливый нейтралитет в европейских делах. Так, в ответ на энергичные письма читателей с требованиями немедленно прекратить публикацию произведений писателей-фантастов Германии редактор журнала "Уандер сториз" невозмутимо отвечал, что он, мол, вне политики[89].
Антифашистская тема заполнила страницы научно-фантастических журналов позже, когда война в Европе заполыхала вовсю. А еще точнее – после нападения японцев на Пёрл-Харбор, когда всемирный ее характер ощутили и в США.
Несколько примеров передают духовную атмосферу тех лет. Война не коснулась территории Соединенных Штатов, но нельзя сказать, что совершенно мирными остались журналы фантастики.
Англичанин-дебютант Джон Бейнон Харрис (впоследствии известный читателям под именем Джон Уиндэм) опубликовал в 1939 году рассказ "Аннигилятор Джадсона", в котором фантастический прибор помогает отбросить в иную историческую эпоху готовые к вторжению части "люфтваффе". Через два года другой начинающий писатель, на сей раз американский, в рассказе "Неудовлетворительное решение" насылает на Германию… "управляемое" радиоактивное облако. Имя молодого автора – Роберт Хайнлайн; с ним, как и с Джоном Уиндэмом, мы еще встретимся на страницах этой книги. Тем же 1941 годом датирован один из первых рассказов Альфреда Бестера – "Вероятностный человек", в котором молодой автор додумывает страшную мысль: что будет, если войну выиграет фашистская Германия.
…По проселочным дорогам (асфальтовые давно поросли бурьяном) обезлюдевшего, скатившегося к варварству континента рыскают банды ландскнехтов-грабителей, именующих себя "свастами". Человек нашего столетия каким-то образом попадает в этот мрачный мир. И стоило ему вытащить записную книжку, как одетые в доспехи потомки эсэсовцев схватились за мечи (как схватились бы за "шмайсеры" во времена написания рассказа): "Эта свинья, выходит, из читателей?! У него в руках книга!"
В своей тревоге Бестер не одинок. В 40-е годы выходит сразу несколько книг, описывающих воцарение Гитлера в Европе и установление "тысячелетнего рейха". Их давно позабыли, и только попадающиеся иногда в справочниках и библиографиях названия книг да краткие аннотации, как гул отдаленной перестрелки, напоминают о гремевших тогда боях. "Гибель Эдема" Д. Брауна и К. Серпелла, "Вторжение" X. Ван-Лупа, "Под звон колоколов" Э. Армстронга и Б. Грэйма, "Когда пришел Адольф" М. Хокина… О том, что поражение союзников в Европе неминуемо вызовет катастрофу и в Америке, пишут в этой стране В. Сэквилл-Уэст, Г. Мортон, У. Чемберс. А писательница Марион Уэст в 1942 году выпустила целый сборник под названием "Если мы проиграем".
Тревожное ожидание не рассеялось вплоть до самых последних месяцев войны. В 1943 году писатели еще завершали битву с фашизмом "умозрительно" – например, как в рассказе Карлтона Билза "Рассвет над Амазонкой" выкуривали последних гитлеровских недобитков из Южной Америки. Но чем ближе к победе, тем реальнее зрели опасения сепаратных переговоров. Не дай бог – договорятся…
Когда до окончательного разгрома фашистской Германии оставалось менее полугода, в США вышел роман Эрвина Лесснера "Победа-фантом", где эти опасения выражены недвусмысленно: Германия добивается легкого перемирия с западными союзниками СССР и спустя двадцать лет снова развязывает войну – на сей раз чтобы выиграть!
Гитлеровскую Германию не спасли ни последние судорожные попытки договориться за спиной Советского Союза, ни "чудо-оружие", которое ковал в адских кузницах Пенемюнде и концлагеря "Дора" Вернер фон Браун. Не помогла "тотальная война", развязанная в самом преддверии конца и стоившая новых жертв немецкому народу. История все расставила по своим местам: преступники, посягнувшие на весь мир, им же были низвергнуты в породившую их темную пучину.