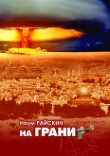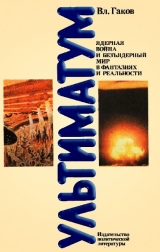
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)

Глава 2
ПРЕДЧУВСТВИЕ, ОБЕРНУВШЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВОМ
Что бы вы сказали, прочитав, к примеру, такое?
…Спичкой, поднесенной к пороховому погребу европейской политики, стало покушение на некую высокопоставленную особу на Балканах. Не прошло и месяца, как в опустошительную войну оказались втянуты все крупнейшие державы: Германия в союзе с Италией, Австро-Венгрией и Турцией и противостоящая им коалиция Франции, России, Бельгии и других стран (включая Сербию, с которой все началось). Англия, по обыкновению, хитрила и до поры до времени не объявляла войну Германии, предпочитая, чтобы другие таскали каштаны из огня. В скором времени война охватила весь евразийский материк – от Французской Ривьеры до Владивостока… Поначалу успех сопутствовал немцам: сражаясь на два фронта, они смогли связать действия русской армии в болотах Польши и нанести решительное поражение французам в Бельгии. После того как войска кайзера вошли в Париж, родилось мощное движение Сопротивления; позже оно вышвырнет оккупантов из страны и коренным образом переломит ход военных действий в Европе…
Стоп-стоп, тут что-то не так! Начало, худо-бедно, соответствует знакомой со школьной скамьи истории военных действий в 1914 году. А в конце… Словом, фантазия у автора не в меру разыгралась.
Совершенно верно, фантазии хоть отбавляй. Впрочем, и начало тоже ведь чистейшей воды выдумка! В это трудно поверить, но вы только что познакомились с "конспектом!" научно-фантастического произведения под названием «Большая война 189.. года: прогноз», написанного группой военных экспертов и журналистов во главе с контр-адмиралом Филиппом Коломбом. Впервые роман был опубликован на страницах английского иллюстрированного журнала «Блэк энд Уайт» в 1892 году – за двадцать с лишним лет (!) до рокового выстрела в Сараеве.
Перечитайте абзац, с которого начинается глава. По-моему, он словно приглашает поразмыслить на тему чудес, которые вытворяет человеческая фантазия. Казалось бы, она ко всему нас приучила – и вот, пожалуйста…
История научно-фантастической литературы буквально пестрит подобными прогностическими попаданиями "в десятку". Каждое, разумеется, проще всего объяснит! случайностью, хотя, как заметил Марк Блок, "совпадение – одна из тех причуд истории, которые нельзя просто зачеркнуть"[22]. Но фокус в том, что к началу нынешнего столетия, реализовавшего видения и стократ худшие, научно-фантастические сценарии будущих войн читателю… успели прискучить! Они исчислялись десятками, если не сотнями – эти обыкновенно бойкие и совершенно беспомощные в литературном отношении книги.
Сам факт их многочисленности говорит о многом. Впервые литература о будущем открыто заявила о своей "социальной ангажированности", связав себя с событиями и тенденциями настоящего.
И не могло это проявиться иначе как в кризисную эпоху.
Мир последних десятилетий прошлого – начала нынешнего века меньше всего навевает представление о времени тихом и умиротворенном, полоса относительно безоблачная сменилась, по словам В. И. Ленина, все "более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной"[23]. Все: искусство, наука, политика – сорвалось с привычных, орбит и понеслось неведомо куда.
В обстановке гнетущего ожидания еще более тяжких потрясений бурно прогрессирующая наука каждый миг добавляла новых хлопот. Стоило появиться какому-то новому открытию, призванному облагодетельствовать человечество, как его прибирали к рукам военные ведомства. Так было с радио, телефонами, телеграфом, дизельным мотором, многими достижениями химии, авиации, металлургии. Чуть позже разобрались с прикладным применением таких отвлеченных достижений науки, как радиоактивность, рентгеновские лучи, новая модель атома, квантовая механика, теория относительности…
Хотя люди во все времена верили в своего рода "научную панацею" против войны. Вот изобретут что-нибудь, откроют – и война станет бессмысленной… Этот "окончательный приговор" войне время от времени выносился даже не людьми наивными или утопически мыслящими – крупнейшими специалистами, гениями!
"…Оружие теперь так усовершенствовано, что новый прогресс, который имел бы значение какого-либо переворота, больше невозможен. Когда есть пушки, из которых можно попадать в батальон, насколько глаз различает его, когда есть ружья, из которых с таким же успехом в пределах видимости можно целить и попадать в отдельного человека, причем на заряжание требуется меньше времени, чем на прицеливание, – то все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена"[24]. Фридрих Энгельс пришел к этому выводу еще до франко-прусской войны.
Что же говорить о другом заявлении, сделанном позже: "Может быть, мои заводы покончат с войной скорее, чем ваши конгрессы. В тот день, когда два крупных армейских соединения смогут мгновенно уничтожить друг друга, все цивилизованные народы придут в ужас и распустят все армии"[25]. Все цивилизованные народы от ужаса, впрочем, быстро оправились и даже основали престижную премию за мир на средства автора приведенного высказывания – изобретателя динамита Альфреда Нобеля…
Кризисное время… Никогда до того двойственный лик научно-технического прогресса не проступал столь ярко. XX век, по меткому выражению Ильи Эренбурга, начался в 1914 году, если отвлечься от календарей. Ну а писателям-фантастам ничего другого не оставалось, как "приоткрыть" его чуточку раньше.
Закономерно, что и рождение научной фантастики, окончательное выделение ее в особый жанр, закрепление ее самостоятельности относятся к этому же кризисному времени. Если говорить о ее отношении к техническому прогрессу, а позднее – научно-технической революции, то связь прямая. Однако «в фантастике последних десятилетий прошлого века преобладали не чудеса техники, а живописания будущих войн»[26], – отмечают специалисты-историки этой литературы.
Рождавшееся столетие было чревато войной. Она незримо присутствовала в подсознании каждого человека, но воочию ее раньше других увидели те, кому это было положено "по долгу службы".
Начало увлечению военными прогнозами положила скромная 64-я страничная брошюра анонимного автора, вышедшая в Англии в 1871 году; называлась она "Битва у Доркинга".
Той весной в Европе было неспокойно. Продолжалась франко-прусская война, а готовый вот-вот пасть Париж стойко удерживали коммунары. Формально англичан это не касалось, но два тревожных предчувствия нарушали покой не утратившей великолепия империи, "в которой никогда не заходит солнце". Настроение портили, как нетрудно догадаться, угроза немецкого вторжения и модные на континенте социалистические поветрия – и еще вопрос, что больше тревожило грозного британского льва… Неуверенность и ожидание будущих неприятностей как бы сублимировал памфлет "Битва у Доркинга (Воспоминания добровольца)", напечатанный сначала в майском выпуске журнала "Блэквуд Эдинбург мэгэзин".
Сразу оговорюсь: это был отнюдь не первый британский военный сценарий. Но зато он появился сразу же после неожиданного для многих окончания франко-прусской войны, когда по Европе прокатилась волна национализма и военной истерии. Инкогнито автора скоро открыли: повесть написал сорокалетний кадровый офицер, ветеран кампании в Индии сэр Джордж Томкинс Чесни. Подполковник инженерных войск, оказавшийся, как ему представлялось, не у дел (Чесни отозвали в Англию для организации Королевского индийского инженерного колледжа), он в своем памфлете обрушился с критикой на преступную обстановку благодушия и некомпетентности, царившую в вооруженных силах Ее Величества.
Даром публициста сэр Чесни обладал, это несомненно. Эффектными, лаконичными мазками он обрисовал мрачную перспективу, которая ждет нацию, утратившую бдительность и чувство ответственности: молниеносная немецкая атака через Ла-Манш, оккупация Британских островов, после чего – позорный мир и утрата почти всех колоний. Дальнейшее представлялось и вовсе немыслимым: социалистическая тирания – в доброй-то старой Англии!
Интуиция "приравнявшего к штыку перо" подполковника не подвела. Он не просто обвинил правительство в бездействии и легкомыслии, но и обратил внимание на технические новинки, в корне изменявшие характер будущей войны. И время для публикации выбрал удачно… Для добропорядочного англичанина эпохи викторианского расцвета, которому гордыня и чувство национального превосходства впитались в кровь с рождения, больший кошмар, чем тот, что изобразил сэр Чесни, трудно было представить.
Подкоп готовили другие, Чесни только вовремя поднес фитиль.
Успех "Битвы у Доркинга" – социальный, а не литературный. "Очернитель" в мгновение ока превратился в горячего патриота – спасителя нации, вызвал целую волну воинственных лозунгов и призывов. Я не знаю, состоялись ли в связи с публикацией книги парламентские дебаты; но если да, то неудивительно – во всяком случае премьер-министру лорду Гладстону кое-какие разъяснения для прессы сделать пришлось.
В том же, 1871 году вышло отдельное книжное издание, за ним – неизбежный поток продолжений и подражаний (около десятка книг до конца года), а также переводов.
В течение следующих трех десятилетий мода на сценарии будущих войн не спадала, даже наоборот – количество их постоянно росло. Отныне каждая национальная литература, словно соперничая с другими, стремилась выдвинуть собственных "сценаристов".
В Англии это были Коломб и К°, не говоря обо всех многочисленных подражателях (хотя… чего стоит, скажем, одно название: "Горчаков и Бисмарк, или Европа в 1940 году"!). Тональность зависела от политических пристрастий автора. Так, известный писатель Уильям Ле Кье в романе "Война в Англии, 1897 год" (книга вышла за три года до описываемых событий) бьет, подобно Чесни, в набат и призывает к бдительности. В отличие от них, Роберт Кроми в романе "Следующий крестовый поход" (1896) успокаивает более оптимистичной перспективой: Британия объединяется с Австрией и побеждает Россию с Турцией, превратив Средиземное море в "английское озеро". Ужасы оккупации у Чарлза Глега ("Когда наступил голод", 1898) соседствуют со вполне утешительными картинами: Мэтью Шиль в романе "Желтая опасность", опубликованном в том же году, поет гимн англичанам, которые не только успешно сражаются с императорским Китаем, но и при первой возможности сами не преминут завоевать весь мир…
Вообще, история учит, что призывы к бдительности быстро оборачивались алчным имперским кличем: "Власть над миром!" И Англия в этом смысле не составляла исключения.
А что в других странах? Германию наводнили сочинения популярного автора – откровенного милитариста Августа Непмана. Во Франции вышла трилогия о будущей войне с Германией, подписанная "Капитан Данри" (псевдоним адъютанта и зятя генерала Буланже Э. Дриана, служившего инструктором в Сен-Сире, а позже – горькая ирония судьбы – павшего под Верденом). Американского читателя пугали "желтой опасностью". Местные издательства не только быстро перевели вышедшую в Лейпциге книгу с тогда еще загадочным названием «Банзай!» (автор Фердинанд Граутофф, писавший под эффектным псевдонимом «Парабеллум», описывал японское вторжение в США), но и выдвинули собственных воинственных «сценаристов». В одном сценарии Америку завоевывают китайцы, а в другом, наоборот, американский флот атакует японцев, как бы мстя авансом за Пёрл-Харбор.
Для полноты картины остается добавить, что и в далекой Японии нашелся автор, описавший будущую русско-японскую войну 1904–1905 годов. Роман одного из основоположников национальной научной фантастики, "японского Жюля Верна" Сюнро Ошикава "Подводный крейсер" вышел за четыре года до начала военных действий и остался неизвестен русскому читателю – в отличие, скажем, от книги Граутоффа и многих других, обильно переводившихся…
Я не читал большинства этих книг. Достать редкие сохранившиеся экземпляры даже на родине их авторов, как я себе представляю, большая проблема. А от необходимости оправдываться меня избавляет то обстоятельство, что почти все они – и романы, и авторы – забыты. Краткие аннотации в библиографиях сообщают минимальные сведения, позволяющие ощутить дух эпохи – и этого достаточно.
Шла генеральная репетиция решающих событий действительной истории. Тестам подвергалось все, что пригодилось бы в недалеком будущем; а в отдельных случаях писатели выходили на проблему, время которой придет не скоро.
Например, на проблему ответственности ученого за мир, в котором он живет, за жизнь на Земле.
В канун XX века известный американский астроном профессор Саймон Ньюком, позднее снискавший печальную славу энергичными попытками научно "закрыть" авиацию[27], дебютировал в фантастике. Герой его романа «Мудрость – вот защитник» (1900), тоже профессор-физик, открывает новый вид энергии, позволяющий создать невиданное по разрушительной силе оружие. Быстро разгромив европейские армии, он устанавливает и сам возглавляет всемирное правительство. Отмена войны в законодательном порядке – совсем неплохо, однако принципы будущего мироустройства, разработанные «интеллектуалом», внушают тревогу. Право на самоопределение в этом мирном будущем имеют только те, кто «обладает мерой ответственности»; по Ньюкому, к таковым можно отнести лишь представителей англосаксонской расы…
Все же отметим про себя: ученый – не политик – останавливает войну и провозглашает всеобщий мир. Правда, присутствует навязчивый расистский мотив «бремени» белого человека – и не у одного Ньюкома, о чем свидетельствует и роман некоего Д. Барни «Л. П. М. Конец великой войны», вышедший в 1915 году.
Это своего рода "вершина" американского технократизма. Книга просто пронизана высокомерным презрением ко всему неамериканскому. Снова ученый-одиночка, "сверхоружие", всемирное правительство "аристократов интеллекта"; что касается морального превосходства англосаксов, то автор его не только постулирует, но и всячески приветствует. А осуждает, наоборот, такие химеры, как "власть большинства, равенство всех людей, а также вечный мир, построенный на братской взаимной любви".
"Националистические эмоциональные призывы, – пишет английский исследователь И. Ф. Кларк, – в ту пору нашли естественное выражение в новой мифологии будущих войн. На деле это была лишь слегка замаскированная мысленная ревизия политической карты мира в соответствии с национальными интересами… В своей собственной, весьма странной манере авторы военных сценариев пытались привнести в индустриальную цивилизацию броненосцев и сверхскоростных турбин новый миф о Беовульфе, пропитанный насилием, chanson de geste [*]*
Героическая поэма (фр.)
[Закрыть] для нарождающегося века империализма, причем пересказать миф на возбуждающем языке массовой печати"[28].
Действительно, за редким исключением, военные сценарии не предупреждали о грозившей опасности, а…подстрекали на развязывание войны. Научная фантастика превращалась в прямой инструмент политики.
Правда, и в тех единичных случаях, когда авторы искренне желали предотвратить катастрофу, их призывы разносились в пустоту.
Самый поразительный пример такого рода – вышедший в 1904 году роман англичанина Эрскина Чайлдерса "Загадка песков". Автор снабдил книгу подзаголовком "Недавно полученные выписки из архивов секретных служб". Мастерски сделанный детектив, содержащий детали воображаемого заговора с целью подготовки вторжения немцев на Британские острова, – к тому же хорошо написанный – привлек широкого читателя (в отличие от десятков других военных сценариев). Но дальше пошло необъяснимое. В Германии книгу тотчас запретили и конфисковали все поступившие из-за границы экземпляры, на родине же писателя никто "пророческую" часть книги всерьез не воспринял… Роман переиздали лишь в 1940 году, когда Чайлдерса уже 18 лет как не было в живых (он был расстрелян во время гражданской войны в Ирландии за симпатии к республиканцам).
Из других примеров выделяется роман под характерным названием "Когда пришел Вильгельм" – так, в год начала первой мировой войны, дебютировал в фантастике популярный английский романист Гектор Манро, писавший под псевдонимом "Саки". И наконец, еще год спустя запоздало вышла анонимная книга «Марш Гинденбурга на Лондон» (интересно, ее тоже записывать по ведомству научной фантастики?)…
Пророческие книги, авторы которых, может быть и ошибаясь по части деталей, общую картину надвигавшейся катастрофы угадали с абсолютной точностью. А массовый читатель не воспринимал эти "фантазии" всерьез, хотя порой и зачитывал книги до дыр.
Прозорливые писатели и слепые читатели? Если б все было так просто… Ведь даже самые раскрепощенные умы приходили к решениям потрясающе наивным, когда дело доходило, к примеру, до прогнозов новой военной техники, уже существовавшей или находившейся на подходе, но не испытанной на полях сражений.
Военной технике суждено было сыграть едва ли не решающую роль в драме, предопределившей раздел и "перекройку" политической карты Европы. И тем не менее военные эксперты и полководцы – и даже обычно метко стрелявшие по мишеням будущего писатели-фантасты – демонстрировали "непонимание свойств нового оружия, не в том смысле, как стрелять (это хорошо знали), а гораздо в более широком плане". Дело в том, "что увеличение поражающей силы оружия в XX веке приобретало все больший военный, социальный, политический, психологический эффект. В нем нельзя было теперь видеть только средство убийства. Повышая свою силу и размножаясь, оно стало само по себе приводить к удивительным результатам, стало причиной социальных противодействий войнам, самому себе. Несмотря на свой гигантский рост, оно… ограничивалось в решающем – в своих политических возможностях"[29].
Понимание этого, как мы знаем, пришло только в нашем столетии.
Что касается писателей-фантастов, то у них, как это ни странно, военная техника долгое время едва поспевала за реальным прогрессом в этой области.
Одним из первых произведений о будущем библиографы считают анонимный памфлет «Правление Георга VI, 1900–1925» (1763). Его приписывают английскому автору Сэмюэлу Мэддену. Если что в этом «прогнозе» и угадано, то только имя и порядковый помер царствующего монарха. В остальном «XX век», в сущности, ничем но отличается от блаженной памяти XVIII: король с обнаженной саблей в руке ведет в бой кавалерию…
Но уже столетие спустя во Франции появились другие книги, автор которых обрушил на современников целую лавину возбуждающих, порой экстравагантных новинок военной техники. Правда, он вроде бы посмеивался сам над собой, и рожденные его фантазией картины поражали скорее зрительно (книги были превосходно иллюстрированы), но выделить его в череде писателей – "военных сценаристов" я просто обязан. Звали его Альбер Робида.
Досье по теме «Канун»:
АЛЬБЕР РОБИДА
1848–1926
Популярнейший французский художник-график, один из зачинателей научно-фантастической иллюстрации, писатель-фантаст. Служил в нотариальной конторе, затем профессиональный художник. Иллюстрировал Рабле, Сирано де Бержерака, Свифта, Фламмариона, Жюля Верна. Автор и художник книг "XX век" (1882), "Жизнь электрическая" (1883), "Война в XX столетии" (1883–1887).
Книги «зачинателя жанра научно-фантастической иллюстрации, достойного наследника традиций Гранвилля и Доре»[30]при его жизни пользовались успехом в Германии, Италии, России, а в 1900 году Робида поручили оформить «уголок старого Парижа» на Всемирной выставке. Он был воспитан на традициях знаменитого газетного романа-фельетона, в котором нашли себя и признанные литературные гранды – Александр Дюма и Жюль Верн. Неистощимый фантазер, увлекающийся, но ироничный по отношению к самому себе, он иллюстрировал все свои произведения (считая себя в первую очередь художником, что соответствовало истине), овеществляя, приближая к читателю свои необузданные выдумки. А может, наоборот: чтобы читатель, не дай бог, не слишком им верил…
В юбилейном двухсотом номере юмористического журнала "Ля карикатюр" за 1883 год появилось самое мрачное сочинение жизнерадостного французского писателя – его "Война в XX столетии". В журнальном варианте трагическая развязка наступает в 1975 году. Однако, спустя три года при подготовке книжного издания автор сдвинул дату: 1945 год! (Что и говорить, каждый раз, когда наталкиваешься на такое совпадение, трудно отделаться от совершенно еретической мысли: все-таки знал?..)
Сегодня нельзя без умиления разглядывать эти веселые картинки. Война будущего! Небо над Парижем кишмя кишит всяческими летательными аппаратами – один другого чуднее, «велокавалерия», похожие на улиток или черепах танки, артиллерийские динозавры, по сравнению с которыми «Большая Берта» – гигантское 42-сантиметровое орудие времен первой мировой войны – выглядит не страшнее какой-нибудь куверты далекого прошлого. Наивное детство… Но вспоминаешь, что рисунки были сделаны, когда еще не было на свете наших дедушек, первые воздушные шары вызывали восхищение зевак, до изобретения танка оставалось лет тридцать, а аэроплана – двадцать…
У меня есть альбом, в котором собраны многие графические работы Альбера Робида. Особенно хорошо разглядывать его наивные рисунки, бросая время от времени взгляд на экран телевизора (кстати, и это предвидел французский автор!), когда там стартуют "фантомы" с палуб авианосцев, демонстрируют свою ракетную "силу" подводные лодки, кипят полемические страсти вокруг боеголовок и перспектив "ядерной зимы". Неизбежная при таких сопоставлениях улыбка мгновенно исчезнет, стоит только перевести взор на книжную полку, где теснятся томики современных писателей-фантастов, тоже любящих попугать ужасами будущих войн. Неужели действительность снова окажется на порядок – на два, на несколько порядков! – кошмарнее самых мрачных сегодняшних фантазий?
Впрочем, воображение Альбера Робида не простиралось дальше технических диковин. Все, что касалось людей – от повседневных мод до модуса поведения, – словно застыло в его сознании на уровне fin de siecle [**]**
Конец века (фр.)
[Закрыть]. Оттого сегодня многие «серьезные» рисунки смотрятся как карикатуры: современники Робида словно внезапно окунулись в мир техники, с ними никак не «стыкующийся».
И все же… Бактериологическая и химическая войны, перенесение военных действий в воздух, радиокорреспонденции с поля боя, подводный флот, радиоуправляемая артиллерия. На фоне того, что сочиняли о будущей войне, фантазии Робида выглядели вызывающе смелыми. Многие посчитали их беззлобными шутками – и забыли. Напомнила о них начавшая выкидывать свои злые "шутки" реальность.
Он-то развлекался, верно. Но невеселые мысли вызывал прогресс военной техники, на перепаде веков словно сорвавшийся с цепи.
Грустно сознавать, что человечество с особой настойчивостью расходовало коллективный интеллект на изобретение более совершенных средств уничтожения себе подобных. Все рекорды побил XX век. Уже в первые его десятилетия, отмеченные мировой войной, размышлявшие о новых средствах ведения войны фантасты никого по-настоящему удивить не могли. Ежедневно, ежечасно творившееся безумие превосходило самое раскованное воображение.
Вспомним некоторые факты времен первой мировой войны.
Когда ранним утром 21 марта 1918 года немцы начали весеннее наступление на западном фронте, атаке, по обыкновению, предшествовала артподготовка. Все было "по обыкновению" для закаленных в сражениях солдат – кроме масштабов. Обычно скупые на эмоции страницы военных мемуаров донесли до нас эпитеты, более приличествующие романистам. «Ужасающий гром и землетрясение»… «Ужасающая канонада из всех, которые когда-либо слышал»… Автором первого высказывания был главнокомандующий германскими армиями генерал Эрих Людендорф, впоследствии соратник Гитлера, организатор мюнхенского путча. Второго – бывший морской и в скором будущем военный министр Англии Уинстон Черчилль.
Опытных военных и тех проняло…
В. И. Ленин в те дни писал: "…первый раз в истории самые могучие завоевания техники применяются в таком масштабе, так разрушительно и с такой энергией к массовому истреблению миллионов человеческих жизней"[31]. Машина убийства демонстрировала свою мощь на суше, на воде и под водой, в воздухе, методично перемалывая, сжигая, давя, разрывая на части, травя и топя жалкую перед лицом сбесившейся машинерии «человеческую массу».
Никаких особенных чудес фантастам выдумывать не пришлось. Или не удавалось – не знаю [***]***
Выискивая примеры каких-нибудь фантастических видов «сверхоружия», изобретенных авторами того времени, я наткнулся на произведение не литературы, а кинематографии, причем произведение… 1985 года! В американском фильме «Бигглз» как раз показано изобретение, которое могло бы радикально изменить характер первой мировой войны. Герой фильма – наш современник – по неведомой причине постоянно проваливается в 1917 год. Он принимает участие в дерзком рейде спецотряда союзников, охотившихся за таинственной германской «звукомашиной», превращавшей металл в труху, а человеческое тело – в липкую жижу. К счастью, рейд удается, и немцы терпят поражение. «Наша» история остается неизменной
[Закрыть]. На полях сражений первой мировой войны хватало своей реальной «фантастики».
Иногда посильнее эмоций впечатляют сухие факты, к которым следует отнестись повнимательнее. В период с 1915 по 1918 год германские цеппелины совершили 47 налетов на британские города и сбросили на них чуть меньше 200 тонн бомб (причем в некоторых атаках принимало участие до сотни дирижаблей). Не так много? Однако в ту пору достаточно было считанных экземпляров какого-нибудь новомодного чудо-оружия, чтобы посеять панику, а то и коренным образом изменить ход военной операции. Например, в начале войны у немцев было всего четыре "Большие Берты", а к окончанию – лишь вдвое больше. Но каждое орудие творило чудеса: при одном появлении железнодорожной платформы с ним считавшиеся неприступными бельгийские крепости сдавались в течение недели.
Аналогично обстояло дело с авиацией, отравляющими газами, подводными лодками. Кстати о подводных лодках…
Вероятно, почитатели бессмертного Шерлока Холмса знают, что его создатель – Артур Конан Дойл – сочинял также и научную фантастику. Однако рассказ "Опасность" был забыт уже при жизни писателя. Английский романист, чуравшийся политики, попробовал силы в военных прогнозах – но опыт не удался, и писатель никогда больше к этой теме не возвращался.
Было от чего прийти в уныние. Написанный еще в 1912–1913 годах, рассказ напечатан в лондонском журнале "Стрэнд мэгэзин" не когда-нибудь, а в июле 1914 года (!) – и немедленно получил квалифицированную отповедь в печати. Сарказм экспертов Адмиралтейства не поддавался описанию: воистину, куда только не заведут бредовые идеи беллетристов – война подводных лодок! Выдумают же такое…
К концу войны, когда на долю подводных лодок воюющих стран приходилось 192 потопленных боевых корабля, полагаю, настал черед саркастически улыбаться Артуру Конан Дойлу.
Война во много раз убыстрила практическое "внедрение" идей ученых и инженеров, но военным не прибавила проницательности. Об этом напоминает другая, не менее поучительная история – изобретение танков.
…С 1915 года в английских секретных военных документах замелькало нелепое слово tank (чан, котел). Высокие чины из военного ведомства уповали на загадочную "кухонную утварь" как на панацею и нещадно торопили инженеров. К осени 1916 года первая пробная партия "чанов" (у них появилось имя собственное: "Марка-1") выкатилась из заводских цехов и отправилась во Францию. 15 сентября у деревни Флёр, восточнее Амьена, англичане впервые рискнули ввести в бой новую технику. Восемнадцать из имевшихся тогда в наличии 49 клепаных стальных коробок на гусеницах шли по бездорожью на скорости 3 километра в час, паля из двух пушек и четырех пулеметов, установленных на каждом "чане". Это произвело впечатление: фронт, неколебимо стоявший в течение многих месяцев, был прорван сразу на глубину двух километров.
По меркам знаменитого "стояния на Сомме" это было своего рода достижение. И трудно упрекнуть противника в трусости. На воине солдат готов к любому испытанию, но только не к фантастике.
Пора вспомнить и о ней.
Официально танк изобрели англичане, хотя к апрелю следующего года в сражениях участвовали и французские боевые машины. Но только после окончания войны в архивах австрийского военного министерства (на здании которого в Вене красовалось изречение "Хочешь мира – готовься к войне") обнаружили составленный еще в 1911 году проект танка. Автором значился некто Бурштын. Папка с чертежами покрылась пылью, ибо никто в нее не заглядывал с тех пор, как бестрепетная рука чиновника вывела на титуле: "Осуществлению не подлежит". И все тут…
Известно, что и в России инженеры Менделеев, Пороховщиков и Васильев неоднократно представляли наверх свои проекты танков. Их постигла участь многих других замечательных проектов и изобретений, похороненных под ледяной глыбой чиновничьего равнодушия.
Но и это не самое удивительное. Проект танка, датированный 1912 годом, нашли позже и в английском военном архиве! На сей раз министерский чиновник, изменив традиционной британской сдержанности, написал просто: «Бред сумасшедшего».
Дальнейшие события показали, что англичане-то промашку чиновника-консерватора довольно быстро исправили. Но ведь английские военные эксперты похожими репликами встретили и другое, более раннее сообщение о танках – причем сообщение, весьма широко обсуждавшееся в печати!
Военный секрет – и "широкое обсуждение", что за нелепость? Удивляться не стоит. Речь идет о публикации научно-фантастического рассказа "Земноходные броненосцы". Автором был уже достаточно знаменитый Герберт Уэллс, а вот название журнала, опубликовавшего рассказ, звучало и вправду несколько легкомысленно: "Бездельник". Сущая безделица – подробное описание танков в 1903 году! – что и говорить…
Всякий раз, когда историк научной фантастики доходит до имени этого великого писателя, возникает естественное желание остановиться и перевести дух. Я даже не говорю о старомодном «снять шляпу» – уместна хотя бы просто уважительная пауза.
Период "после Уэллса" в научной фантастике уже не может быть описан теми же словами, что и предыдущий. Тут водораздел, поворотный пункт. В главном и в частностях.
С именем Уэллса и в военные сценарии пришло повое качество. К тому времени они трансформировались в однообразный ряд и уже начинали прискучивать. Эти книги выполнили роль запала, били читателям по нервам, создавали духовный дискомфорт. И в обстановке тревожного предчувствия – катастрофы, конца света, бог знает чего! – тему подхватила Большая Литература.
Действительность подгоняла. В преддверия кризисов пульс жизни заметно учащается, настоящий художник не может этого не заметить.
К перепаду веков на авансцену вышли два таких настоящих художника, чей талант был отдан нарождающейся научно-фантастической литературе. Идущий к закату и посмертной славе Жюль Верн и ворвавшийся в литературу талантливый новичок Герберт Уэллс.
Далее я намеренно не хочу выдерживать хронологической последовательности. Что касается Уэллса, то он и вправду наследовал безвестным ныне авторам военных сценариев. Жюль Верн писал о войне и раньше, с 1870-х годов. Достаточно мысленно произнести: "военная тема в фантастике конца XIX века" – и в памяти всплывут имена Верна и Уэллса. А все остальные забыты, и это справедливо.