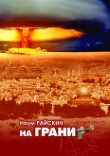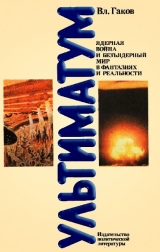
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Впрочем, не скрывает замысла и сам Милиус, во всеуслышание заявивший: да, это картина о "сверхчеловеке", "белокурой бестии". Что касается идеологии, когда-то, помнится, поставившей на эту бестию, то он, Милиус, не только не намерен падать в обморок от обвинений в фашизме, но, напротив, гордо считает себя учеником того самого – бесноватого!
Теперь, когда прояснено кредо постановщика "Красного рассвета", можно сказать два слова о сюжете. В фильме беззащитную Америку – которую все предали: союзники, ООН, "третий мир"… – с невероятной, какой-то немотивированной жестокостью завоевывают советско-кубинско-никарагуанские десантники! Они расстреливают заложников, грабят и насилуют, покрывают Америку сетью концлагерей, не забыв создать что-то вроде "вишистского правительства" из трусов-коллаборационистов. И если бы не отважные "юные мстители", американские школьники, партизанящие по горам и лесам, лежать бы оплоту западной демократии в руинах, как некогда Риму.
Что до общей оценки фильма, то на ум приходят только два слова: зло и глупо. Настолько зло и глупо, что оккупанты в этой картине – все, естественно, на одно "азиатско-латиноамериканское" лицо – изъясняются почему-то на ломаном русском, а перевод их речи дается в субтитрах [**********]**********
Впрочем, память подсказывает аналогичный пример из истории советского киноискусства. В фильме «Секретарь райкома», снятом в 1942 году, тоже, помнится, один партизанский отряд чуть было в одиночку не разгромил все германские силы, принимавшие участие во вторжении на советскую территорию. И оккупанты тоже почему-то обращались друг с другом на «ломаном русском». Фильм этот по совершенно непостижимой для меня причине неоднократно «крутили» по телевидению еще в конце 70-х годов, когда отдельные, сцены – вроде митинга оккупантов, на котором немецкий генерал обращается к своим со словами: «Зольдатен феликая Германия!» – казались уже какой-то не очень приличной пародией. Но это еще можно объяснить временем выхода картины: война была в разгаре…
[Закрыть]. И этот «русский язык» под стать всему фильму как кинематографическому (не хочется употреблять всуе слово «художественному») целому.
…Я смотрел картину в Москве во время одной из встреч советской и американской общественности. Сидевшие в зале русские хохотали; кажется, весьма неловко себя чувствовали и американцы, когда говорили со мной о «Красном рассвете».
Зло и глупо. Пожалуй, этой оценки заслуживает вся подобная продукция, состряпанная на тему «русские идут!». Правда, глупость, да еще и агрессивно-злая, часто не такая и безвредная, результат ее дает себя знать и сегодня. А кроме того, опыт с «Красным рассветом» был, видимо, учтен, и о последнем «шедевре» такого рода – нашумевшем телесериале «Америка» – не скажешь, что делали фильм глупцы.
Об "Америке" у нас много писала пресса – писала разнообразно, хотя не всегда, на мой взгляд, точно. Добавил огня в споры и исполнитель главной роли известный американский актер Крис Кристофферсон – известный, кроме всего прочего, и своими прогрессивными убеждениями! И хотя его выступления по советскому телевидению во время работы московского форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» мало кого убедили, некоторую новую краску в понимание картины (которой, к сожалению, советский зритель не видел) он добавил.
А во время встреч с американскими любителями фантастики, писателями и "фантастоведами" мне приходилось слышать и такое: это-де совсем не антисоветский фильм, а, напротив, весьма робкая критика рейгановской администрации! Впрочем, почти все соглашались, что сериал не получился – скучно…
Я потратил час времени, чтобы посмотреть хотя бы начало "Америки", и остался при своем убеждении. А оно у меня сформировалось после чтения "романа" Брауны Паунс под тем же названием, представляющего как бы литературную запись сценария Дональда Рая (он же, кстати, и режиссер-постановщик сериала). Так уж получилось, что раньше было знакомство с книгой.
Подробно пересказывать сюжет "Америки" – значит еще раз повторять все то, что читатель уже узнал из этой главы. Ничего оригинального, кроме написания слова "Америка" на "русский лад" да поднимаемого вверх ногами американского флага на флагштоке, сценарист не выдумал. А как режиссер – лишь снял эпизоды вторжения поэффектнее, чем это делали его коллеги десятилетие назад.
Но вот на прологе к «роману» Паунс считаю необходимым остановиться. Он совсем не глуп, этот пролог.
Начать хотя бы с первой фразы: "В истории человеческого недомыслия надменные фантазии о военном превосходстве и патетические иллюзии национальной безопасности часто играли фатальную роль. Великая Китайская стена, испанская Армада, линия Мажино – все это мыслилось несокрушимым. И пало. И вместе с укреплениями пали не только правительства, но идеалы, не только нации, но те уникальные аспекты человеческого духа, которые составляли суть завоеваний цивилизаций"[31].
Далее, как и следовало ожидать, идет язвительный панегирик американской обороне и мощи американской системы коммуникаций. Ибо сила обернулась ужасающим бессилием, а колосс оказался… нет, не на глиняных, а на "электронных" ногах! Чем не замедлило воспользоваться Советское правительство, решившее одним ударом покончить с собственными внутренними проблемами и с американской политической и технологической гегемонией в мире.
Без предупреждения тихим утром в пятницу началась атомная война. Она и прошла на удивление тихо – совсем не так, как описывали в своих книгах писатели-фантасты и изображали в кинокартинах режиссеры. Армагеддона с миллионами жертв, эффектными пожарами и вздымающимися над горизонтом ядерными грибами не было. Просто высоко в атмосфере над территорией Америки были взорваны четыре огромных ядерных устройства. «На Земле услышали лишь низкие раскаты далекого грома. Жертв, радиоактивных осадков, разрушений не было. Но взрывы мгновенно отозвались во всех без исключения компьютерных сетях, во всех телефонных линиях, банковских системах и на всех электростанциях от штата Мэн до калифорнийского города Сан-Диего. Детонация создала мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), подобно сотням тысяч молний избирательно пронзивший нервные узлы Америки. Огромные компьютерные банки данных были отныне бесполезны. Катушки электрогенераторов с шипением сгорели все до одной. Телефоны замолкли. Век Коммуникаций прекратил свое существование в одну миллисекунду, и вместе с ним канула в небытие американская военная, политическая и экономическая гегемония»[32].
Американский президент был поставлен перед выбором: сдаться, согласиться на всеобщее разоружение, уничтожение долларовой системы и потерю национального суверенитета – или сопротивляться, собрав лишь немногочисленные силы, которые скорее всего были обречены на поголовное уничтожение. Политический лидер, для которого человеческая жизнь не пустые слова, не мог выбрать второе…
Так Америка пережила первую в своей истории и самую бескровную – из всех воображаемых историй, описанных фантастами, – оккупацию. Правда, множество "неблагонадежных" было сослано в концлагеря, а кто-то ушел в леса партизанить, но жизнь "в общем и целом" наладилась и под оккупантами. Разумеется, нашлись свои квислинги [*********]***********
Квислинг, Видкун – организатор и лидер фашистской партии Норвегии. Военный преступник, содействовал захвату страны фашистской Германией, после чего стал премьер-министром. Казнен в 1945 году. Имя стало нарицательным для предателей своего народа.
[Закрыть]– им-то в романе достается больше критического заряда, чем русским.
Да и оккупанты совсем не те, что, скажем, в "Красном рассвете" (хотя кадры из фильма, на которых танки давят бегущих людей, или зал сената США, заваленный трупами расстрелянных прямо тут же сенаторов, смотреть без содрогания невозможно). "Кто были эти советские – ставшие администраторами, надсмотрщиками и боссами Америки? Удивительно, но они никак не подходили под наши стереотипы, почерпнутые из времен "холодной войны". Не свирепые "комиссары с густыми бровями" и не разбушевавшиеся грубияны, дующие взахлеб водку и несущие одну идеологическую банальность за другой. Нет, это были вполне современные мужчины и женщины – культурные, в меру прагматичные, вполне эффективно справляющиеся со своей работой, очень часто милые и в основном не лишенные человечности. У них было чувство юмора, желания, мечты. Их мечтой был мир, объединенный и движимый вперед единым механизмом, предсказанным Марксом и Лениным: "От каждого – по способностям, каждому – по потребностям". Вообще говоря, ничего плохого в этом лозунге… Советские захватчики завоевали страну не силой, а одержав куда более полную победу: они внедрили новую мифологию"[33].
Думаю, дальше можно не продолжать – сдвиг от "лобового" антисоветизма к "мягко-интеллигентному" налицо. Думаю также, что лет тридцать – тридцать пять назад за подобные высказывания о "русских оккупантах" автор книги и режиссер-постановщик вполне могли бы "загреметь" в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности…
Времена действительно меняются – и вместе с ними формы пропаганды, видоизменяется конкретный "образ врага". Но когда же изменится само отношение к этому образу?
Увы, в американской научной фантастике последнего десятилетия на память приходит только одно произведение, где, правда, очень осторожно, с многочисленными оговорками и "микровыпадами" в наш адрес, по проводится идея сотрудничества двух сверхдержав в деле общего выживания человеческой цивилизации на Земле. Правда, для этого, по мнению авторов фильма "2010: одиссея-2" (1984) – режиссера Питера Хаймса и всемирно известного писателя-фантаста Артура Кларка, – нужно еще осуществить совместный полет в космос. И там, среди звезд, далеко от Земли, вместе задуматься над ее судьбой…
Эту главу я хочу завершить возвращением к Кларку, к его (с Кубриком) фильму "2001: космическая одиссея", с которого начинался мой рассказ, и к фильму-продолжению. Без упоминания об этих двух картинах – и книгах Кларка – тягостное ощущение, которое могло остаться у читателя после знакомства с этой главой, боюсь, никогда не развеется.
Напомню, что первый фильм вышел на экраны Америки в 1969 году, и тем же летом счастливая судьба "занесла" картину в Москву на кинофестиваль. Для большинства кинозрителей, не сомневаюсь, то было первое знакомство с мощью современной кинофантастики, с ее новыми – поистине фантастическими – техническими возможностями.
Теми июльскими днями в зале незримо присутствовало космическое мироощущение. Меньше месяца оставалось до старта "Аполлона-9" к Луне, и это событие напряженно ожидали не только по ту сторону океана…
Можно себе представить волнение, которое охватило нас, когда на огромном экране показали Луну почти освоенную, обжитую учеными разных стран. Причем снято это было так искусно, что в полной мере создавалось впечатление документальности происходящего!
Легкие трения между "нашими" и американцами в фильме едва намечены. Зато извечное, как считали, видимо, авторы картины, чувство агрессивности – каинова печать человечества – программно заявлено в прологе. Но почему же тогда большинство рецензентов усмотрело в финальных кадрах картины смысл, который в нее не вкладывали постановщики?
Ведь нигде, ни единым намеком в фильме не сказано, что Звездный Мальчик – сверхчеловек, в которого, следуя воле неведомого Вселенского Разума, превратился астронавт Боумэн, – летит на Землю с целью предотвратить ядерное столкновение сверхдержав.
Но именно это и увидели. Почувствовали что-то такое, что сами создатели фильма в процессе работы над ним, может быть, и ощутили – но подсознательно. Какое-то настроение, предчувствие, тревога…
Ключ к "пониманию" финальных кадров позже дал Артур Кларк. Видимо, он остался неудовлетворен общей атмосферой загадочности в финале, за которую, разумеется, ответственность нес режиссер, и в "романе" (фактически – беллетризованном сценарии), вышедшем в том же году, постарался все разъяснить…
Досье по теме «Ультиматум»:
АРТУР ЧАРЛЗ КЛАРК
Род. в 1917 г.
Выдающийся английский писатель-фантаст и популяризатор науки, один из классиков современной научной фантастики. Окончил Оксфордский университет (физика). Во время второй мировой войны служил в ВВС, работал на радарных станциях. Президент Британского межпланетного общества (1950–1953). Автор книги об атомных исследованиях в Великобритании "Рождение бомбы" (1961). С 1956 г. – гражданин Шри-Ланки. Дебютировал в фантастике в 1946 г. Автор романов "Конец Детства" (1953), "Город и звезды" (1956) и др. Лауреат высших премий в жанре фантастики и Премии Калинги, присуждаемой ЮНЕСКО за вклад в популяризацию науки (1961).
В заключительной фразе романа (к сожалению, вместе с последней главой она «выпала» из русского перевода), действительно, есть намек на ядерную опасность. И ощущение, что Звездный Мальчик – это некий мессия, посланный сверхцивилизацией, чтобы спасти неразумное, заигравшееся в свои ядерные игрушки человечество. Всего лишь намек. И, однако, он задает такое прочтение романа – и новое мысленное возвращение к фильму, – что у меня не было сомнений, включать ли в этот исторический экскурс «2001-й».
Вот какой сценой заканчивается роман. Звездный Мальчик подлетает к Земле: "В тысяче милях под ним – он чувствовал это совершенно отчетливо – пребывавший в сонной дреме механизм, несущий смерть, внезапно пробудился и вяло задвигался на орбите. Разрушительная энергия, которой он был наполнен, не представляла опасности для Звездного Мальчика, но он все же предпочитал бы видеть небо над планетой очищенным от всего этого. Достаточно было легкого напряжения воли – и все эти кружащиеся на своих орбитах мегатонны вспыхнули огненными цветами в полной тишине, подарив спящей половине человечества дополнительный, незапланированный восход.
Звездный Мальчик ждал, осмысливая свои еще не опробованные возможности. Хотя он был властелином этого мира, уверенности в том, что делать дальше, у него еще не было.
Но во всяком случае придется задуматься и об этом"[34].
Как мало порой нужно художнику. Едва сорвавшееся с его уст слово и срезонировало! С тайными предчувствиями читателей и зрителей, с их невысказанными страхами и от себя самих скрываемой надеждой.
Если финал романа и фильма "2001: космическая одиссея" допускал все же вольную интерпретацию, то в романе-продолжении, добросовестно и без всяких, режиссерских изысков перенесенном на экран, все предельно точно оговорено.
Члены международной экспедиции, посланной к Юпитеру на корабле "Леонов", остро чувствуют, как назревает ядерный конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И уже знакомый: нам Звездный Мальчик – кто он или что он сейчас такое, никто уже не может сказать определенно – тоже ощущает, как цивилизация, развившаяся по воле его «родителей» на Земле, подошла к краю пропасти… Руки советского и американского космонавтов, протянутые друг к другу и сомкнувшиеся над спутником Юпитера, символизируют взаимопонимание, достигнутое в космосе. Чтобы протянуть эти руки над бездной предрассудков и на Земле, потребовалось все-таки вмешательство свыше. Сверхразум Вселенной вновь напомнил о себе, и Юпитер превратился в маленькую сверхновую звезду! «Вифлеемский знак» был увиден и в Москве, и в Вашингтоне, после чего оба правительства отзывают свои войска из района предполагаемого конфликта.
Можно поставить под сомнение действенность "высших сил" (при желании это произведение можно прочесть и как неохристианскую притчу о мессии-избавителе). Но на фоне того, о чем я только что рассказывал, побольше бы таких "уязвимых" примеров!
И все-таки – "придут ли русские" завоевателями в Америку?

Глава 8
САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
Русские не придут.
"Русские никуда не идут и идти не собираются. Им всего в достатке в собственном доме, в нем они и намерены оставаться, занимаясь своими делами. Двести с лишним лет назад легендарный американец Поль Ревере поднял в ружье своих сограждан тревожной вестью: "Англичане идут!", получив исторический патент на эти слова. Тогда англичане действительно шли усмирять взбунтовавшиеся колонии…"[35]
Как убедить сегодня в нелепости аналогий тех, кто усиленно сопротивляется очевидности? Кого оболванивали с детства, из того заученное не вышибешь никакими контраргументами. Да и "учителя" уж больно постарались…
"Kill Commy for a Mommy!" ("Убей коммуниста ради своей мамочки!") – это-то никакая не "пропаганда", я сам видел – хотя, признаюсь, всего раз-два – подобные значки на американцах. В Соединенных Штатах продается множество шутливых значков, а написано на них зачастую такое, что нам покажется неуместным для вышучивания (американцы – те просто нос задирают от гордости за свою свободу от каких-либо табу). Но если б только значки!
Переубедить действительно трудно. Для читателей и слушателей с "того" берега Атлантики, десятилетиями воспитывавшихся в духе недоверия ко всему, что произносится с берега "этого", любые доводы будут казаться пропагандой. Приходилось сталкиваться с этим и в 1988 году – на Всемирной конвенции в Новом Орлеане, в самый разгар моды на все "советское"; когда даже Афганистан перестал быть камнем преткновения, многие американцы по-прежнему не верили…
А между тем пожелай они – и один частный пункт моей "пропаганды" можно было бы легко проверить, факт отсутствия в советском искусстве творений, аналогичных фильму «Красный рассвет».
При всем желании, уверен, не найти в нашей фантастике ни картин советской оккупации Соединенных Штатов, ни ужасов "американского нового порядка" на советской территории. Нет таких произведений (хотя рецидивов времен «холодной войны», конечно, хватало и у нас, и о некоторых еще будет сказано)… Стоило завести речь о научной фантастике, как дискуссия о равной ответственности двух пропагандистских машин – советской и американской – по созданию «образа врага» становилась для моих оппонентов попросту невыгодной.
Любая пропаганда в какой-то мере несет за это ответственность, что прекрасно показано в книге Сэма Кина «Лица врага». Про американскую пропаганду нам все ясно с детских лет; что касается аналогичных упреков в наш адрес, то их в течение долгого времени «отметали с порога», хотя сегодня следует наконец признать: основания для них были, и винить за это нам некого, кроме себя самих.
Можно спорить с Кином о мере, об интенсивности пропаганды, но факт остается фактом: в создание образа «американского врага» наше искусство внесло свой весомый вклад.
Только вот советская научная фантастика, кажется, оставалась сравнительно чистой от всего этого.
Если рассматривать ее как специфическое "зеркало" главенствующей в обществе идеологии, как модель его представлений о собственных перспективах, целях и идеалах, то пресловутого «равенства» мы не обнаружим. Утверждаю вовсе не с позиций «квасного патриотизма»: областей, в которых наша фантастика (на мой взгляд, по крайней мере) уступает западной, достаточно. Даже если говорить о политике, критические замечания в адрес писателей-соотечественников найдутся у любого советского критика… Но чего не могу вообразить, так это советского аналога спецномеру «Кольерс» или фильму «Америка».
Справедливости ради помянем и некоторые собственные грехи. К счастью, не было крупномасштабных вторжений, атомных бомбардировок Вашингтона или американских концлагерей на советской территории. Зато шпионы и диверсанты "оттуда", из-за океана, одно время в советской фантастике встречались столь же часто, как инопланетяне или роботы. Однако как тенденция подобная «фантастика» давно канула в небытие.
Кто, кроме дотошных библиографов и энтузиастов-фэнов, сегодня помнит "вершины" ее – вроде романа Валентина Иванова, оптимистично названного "Энергия подвластна нам!" (1951), в котором доблестные чекисты раскрывают заговор иностранных спецслужб, собиравшихся произвести провокационный ядерный взрыв на территории СССР! Подобные сюжеты с тех пор превратились в легкую мишень для не утруждающих себя пародистов… Вот почему на вопросы американских писателей-фантастов и читателей этой литературы, было ли у нас нечто подобное "Красному рассвету", я убежденно говорил "нет".
Но и на следующий вопрос: "А не запрещена ли вообще у нас тема войны, тем более атомной?" – тоже отвечал отрицательно. Это встречало еще большее недоверие – приходилось приводить факты.
Пришло время поговорить о советской "военной фантастике".
Пока мы не разобрались с этим, весьма мало, надо сказать, изученным вопросом, дальнейший диалог вряд ли пойдет гладко, а вести его придется, причем по проблеме отнюдь не фантастической. Скажи мне, какие "ядерные страхи" тебя посещают и в какой мере ты гонишь их прочь, и я скажу тебе, насколько ты сам представляешь опасность для окружающих. Вероятно, так сформулировал бы проблему последователь психоаналитической школы Юнга (впрочем, и к психоанализу мы еще вернемся). Но все равно, даже если вы не сторонник его, литература, в которой совсем запрещена тема ядерной войны, вызовет у вас серьезные подозрения и в отношении литераторов, молча согласившихся с этим запретом, и в отношении общества в целом.
К сожалению, взгляд на советскую научную фантастику как на изначально "умиротворенную" (во всех смыслах) превратился на Западе в устойчивый стереотип. А поскольку воюют и по сей день в разных уголках планеты и идеи о будто бы присущей роду людскому имманентной гуманности все чаще сталкиваются с ужасающими примерами обратного, то и вся советская фантастика в таком случае предстает безнадежно-утопической.
Однако это не так.
Странно, если бы это было так. Слишком ничтожный (по сравнению с испытанным кошмаром) срок прошел с той – последней – войны, что унесла десятки миллионов советских жизней. Многие из тех, кто пишет сегодня научную фантастику, сами воевали; да и авторы помоложе не могут не помнить о войне… Обращение к ней в произведениях советской фантастики (если это не пример откровенной спекуляции на святой теме – а они конечно же встречаются) не только долг памяти. Это еще и фучиковский призыв: "Будьте бдительны!" Не допустите снова такое… Поэтому неудивительно, что на страницах книг, снабженных не требующими расшифровки буквами "НФ", бок о бок с привычным в этой литературе космонавтом в скафандре идет герой, который куда уместнее смотрелся бы в реалистической военной прозе: солдат в выцветшей гимнастерке и в галифе, со стареньким ППШ наперевес.
…Он прямо выведен в рассказе волгоградского писателя Геннадия Мельникова "Ясное утро после долгой ночи" (1985). Последний солдат второй мировой, заслуживший вечную жизнь (так считают его высокомогущественные потомки). Каждое утро старый солдат просыпается в знакомом, но словно застывшем во времени мире, встречается с соседями по двору, не подозревая, что этот уголок прошлого искусственно, специально для него создан благодарным будущим.
Память о сражавшихся за завтрашний день не покинет живущих в нем и на Земле, и на дальних звездных трассах, которые со временем станут новым, необъятным домом для человечества. Оттуда, со звезд, возвращается на Землю и в свое прошлое, где не окончен бой с фашизмом, солдат Саул – герой повести "Попытка к бегству" (1962) Аркадия и Бориса Стругацких.
О фашизме признанные лидеры советской научной фантастики знают не понаслышке.
Досье по теме «Ультиматум»:
АРКАДИЙ НАТАНОВИЧ СТРУГАЦКИЙ
Род. в 1925 г.
Ведущий советский писатель-фантаст, пишет в соавторстве с братом, Б. Стругацким. Окончил Институт иностранных языков (по специальности переводчик с японского). Участник Великой Отечественной войны, воевал на Дальнем Востоке. После службы в армии работал редактором в издательстве.
Досье по теме «Ультиматум»:
БОРИС НАТАНОВИЧ СТРУГАЦКИЙ
Род. в 1933 г.
Окончил Ленинградский государственный университет (по специальности – вычислительная математика). Работал в Пулковской обсерватории. Братья Стругацкие дебютировали в фантастике в 1957 г. Авторы более 20 книг: "Трудно быть богом" (1964), "Пикник на обочине" (1972), трилогии "Обитаемый остров" (1971), "Жук в муравейнике" (1980) и "Волны гасят ветер" (1984) и др. Премия "Аэлита" (1981). Государственная премия РСФСР (1987, Б. Стругацкий).
У Стругацких свой счет к войне (собственно, это счет всего их поколения), заставшей братьев в Ленинграде; блокада отняла у них отца… Потому и герой их повести возвращается в прошлое с оставшейся обоймой. Довоевать, закончить свое дело там, чтобы действительно наступило будущее, в которое он попытался убежать. В его прощальной записке – завещание и своему военному времени, и тому светлому миру, в котором войны позабыты навсегда: «Дорогие мальчики!.. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь… Делайте свое дело, а я уж доделаю свое. У меня еще целая обойма»[36].
Попытка бегства в мирное и безмятежное будущее не удалась. Не только в данной конкретной повести, но и во всей послевоенной советской научной фантастике, если понимать название повести Стругацких как метафору. Запрет наложен не какими-то особенными физическими законами – что они писателю-фантасту! – а скорее законами совести. Мирным будущее само по себе не станет, надо за него побороться, выстрадать его. Боролись, дрались за него в прошлом – может, понадобиться и сейчас. Как тут расслабишься, когда вновь зашевелились «коричневые» и «серые», в форме цвета хаки, забряцали оружием стратеги, которых прошедшая война как будто ничему не научила…
Приходится драться. И не с теми, кто уже заражен бациллой милитаризма (они – жертвы, их изолировать и лечить надо), а с самой этой опасной болезнью. И в предстоящей драке будут и жертвы, советские писатели-фантасты хорошо это понимают.
Одно только творчество братьев Стругацких в достаточной мере опровергает легенду о "мирно-розовой" советской научной фантастике.
Только что закончилась "ограниченная" ядерная война на далекой, до боли похожей на Землю планете Саракш – месте действия повести Стругацких "Обитаемый остров" (1971). Картины, нарисованные фантазией писателей, менее всего уводят мысль далеко к звездам – скорее рождают вполне понятную "земную" тревогу:
"Внизу – рукой подать – оказался широкий проход между холмами, и по этому проходу, вливаясь с покрытой дымом равнины, сгрудившись, гусеница к гусенице, сплошным потоком шли танки – низкие, приплюснутые, мощные, с огромными плоскими башнями и длинными пушками. Это были уже не штрафники, это проходила регулярная армия. Несколько минут Максим, оглушенный и оторопевший, наблюдал это зрелище, жуткое и неправдоподобное, как исторический кинофильм. Воздух шатался и вздрагивал от неистового грохота и рева, холм трепетал под ногами, как испуганное животное, и все-таки Максиму казалось, будто машины идут в мрачном, угрожающем молчании. Он отлично знал, что там, под броневыми листами, заходятся в хрипе ошалевшие солдаты, но все люки были наглухо закрыты, и казалось, что каждая машина – один сплошной слиток неодухотворенного металла… Когда прошли последние танки, Максим оглянулся назад, вниз, и его танк, накренившийся среди деревьев, показался ему жалкой жестяной игрушкой, дряхлой пародией на настоящий боевой механизм. Да, внизу прошла Сила, чтобы встретиться с другой, еще более страшной Силой, и, вспомнив об этой другой Силе, Максим поспешно скатился вниз, в рощу…
…И в этот момент та, другая Сила нанесла ответный удар.
Максиму этот удар пришелся по глазам. Он зарычал от боли, изо всех сил зажмурился и упал на Гая, уже поняв, что тот мертв, но стараясь закрыть его своим телом. Это было чисто рефлекторное – он ни о чем не успел подумать и ничего не успел ощутить, кроме боли в глазах, – он был еще в падении, когда его мозг отключил себя.
Когда окружающий мир снова сделался возможным для человеческого восприятия, сознание включилось снова… Все вокруг изменилось, мир стал багровым, мир был завален листьями и обломанными ветвями, мир был наполнен раскаленным воздухом, с красного неба дождем валились вырванные с корнем кусты, горящие сучья, комья горячей сухой земли. И стояла болезненно-звенящая тишина. Живых и мертвых раскатало по сторонам…
Кустов больше не было, спекшаяся глина дымилась и потрескивала, обращенный к северу склон холма горел. На севере багровое небо сливалось со сплошной стеной черно-коричневого дыма, и над этой стеной поднимались, распухая на глазах, ярко-оранжевые, какие-то маслянисто-жирные тучи. И туда, где возносились к лопнувшей от удара небесной тверди тысячи тысяч тонн раскаленного праха, испепеленные до атомов надежды выжить и жить, в эту адскую топку, устроенную несчастными дураками для несчастных, дураков, тянул с юга, словно в поддувало, легкий сыроватый ветер"[37].
Планета "несчастных дураков" не успела пережить одну ядерную войну, а уже близка к новому всепланетному кровопусканию. И хотя дело снова обошлось всего лишь обменом ограниченными ядерными ударами, повесть "Обитаемый остров" по сей день остается самым ярким описанием атомной войны в советской литературе.
Но я несколько забежал вперед – об "атомной" советской фантастике речь впереди. Зато вполне знакомая читателям Стругацких "обычная" война идет не прекращаясь в другой их повести – "Парень из преисподней" (1973). На сей раз – на планете Гиганда, откуда на Землю, позабывшую о войнах, доставлен подросток – уже вполне сформировавшийся маленький фашист.
Уже отмечалось, что фашизм немыслим без милитаризма. В повести "Глиняный бог" (1964) одного из ветеранов советской фантастики – Анатолия Днепрова (Анатолия Петровича Мицкевича, человека удивительной судьбы – военного разведчика, а затем ученого-физика и талантливого популяризатора науки) продолжатель дела уэллсовского доктора Моро мечтает создать идеального кремнийорганического солдата. Фактически человека-робота, тупого и послушного, и самое главное – непобедимого (ибо от его груди пули отскакивают как от стенки!). Но мы-то знаем, что военных роботов не обязательно создавать искусственно, из каких-то подручных материалов.
Времена франкенштейнов и россумов, видимо, прошли. Совсем недавняя история научила, как и без фантастической технологии огромные массы народа отдавались стихии беспрекословного подчинения и безоглядной веры в демагогические речи какого-нибудь (тоже вполне реального) вождя. Или фюрера, или "кормчего" – титул в данном случае неважен… И может статься, что ни высокоразвитое общество будущего (как у Стругацких), ни могущественные инопланетяне из рассказа молодого фантаста Алана Кубатиева "Ветер и смерть" (1983) не справятся с примитивным мышлением дикаря, мозг которого разъела язва фашистской идеологии. Не справятся нравственно… Гаденыш-сопляк из какой-то инозвездной «гитлерюгенд» у Стругацких или вполне земной японский летчик-камикадзе у Кубатиева – из нашего грешного прошлого.
И постоянный гнетущий страх, заставляющий искать все новые, более совершенные средства обороны от тех, кто нападать-то как раз и не собирается, – тоже оттуда, из нашего земного прошлого. И может статься, как это изобразил в рассказе "Полигон" (1971) известный советский писатель Север Гансовский, прошедший войну и раненный на ней, – что какому-то "стратегу" придет на ум весьма дальновидная идея создать новое "сверхоружие", запускаемое… этим самым страхом. Новый, испытываемый на полигоне чудо-танк стреляет по цели только тогда, когда его чуткие сенсорные устройства почувствуют исходящие от жертвы эманации страха.