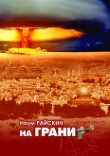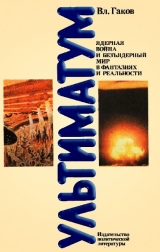
Текст книги "Ультиматум. Ядерная война и безъядерный мир в фантазиях и реальности"
Автор книги: Владимир Гаков
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
И в последующие два десятилетия мы не встретим имени Олдисса в лагере сторонников ядерного разоружения; более того, молодой писатель даже счел необходимым высмеять знаменитые олдермастонские марши мира! В рассказе "Основа для переговоров" (1962) представлен целиком большой джентльменский набор эпохи "холодной войны". Трусливое британское правительство, допускающее "новый Мюнхен" (Англия разрывает все договоры с союзниками и объявляет нейтралитет в разгорающемся советско-американском конфликте), ядерное нападение Китая на Гонконг, убийство заместителя командующего войсками НАТО членом Коммунистической партии Великобритании (!) и т. д. и т. п. Даже в вышедшем два года спустя романе "Серая борода" автор хотя и высказывает открыто некоторую симпатию к движению протеста против ядерной гонки вооружений, столь же недвусмысленно дает понять: себя он к этому движению не причисляет.
– Все круто изменилось, – рассказывал Олдисс на конгрессе в Форт-Лодердейле, – в последние десять – пятнадцать лет. Я хотя и писал рассказы, где изображено ядерное столкновение между войсками НАТО и Варшавского Договора ("Боги в полете", 1984. – Вл. Г.), но мое отношение к движению сторонников мира в корне изменилось. Ведь я жил всего в считанных милях от американской базы в Гринэм-Коммоне и неоднократно встречался со своими смелыми соотечественниками, установившими там палаточный лагерь.
На последовавший естественный и прямой вопрос, числит ли он теперь сам себя в этом движении, писатель, не задумываясь, ответил утвердительно. "Я даже направил протестующее письмо в "Таймс". К моему голосу, знаете, сегодня прислушиваются", – добавил он не без гордости.
В искренность Олдисса можно было поверить. Ведь даже если бы не удалось вытянуть из него это "признание", хватило бы знакомства с романом "Зима в Гелликонии". Лучше бы вообще не мучить писателей расспросами об их политических взглядах, общественной позиции; зачем – когда можно просто читать их книги!
А трилогия Олдисса о планете Гелликонии заслуживает внимания. Это, вне всякого сомнения, один из сложнейших, в деталях разработанных миров современной фантастики. Наряду с американскими авторами Урсулой Ле Гуин и Фрэнком Хербертом английский писатель может по праву носить титул "лучшего строителя миров" в научной фантастике. Но если два романа трилогии – "Весна Гелликонии" и "Лето Гелликонии" – к теме разговора отношения не имеют, то заключительная книга и читателями, и критиками воспринята как описание зимы "ядерной".
Это тем более удивительно, что в романе отсутствуют какие-либо указания на ядерную катастрофу! Фатальные климатические изменения наступили на планете в результате действия естественных причин, обитатели Гелликонии ни при чем. Но и автор не скрывает, что зимние ландшафты навеяны статьями ученых – физиков, врачей, биологов, анализировавших перспективы "ядерной зимы".
Вот тоже, кстати, опыт. Оказывается, можно и так добиться цели: не призывать, не агитировать, а всего-то – найти верный художественный образ…
Брайн Олдисс – один из "великой тройки", возглавившей английскую "Новую Волну" в научной фантастике 60 – 70-х годов; двое других – Джейм Грэм Баллард и Джон Браннер[75]. Их творческие пути затем ветвились весьма причудливо, хотя все трое активно пишут и по сей день. Но любопытно, что именно на узкой, плохо пока протоптанной «атомной» тропе следы их иногда пересекаются.
Олдисс, как мне кажется, шагает осторожно, с оглядкой; он кроме всего и самый процветающий английский писатель-фантаст – это сильно ограничивает смелость идущего впереди.
Джеймс Баллард никогда себя "политически ангажированным" не считал, хотя в свое время опубликовал несколько произведений, насыщенных "атомными" образами, среди которых особенно запоминается заброшенный американский испытательный полигон на атолле Эниветок. С тех пор писателя неудержимо влекли сюрреальная проза, смелые эксперименты со стилем и бездонная душа человека ("inner space" – "внутренний космос"; термин, придуманный Баллардом), отчего он, на мой взгляд, надолго застрял в "аполитичной" тихой заводи элитарной литературы.
Но вот сенсацией становится его последний реалистический роман-бестселлер "Империя Солнца" (1984) – автобиографические воспоминания о военном детстве, которое Баллард провел вместе с родителями в шанхайском лагере для интернированных. И в книге, и в последующей экранизации Стивена Спилберга чего нет, так это "абстрагированности" от политики. И пацифистская тема звучит в этих двух версиях пронзительно-ясно.
Один из самых сильных эпизодов – восход "второго солнца" над шанхайским стадионом (где японцы разместили пленных). Только спустя несколько дней герой книги, мальчишка Джим, узнал, что воочию наблюдал далекий отблеск гриба над Нагасаки…
Что касается Джона Браннера, то он-то теснее всех связал свою судьбу с антивоенным движением.
Досье по теме «Ультиматум»:
ДЖОН БРАННЕР
Род. в 1934 г.
Английский писатель-фантаст. Окончил колледж по отделению языка и литературы. Служил в. английских ВВС, после чего профессионально занялся литературной деятельностью. В фантастика дебютировал в 1953 г. Автор романов "Плечом к плечу на Занзибаре" (1965), "Оседлавший волну шока" (1975) и др. Лауреат высших премий в жанре научной фантастики. Активный борец за мир, участник Британского движения за ядерное разоружение.
Досье неполно. Автор национального гимна английских борцов за ядерное разоружение, их «эмиссар» в Швеции, Дании, ФРГ, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландах, где он экспонировал фотовыставку движения (названную «Скрыться не удастся…»). Представитель этого движения на конгрессе миролюбивых сил в Москве в 1962 году, участник конференции писателей в Хиросиме и Нагасаки (1983). Он исколесил полмира, несколько раз посетил нашу страну, но только осенью 1987 года состоялась моя очная встреча с Джоном Браннером.
В произведениях писателя ядерная война упоминается не так часто, как может показаться при взгляде на его "послужной список". Ранний реалистический роман "На краю" (1959), посвященный инциденту с ядерным оружием (единственное, кстати, произведение писателя, не изданное в США), несколько рассказов, слова к песням сторонников мира (писатель гордо напомнил, что одну из них записал на пластинку Пит Сигер)… Пожалуй, все.
Как считает Браннер, все его творчество проходит под сенью атомного гриба. О пацифистских настроениях свидетельствует и отрывок из его воспоминаний:
"Два года службы в ВВС оказались совершенно бесплодным, пустым, ненужным – в общем, погубленным периодом жизни. Военная рутина доводила меня до исступления, а постоянное пребывание в компании профессиональных убийц было отвратительным. Единственное, что я вынес ценного из этого ада, было убеждение, оставшееся незыблемым по сей день: военное мышление – это главный недостаток, своего рода "ущербность" человеческого рода. Именно оно ответственно за глупейшую ситуацию: большинство человечества живет и работает, обреченно глядя на этих типов без воображения и сострадания, у которых, однако, в руках власть всех уничтожить. Мое отвращение к ним росло день ото дня – и мне хочется верить, что читатель моих произведений в полной мере это ощутит. В равной степени отвратительными мне кажутся политики, принесшие честность и порядочность в жертву стремлению к личной власти, а также так называемые "христиане", благословляющие орудия войны и отпускавшие грехи тем, кто сбрасывал атомные бомбы, применял напалм против вьетнамских детей и терроризировал Ольстер"[76].
В Москве я задал ему вопрос: что он думает о своей "бурной" молодости – олдермастонские марши, антивоенные стихи и воззвания… В те дни Браннер был подавлен свалившимся на него личным горем (летом умерла жена), и ответ его прозвучал в тон всей беседе:
– Тогда я был молод и полон энергии. Теперь пусть эстафету перехватывают нынешние молодые – а я устал. – Но чуть позже, словно не желая остаться недопонятым, сам добавил: – А вообще-то от атомного «гриба» не убежать… Многие дни и ночи напролет я размышлял об ужасах тотального разрушения и пришел к выводу, что мы унаследовали все-таки очень маленькую планету. Она нас не выдержит дольше вместе с нашими глупостями – национализмом, нетерпимостью и предубежденностью. Значит, если мы хотим жить, нужно что-то делать.
Года не прошло после того разговора, а на полках книжных магазинов Англии и США появился новый роман писателя, озаглавленный "На марше" и написанный явно на базе собственных воспоминаний. Не скрою: выход этой книги обрадовал меня больше, чем любые устные заявления Джона Браннера.
Видимо, время сейчас такое, что в строй возвращаются и ветераны. Преодолевая усталость, душевный кризис и разочарование, они снова строятся в колонны марша мира.
Приходят в них и те, кого трудно было ожидать еще пять – десять лет назад. Профессор Джо Де Болт неожиданно – кажется, и для себя самого! – окунулся с головой в политику на исходе пятого десятка…
Досье по теме «Ультиматум»:
ДЖОЗЕФ ДЕ БОЛТ
Род. в 1939 г.
Американский социолог и литературовед. Окончил университет штата Кентукки, профессор Мичиганского университета. Президент американской Ассоциации исследователей научной фантастики (1980–1984).
С этим крупным специалистом по научной фантастике (в частности, по творчеству Браннера!) случай свел меня летом 1982 года. Де Болт был участником первого «научно-фантастического» вояжа американцев в нашу страну, когда к нам приехала большая группа писателей-фантастов, издателей, критиков и просто «фэнов». В Москве профессор живо интересовался всем, что у нас происходило (с точки зрения дня сегодняшнего как раз ничего не происходило…), во всех беседах «предупредительно» тряся рыжеватой бородой: «Политикой не занимаюсь!» Тем не менее и тогда его суждения о милитаристской стихии, захватившей Америку на второй год президентства Рейгана, производили впечатление трезвых и разумных.
Разумеется, себя профессор к коммунистам не причислял и долго убеждал меня в преимуществах экономического учения Адама Смита (профиль кумира Де Болта красовался даже на его галстуке, сшитом по заказу). Об Адаме Смите я помнил только смутные обрывки из вузовского курса политэкономии, а более – из строк "Евгения Онегина"… Во всяком случае, спорить с профессором Де Болтом было трудно и одновременно приятно: расстались мы друзьями.
Еще несколько раз он наезжал в Москву с группами своих студентов. Насколько можно было судить, строгий нейтралитет по отношению к активной политике профессор сохранял неукоснительно (в отличие от сына, который активно поддерживал правых в их штате). Потом он долго и тяжело болел… И вдруг из маленького университетского городка Маунт-Плезант в штате Мичиган, где живет и преподает Де Болт, приходит открытка, извещающая, что в сентябре 1988 года он примет участие в марше мира.
Поход Одесса – Киев, организованный Советским комитетом защиты мира, наша пресса и телевидение хорошо освещали, но, признаюсь, менее всего я ожидал увидеть в рядах марширующих с рюкзаками моего друга – тучного, страдающего диабетом и такого рассудительного Джо Де Болта…
Нет, воистину что-то сместилось, сошло с привычных орбит.
Велик, конечно, соблазн поверить в тенденцию: раз такие, как профессор Де Болт, участвуют в маршах мира по советской земле, то… Но поостерегусь и отмечу это событие лишь как единичный факт. Правда, зная профессора-социолога не один год, отмечу факт как из ряда вон выходящий.
Последняя наша встреча оказалась тем более символичной, что Де Болт всего второй день был в столице – после переезда из Киева, а я еще не успел прийти в себя после "трансатлантического" перелета Нью-Йорк – Москва. Такие нынче времена… Предвидя мой вопрос, профессор сам назвал две причины, определившие решение записаться в этот поход, пока единственный в его жизни. Во-первых, как он посчитал, социологу сейчас просто непременно нужно следить за всем, что творится в СССР. ("Газеты? Телевидение? Только в качестве "затравочной" информации – разбираться предпочитаю сам на месте"). А во-вторых, пусть не прозвучит банально, – естественное желание оставить детям более безопасный мир. «Есть еще и „в-третьих“, – улыбнулся Де Болт. – Мой врач считает, что хороший турпоход поможет мне сбросить лишний вес».
…Мы стояли на Красной площади вместе с участниками похода, взявшись за руки и образовав огромную живую эмблему сторонников ядерного разоружения, известную по множеству плакатов и значков: какая-то стилизованная то ли бомба, то ли ракета, вписанная в окружность ("Всего лишь изображение английского железнодорожного семафора, означающее, что путь закрыт", – объяснил Де Болт). Внутри круга кто-то пел, танцевал; потом все пошли, как бы у нас сказали, "водить хоровод" и, наконец, постояли несколько минут в полном сосредоточенном молчании.
Американским борцам за мир весь ритуал был, очевидно, хорошо знаком (чего не скажешь о заметно нервничавших милиционерах). Мне это было в диковинку, ибо я тоже впервые участвовал в марше мира по Красной площади. Но чему я не переставал изумляться – это присутствию на площади профессора Де Болта….
Как и людская одежда на триптихе Акопяна, писатели-фантасты чем дальше, тем решительнее сами выходят на улицы, принимают участие в различных форумах и конгрессах сторонников мира, откладывая в сторону незаконченную рукопись. Время такое, что «невыход» может повлечь за собой обвинение в соучастии.
Американский писатель-фантаст Джеймс Морроу подарил мне свой роман, названный строчкой из знаменитого стихотворения Томаса Стернса Эллиота: "Вот как кончится мир" (1986). У поэта далее следует "не взрывом, но взвизгом"… Морроу рисует в своей притче некий воображаемый суд над всеми нами, живущими сейчас, – соучастниками самого чудовищного преступления в истории, которое все-таки (в романе) произошло. "Атомный Нюрнберг"… А обвиняют нас будущие поколения, по нашей вине – не родившиеся.
Кого только не встретишь в рядах этой ширящейся день ото дня демонстрации! Но есть и колеблющиеся, то сливающиеся с демонстрантами, то вдруг отходящие в сторону.
Той же весной 1982 года я познакомился с одним из самых известных американских фантастов 70 – 80-х годов – Джо Холдеманом.
Досье по теме «Ультиматум»:
ДЖОЗЕФ УИЛЬЯМ ХОЛДЕМАН
Род. в 1934 г,
Американский писатель-фантаст. Окончил Массачусетский технологический институт (физика и астрономия), где в настоящее время преподает научную фантастику. Занимался в аспирантуре (математика и компьютерная техника). Был призван в армию, во Вьетнаме был ранен. Дебютировал в фантастике в 1969 г. Автор романов "Бесконечная война" (1974), "Помню все грехи мои" (1975) и др. Лауреат высших премий в жанре фантастики.
…Вьетнам, кажется, впервые разделил до того монолитный мир американской научной фантастики по политическому признаку. В мартовском номере журнала «Фэнтези энд сайнс фикшн» за 1968 год две полосы были отданы под платные объявления. На одном под воззванием: «Мы, нижеподписавшиеся, уверены, что Соединенные Штаты должны оставаться во Вьетнаме, чтобы выполнять свои обязательства по отношению к народу этой страны» – стояли подписи 68 американских фантастов. Среди них были Пол Андерсон, Фредерик Браун, Джон Кэмпбелл, Хол Клемент, Роберт Хайнлайн, Ларри Нивен, Джерри Пурнелл, Джек Уильямсон (называю только хорошо известных нашим читателям)…
А на другом листе – тоже декларация: "Мы протестуем против участия США во вьетнамской войне". И 82 подписи: Айзек Азимов, Джеймс Блиш, Рэй Брэдбери, Лестер Дель Рей, Филипп Дик, Томас Диш, Харлан Эллисон, Филипп Хозе Фармер, Гарри Гаррисон, Деймон Найт, Урсула Ле Гуин, Фриц Лейбер, Роберт Силверберг, Норман Спинрэд[77]…
Появись эти объявления позже, во втором списке обязательно находилось бы имя Джо Холдемана.
Из Вьетнама он вернулся с пулей в ноге и твердым убеждением в голове: все войны бессмысленны и с этим надо поскорее кончать. Название собранной им в 1977 году антологии "Хватит заниматься войной" – это прямой вызов составителям сборников фантастики откровенно милитаристской. За пять лет до выхода сборника ветеран дебютировал в литературе. Однако его первый опыт – реалистической роман "Год войны" заметно уступал таким книгам-соперницам, как "Уловка-22" Хеллера или "Нагие и мертвые" Мейлера; в ореоле их славы дебют Джо Холдемана прошел незамеченным.
Своеобразный реванш писатель взял двумя годами позже, в ином жанре, с которым он потом не расставался.
Его первый научно-фантастический роман "Вечная война" читатели признали лучшим произведением года. "Сцены солдатской жизни наемников будущего, – для объективности я снова цитирую Энциклопедию научной фантастики, – в романе резко противопоставлены взглядам Р. Хайнлайна. Космические ландскнехты Холдемана отправляются на поля сражений с помощью хитроумных временных парадоксов (погружаясь в "черные дыры" – коллапсары и мгновенно оказываясь не только в отдаленной точке пространства, но и в неведомо каком времени. – Вл. Г.). Если скачок получается слишком большим, солдаты рискуют попасть на битву с изрядно устаревшим вооружением… В романе показана жестокая судьба наемников, полностью отчужденных от цивилизации, за которую они воюют"[78].
После выхода романа в прессе зачастили сравнения главного героя, рядового Манделлы, со Швейком "космической эры"; а саму книгу отдельные критики ставили в один ряд со знаменитыми антивоенными произведениями Ремарка или Хэмингуэя. Не касаясь сопоставлений литературных, художественных, скажу, что по антимилитаристскому пафосу сравнение действительно напрашивалось…
В группе американских туристов я приметил Джо Холдемана сразу же. Большелобый, бородатый, чуть сутулившийся при ходьбе и несколько медлительный в разговоре, он оказался совершенно не похож на заматеревшего "зеленого берета". В нем вообще не было ничего военного, если не считать таковой хромоту – последствие ранения. Во Вьетнаме сражались не только «железные» ребята, знакомые по кинолентам с участием Сталлоне или Шварценнегера, но и множество таких, как Холдеман. Интеллигентов, вырванных из привычных им университетских аудиторий и лабораторий и ввергнутых в самый ад… Какими вернулись из пекла преисподней эти – думающие?
Книга "Вечная война" рассказывала о них с той поразительной горечью, на какую способна настоящая литература. Сложнее оказалось с автором.
С нашей первой встречи затянулся долгий и трудный диспут-спор, который продолжался позже в письмах и во время двух последующих очных "раундов", которые состоялись на территории моего соперника – в Америке. Джо сразу предупредил, что он, упаси бог, не коммунист и даже не числит себя "левым". Убежденность моего собеседника в том, что его с первых же минут пребывания в СССР подвергнут пропагандистской обработке, проявлялась в мелочах – в той, например, обстоятельности, с которой он прочищал и раскуривал трубку, готовясь к ответу на очередной вопрос, или, напротив, в неожиданной для этого чуть медлительного и уравновешенного человека горячей напористости. Однако, по мере того как неспешно текли наши беседы, рушились стереотипы с обеих сторон.
А их в ту пору хватало у обоих. Стояло лето 1982 года и еще не последовало из-за океана громогласного объявления "звездных войн"; да и ситуация в моей стране ничем решительно не выдавала близкое наступление эры гласности и перестройки.
Но даже во время той первой встречи мне в голову упрямо шло сравнение Джо Холдемана с его старшим и куда более знаменитым коллегой по перу – Робертом Хайнлайном.
Их судьбы действительно казались удивительно схожими: оба "технари" по образованию, служили в армии, прошли войну; оба – американцы до мозга костей. Но на том сходство, пожалуй, заканчивается.
Роберт Хайнлайн всю жизнь был верен идее передачи власти военным; только военные, по его мнению, обладали достаточной силой, решимостью и надежностью и уж подавно лишены всяческого интеллигентского слюнтяйства. А Джо Холдеман, напротив, смертельно боится воцарения армейских чинов в коридорах власти. Он на собственном опыте знает, что это такое в современных условиях – привычка не рассуждать, а выполнять приказ…
В общем Джо Холдеман произвел на меня впечатление человека честного и дружелюбного.
А потом пошли события настораживающие.
Первой ласточкой прилетела статья Холдемана в журнале "Аналог", содержащая его впечатления о поездке в СССР. Не то чтобы какое-то особенно злое и антисоветское выступление, скорее, самое обычное. Но "самое обычное" в Америке 1983 года и означало антисоветское… Особенно обидно было встретить в статье заимствованные из газет пропагандистские клише; писатель, даже если он и остался чем-то недоволен, подобные слова просто не мог из себя выдавить – скорее, выбрал бы какие-то иные, собственные.
В том же году вышел второй том из шумно разрекламированной трилогии Холдемана "Миры". Вообще-то вполне приличный роман о недалеком будущем, когда построены и полностью обжиты гигантские орбитальные колонии. Их, по мнению автора, неизбежный конфликт с земным правительством приводит к опустошительной термоядерной войне. За один день 16 марта 2085 года треть населения планеты гибнет в атомном пламени, а выживших добивает бактериологическое оружие; в финале орбитальная станция "Новый Нью-Йорк" отправляется, как и во многих аналогичных романах, на поиски звездной земли обетованной.
Неплохой (если говорить о литературном исполнении) роман, но ложка дегтя присутствует и в нем: смертоносное бактериологическое оружие разработано не где-нибудь, а в СССР и применено впервые с территории нашей страны. Последнее обстоятельство сообщено как бы мимоходом, автор его не педалирует, но…
А совсем недавно, в сентябре 1988 года, когда рукопись этой книги была вчерне готова, мы встретились на уже упоминавшейся Всемирной конвенции в Новом Орлеане, где приняли участие в дискуссии под "оптимистическим" названием "Распространение Апокалипсиса". Вместе с писателями Майклом Резником и Джеймсом Морроу мы говорили обо всем: о ядерной проблеме, и об экологической, и о продовольственной; об эпидемии СПИДа и об ограничении рождаемости, о космической экспансии человечества в XXI веке и, разумеется, о "звездных войнах". И когда выступал Джо Холдеман, когда он говорил об опасности ядерной, казалось, я вновь слышу его прежнего, какого встретил в Москве шесть лет назад.
Но сразу же по окончании дискуссии он со смущенно-извинительной улыбкой подписывал мне свою последнюю книгу. Не научно-фантастическую – шпионский боевик "Орудие торговли". Извинял писатель, впрочем, сам себя, ибо уже на обложке реклама обещала запутанную историю международного шпионажа с участием обязательных для такой литературы "агентов КГБ". "Тебе вряд ли понравится, – прямодушно предупредил мою реакцию автор романа, – но… ты же понимаешь, у нас это хорошо идет!"
Понимаю. И признаю как, увы, американскую реальность, к которой надо постоянно себя приучать. Я и привел-то эту историю с Холдеманом в качестве примера сложности позиций тех, кто идет сегодня в марше мира.
Непростая – непрямолинейная – судьба и у другого знаменитого писателя-фронтовика. Взращенный научной фантастикой, он давно порвал "материнскую пуповину", хотя в мире фантастики его имя по-прежнему произносится с известным почтением.
Читатель, видимо, догадался, о ком идет речь. О Курте Воннегуте.
Досье по теме «Ультиматум»:
КУРТ ВОННЕГУТ-МЛАДШИЙ
Род. в 1922 г.
Видный американский писатель. Участник второй мировой войны, был в плену у немцев и чудом выжил во время бомбардировок Дрездена. Учился в университете штата Теннесси и Чикагском университете. Дебютировал в фантастике в 1950 г., но вскоре отошел от жанра. Автор романов "Колыбель для кошки" (1963), "Бойня № 5" (1969), "Завтрак для чемпионов" (1973) и др.
Если говорить о фантастике Воннегута (сам он в последнее время категорически отказывается от титула «писатель-фантаст»), то на ней определенно играет отблеск атомного пламени.
Незаживающая военная память бывшего солдата и пленного дала себя знать рано. Уже экстравагантным, калейдоскопическим и абсурдистским – однако никак не абсурдным – романом «Сирены Титана» (1959) писатель заявил о себе как о… Воннегуте. Но роман вышел с ярлыком «научная фантастика» и в мире почитателей жанра особого успеха не имел, как непомерно сложный. А вне научно-фантастического «сообщества» его мало кто читал.
В романе есть один любопытный эпизод, представляющий интерес в рамках нашего разговора.
Некий мессия затевает грандиозную бойню, в которой патриоты-земляне доблестно перебили марсианские силы вторжения. Совершенно не подозревая, что никакие это не марсиане, а обыкновенные жители Земли, обманом похищенные и прошедшие на Марсе операцию по "промывке мозгов", после чего посланные на верную смерть от руки своих же соплеменников. Цель? Ни больше ни меньше как подготовить человечество к принятию новой религии – "Церкви господа крайне безразличного" и установлению мира и покоя на Земле.
Десятки тысяч ничего не подозревавших жертв – на алтарь вечного мира. Абсурд, но только, как всегда у Воннегута, на первый взгляд.
Он явно смотрел на три десятилетия вперед. То, что в конце 50-х годов могло показаться бредом сумасшедшего, через тридцать лет неожиданно приобрело черты серьезно обсуждаемой военной доктрины. У сегодняшнего читателя еще на слуху призывы к демонстрационному ядерному удару, который-де образумит «противоположную сторону», заставит ее сесть за стол переговоров. И ссылки на соизволение «свыше» подобной затее делались тоже прилюдно.
От знаменитой "Бойни № 5" до последнего романа писателя "Галапагос" (1986) Воннегута преследовали картины холокауста. В «Бойне…» конец света обычный, просто огненный. Кто мог в 1968 году усмотреть в бушевавших на дрезденских улицах «огненных торнадо» нечто большее, чем прямую ассоциацию с полыхавшим во Вьетнаме напалмом! А ведь пожары были прямым прообразом «ядерной зимы»; только вспомнят об этом спустя еще тринадцать лет… Такие дела, как сказал бы герой романа Билли Пилигрим.
В "Галапагосе" мир пережил войну ядерную. Не весь мир, нет, только участники развлекательного океанского круиза. Как и герои повести Алеся Адамовича, эти тоже нашли свой "рай" – оставшиеся нетронутыми острова архипелага, которому суждено будет стать колыбелью нового человечества… Но почему не успокаивает оптимизм Воннегута – скорее, настораживает, заставляет искать скрытый "подвох"?
Что и говорить, внушать покой и уверенность в завтрашнем дне не его амплуа. И когда его сатира, часто только замаскированная под клоунаду, эпатаж, достигает цели, цель обычно тоже оказывается не случайной.
В 1982 году – как раз страсти после "каннибальских" высказываний создателя нейтронной бомбы Сэмюэла Коэна поутихли и к ней самой, как к новой военной реальности, начали мало-помалу привыкать – Воннегут буквально обрушил на головы соотечественников роман "Парень-Не-Промах"! В котором, как помнит читатель (роман переведен на русский язык), в качестве сюжетной завязки случайно взрывается нейтронная бомба, которую транспортировали с одной базы на другую, и опустошает небольшой американский городок…
Или еще раньше, в 1963-м – двадцатилетия атомной эры человечество еще не отпраздновало – вывести в романе "Колыбель для кошки" жуткий образ ученого, "убийцы не от мира сего". Профессор Хоникер, как и его экранное воплощение – уже знакомый нам доктор Стрейнджлав – не смотрелись, впрочем, каким-то особенным "макабром" по сравнению с реально существующими Сэмюэлом Коэном или Эдвардом Теллером.
В свое время общественное мнение не на шутку перепугал разработанный до деталей проект, который, по утверждению автора, обещал раз и навсегда "снять" атомную проблему и даровать мир людям Земли. Почему-то тем не менее название проекта – MAD (от сокращения: mutual assured destruction – взаимное гарантированное уничтожение) в точности совпадало с английским словом, означающим просто "безумец".
Разумеется, сторонники проекта отмахиваются от этого второго смысла, ссылаясь на него как на ничего не значащую игру слов.
Суть проекта можно изложить двумя словами: "метод розги". То есть, не следует надеяться на слова о гуманности и разуме; все это суть категории туманные, тем более что человек и не разумен и не гуманен. Посему сработать должна педагогика розги – раз посулами ничего добиться не удалось, надобно апеллировать к страху; он один гарантирует долгожданный мир на планете.
"Конкретизацию" генеральной идеи предлагали следующую. Всем сообща вывести на орбиту искусственный спутник, содержащий большой "кобальтовый" заряд (такая бомба убивает в основном посредством смертоносного излучения). Это "оружие Судного дня" угрожает всем: и правым, и виноватым, и оно сработает, лишь только чья-то рука коснется роковой кнопки, ибо запрограммировано будет на любой старт любой ракеты.
Автор сей мудрой затеи – личность преинтересная. Правда, прославился создатель проекта MAD совсем в иной области, как ни странно менее всего связанной с деловитой разработкой различных вариантов конца человеческой цивилизации. Проект MAD – детище покойного «мессии» западной футурологии, директора и создателя Гудзоновского института Германа Кана.
Досье по теме «Ультиматум»:
ГЕРМАН КАН
1922–1984
Видный американский математик, специалист в прикладной математике и моделировании. Окончил Калифорнийский университет и Калифорнийский технологический институт. Профессор Принстонского университета. С 1961 г. и до конца жизни возглавлял Гудзоновский институт. Работал в исследовательских отделах компаний "Дуглас" (1945–1946), "Нортроп"(1947), исследователем-аналитиком в "РЭНД корпорейшн" (1947–1959); был консультантом в фирме "Боинг", при Управлении мобилизации министерства обороны, в корпорации "Систем девелопмент", в Национальном исследовательском комитете по планированию, в Стэнфордском университете. Был членом Бюро научных советников ВВС США. Автор книг "О термоядерной войне" (I960), "Мысли о немыслимом" (1962), "К эскалации" (1965, с Э. Винером), "Год 2000" (1967).
Красноречивый послужной список, в старину непременно добавили бы: и прочая, и прочая…
Одно перечисление фирм и организаций, где служил и консультировал профессор, говорит о его отношении к проблемам войны и мира больше, чем любые заявления и выступления в печати. Чему в большей мере служил долгую жизнь Герман Кан – науке или непосредственно военно-промышленному комплексу? И служил не подневольно, не в силу гражданского инфантилизма или каких-то фатальных жизненных обстоятельств – трудился, как говорится, по зрелому размышлению (оставим в покое "зов сердца").