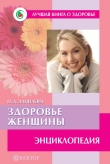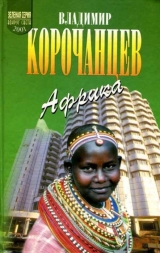
Текст книги "Африка — земля парадоксов"
Автор книги: Владимир Корочанцев
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
В ПОИСКАХ ЗАБЛУДИВШЕЙСЯ ДУШИ
Странствуя по африканским лесам и саванне, я однажды осознал, сколь много общего есть у нас с африканцами, как мы все-таки похожи друг на друга. По-видимому, все мы начинали исторический путь с общих предков.
Душа человека, животного, растения, души предметов, пересланных на тот свет при погребальных жертвоприношениях или прочих обрядах, духи-хранители, духи природы, домашние духи… – во все это все люди верят с незапамятных времен. Стихийный философ по натуре, человек убежден в параллельном существовании нематериального мистического мира, гарантирующего нашей бренной пессимистической плоти вечность ее главной основы – неунывающего, верующего в бессмертие сознания, разума. Африканцы – впрочем, как и жители других частей света, – полагают, что человеку кроме тяжелеющего с возрастом тела присуща также душа – эфирное, невещественное обличье, нечто вроде пара, воздуха или тени, составляющее двигатель и причину жизни и мысли в существе, а точнее, в телесной оболочке, которую это «нечто» одушевляет.
У духа жизни веса нет,
У воли духа нет границ, —
определил это понятие Алексей Кольцов, в произведениях которого, пожалуй, чаще, чем у других русских поэтов, мелькает многосмысловое слово «душа».
Душа властвует над сознанием, волей ее телесного владельца, определяет его действия. Она не спит, может покинуть сонливое, небдительное тело, витать в пространстве, входить в плоть других живых существ. Душа вечна. «Долга она – как Божья вечность…» – восклицал Кольцов, а потом словно бы в тон индейцам и африканцам удивленно вопрошал:
Ужели в нас дух вечной жизни
Так бессознательно живет?
Легко ли ответить на столь непостижимый вопрос? Зулусы употребляют слово «тунзи» в смысле «тень», «дух» и «душа», они думают, что со смертью человека тень покидает его тело, чтобы сделаться домашним духом. Сердце для африканцев – вместилище души, мотор жизни, мысли и страсти.
Души светлые и темные
Индейцы племени алгонкинов зовут душу «отахчук» – «его тень». По их поверьям, одна душа выходит и видит сны, а другая между тем не разлучается с плотью. После смерти одна из двух остается при теле, и именно ей живые приносят в дар пищу, тогда как другая душа отлетает в страну мертвых.
Жители островов Фиджи полагают, что у человека есть «темная душа», или тень, которая отходит в загробный мир, и «светлая душа», или отражение в воде и зеркале, которая остается там, где он умирает. Малагасийцы убеждены, что «сайна» (ум) исчезает после кончины, но «мату-атуа» (дух) носится над могилой.
«По верованиям якутов, есть три души – тын, кут и сюр, – писал С. А. Токарев в работе «Ранние формы религии». – Тын – это просто дыхание, олицетворение проявлений жизни, неотделимое от тела. Кут – это душа человека, которая может быть похищена злым духом, и тогда человек заболевает и умирает. Роль этой кут, таким образом, совершенно пассивная – это то уязвимое место человека, которое открыто для нападения злых сил. Наконец, сюр – олицетворение психической деятельности. Хотя якуты признают существование сюр у всех людей, но есть основания думать, что по происхождению это шаманская душа. Сюр – активная сила, ее не могут унести духи. У ненцев душа шамана бессмертна, души же простых людей погибают вместе с телом. У гиляков шаман имеет по три-четыре души, получаемых им по наследству от старого шамана».
Душа человеческая капризна, своевольна, непоседлива. В поэзии ее часто сравнивают с птицей (голубем, журавлем, орлом…), в любой миг готовой вспорхнуть и улететь.
По африканским поверьям, душа погруженного в сон человека способна вылетать из тела и посещать места и людей, которые ей снятся. Эти периодические отлучки чреваты трагическими последствиями, ибо по той или иной причине душа может оторваться от тела надолго и даже навсегда. Не вернуться может даже потому, что просто повстречает душу другого спящего и подерется с ней.
Когда сенуфо или фульбе в Гвинее просыпается утром с ломотой в костях, ему чудится, что душа другого человека во сне поколотила его собственную. Кроме того, – и это еще опаснее – душа живого может встретить душу ушедшего родного человека, и та приворожит ее, увлечет за собой – почти как у А. Кольцова:
Я был у ней; я вечно буду
С ее душой душою жить…
И тот, кто говорит, что его душа стремится навстречу чьей-то, неосознанно придает, быть может, этим словам более глубокое значение, чем смысл простой метафоры.
На Мадагаскаре и в Африке популярен запрет будить спящего: ведь душа его в отлучке и не успеет вернуться, а человек заболеет, если проснется в ее отсутствие. Когда вам надо пораньше подняться, не очень-то полагайтесь в деревне на малагасийцев при всей их заботливости и обходительности. Ночь для них – пустота, дыра во времени. В деревне верят в то, что душа объятого сном покидает тело и, вдоволь нагулявшись, набаловавшись на воле за ночь, возвращается обратно.
Человек спит, но душа его бодрствует
В деревне Беракета у самого тропика Козерога, проспав дольше обычного, я обиделся на хозяина жилища, принявшего нас на постой.
– Буту, что же вы не разбудили нас? Вы же обещали!
– Я не убийца, – сердито возразил он. – А вдруг ваши души не успели бы вернуться в тело? Если бы вы были один, а то вы с семьей, вас много. Да еще дети. Нет, увольте. Зачем рисковать?
Наиболее смелые, не обремененные предрассудками, будили меня, роняя на пол какой-нибудь тяжелый предмет или производя шум, но ни в коем случае не дотрагивались. А я в который раз вспоминал своего великого земляка: «Проснись душою!» – и не сердился.
Душа выскальзывает из тела и во время бодрствования. Частенько она проделывает это в момент приема пищи, когда у человека непрестанно открывается рот. В порядке профилактики зве и батаки в Бенине плотно закрывают двери во время пиршества, чтобы душа насладилась яствами и не совершила побег. Зафиманелы на Мадагаскаре, садясь за стол, запирают двери на замок. Варуа (юго-восточная часть бассейна реки Конго) никому не разрешают подсматривать за ними, когда они едят или пьют.
Шаман, занимающий особое положение во многих племенных сообществах, считает физический мир более низким по отношению к миру духов и обусловленным им. С этим неземным миром он, по его уверениям, сносится, впадая в транс. Кстати, его не следует путать со знахарем. Бред и галлюцинации мага показывают, что он видит далекие страны и громко рассказывает о своих скитаниях.
Обнаружив беглянку, он старается убедить ее вернуться в тело, которому она принадлежит. Если же души нет поблизости, шаман устремляет взор дальше. Он посылает свою душу осматривать русла рек, дно озер, лесные чащи и бескрайние степные равнины – праздные души тянутся к самым невероятным местам. Склонить далеко забравшуюся душу к возвращению домой для красноречивого духа шамана труднее, чем в тех случаях, когда она резвится рядом с юртой. Если же поиски тщетны и душа не возвращайся восвояси, то болезнь не утихает и пациент умирает.
Какая же жизнь без души? Хотя сколько развелось нынче на свете живых существ без души!
Если на том свете душа не найдена даже в глухих закоулках, шаман решает, что она взята заложницей во дворец Эрлик-хана. Единственный способ вызволить ее – осуществить нечто вроде дьявольского обмена пленниками: Эрлик-хан отпустит душу лишь в обмен на чью-то еще.
Придя к такому выводу, шаман торгуется о выкупе за заблудившуюся душу либо с семьей пациента, либо с ним самим, если он в силах вести переговоры. В то время как намеченная жертва спит, шаман вводит себя в транс и покидает свое тело, превращаясь в духа, обычно в виде орла или другой хищной птицы. Вероломно выцарапывает он чужую душу и несет вниз, во дворец Эрлик-хана. Когда шаман добирается до зловещих палат, построенных из черных валунов, сцементированных черной глиной, он умоляет правителя геенны произвести обмен душами, и последний обыкновенно соглашается. Шаман тогда возвращает освобожденную душу в тело больного, который постепенно выздоравливает. Однако тот, у кого похитили душу и не вытребовали у Эрлика, скоро умирает.
Мухоморы – пища богов
В мексиканских трансах упор в большей степени делается на то, что воспринято на слух, в отличие от сибирских, где за душами летают и видят все воочию. Такое отличие, вероятно, во многом вызвано тем, что мексиканские шаманы, как правило, вводят себя в экстаз, съедая определенный вид полуядовитых грибов, вызывающих слуховые, а не визуальные галлюцинации. Повсюду в мире чародеи применяют растения, способные вызывать галлюцинации, для «ослабления запоров и сдержек души», вступления в состояние повышенного бесконтрольного нервного возбуждения, для облегчения контакта с богами, демонами и потерявшимися душами. В Сибири, например, шаманы пьют зелье, приготовленное из высушенных шляпок гриба amanita muscaria, который часто фигурирует в волшебных сказках как быстрый способ достижения духовидения.
В XVIII веке шведский офицер граф фон Штраленберг, который несколько лет был в плену в Сибири, описал, как местные жители достигают стадии «опьянения». По его свидетельству, они не знали об употреблении перебродивших спиртных напитков, а вместо этого полагались на настой из мухомора, своего рода «грибной чай». Этот напиток, добавлял он, столь высоко ценился, что сушеные грибные головки стали предметом торговли, роскошью, доступной только богатым людям. «Те, кто не может позволить себе купить эти грибы, отправляются к жилищам богатых и выжидают, пока кто-нибудь из гостей выйдет помочиться, и держат деревянный сосуд, чтобы принять мочу, которую жадно выпивают; в ней остается немного гриба и таким манером они пьянеют», – утверждал швед.
«Опьянение», которое наблюдал фон Штраленберг, очень отличается от алкогольного отравления. Степан Крашенинников, изучавший в XVIII веке культуру народов Сибири, заметил, что те, кто подвергся ему, имели различные видения, ужасные, пугающие или счастливые, в зависимости от темперамента. Некоторые прыгают, другие танцуют, третьи кричат или, очевидно, переживают огромный ужас, тогда как другим, возможно, чудится, что перед ними расщелина шириной в дверь и бадья океанской глубины.
Иными словами, питье мухоморного настоя вызывало состояние, напоминающее одурение, очумелость наркомана. Шаман терял контроль над собой, вихревой поток образов внезапно захлестывал его сознание.
Многие антропологи и исследователи старинной религии утверждают, что использование грибов и других растительных веществ для помрачения и изменения сознания, вероятно, столь же старо, как и человечество. Так, в Греции спорынья, гриб, живущий на ржи и других растениях, принимался во время Элевсинских таинств, ежегодных религиозных празднеств в городе Элевсине с тем, чтобы узреть богинь Деметру и Персефону или бога Диониса.
Аналогичным образом в Древней Индии субстанция, называвшаяся сома, имела репутацию «пищи богов», также избранной пищи тех, кто желал установить связь с богами. У ученых нет единого мнения по поводу этого вещества. В прошлом веке один из них полагал, что речь идет о каком-то виде ревеня, обладающем почти фантастическими слабительными свойствами, – теперь думают, что сома вызывала галлюцинации, благодаря которым шаманы получали сведения о жизни бессмертных.
Шаманы, зная об одурманивающих свойствах мухоморов, ели их сырыми, пили их сок, чтобы впасть в транс. В угорских языках (народы ханты и манси) мухомор назывался «пангх». На мордовском и марийском это же слово означало «гриб». Путешественники и этнографы XIX века отметили культ мухоморов среди угорских шаманов. Перед камланием они непременно ели эти ядовитые грибы или пили настой из них и голубики, приводя себя в состояние наивысшего возбуждения для контакта с богами и понимания языка духов. Этот напиток вызывал бред, а затем подъем физических сил, сменяющийся вскоре апатией, продолжительным глубоким сном. Таким манером шаманы выпытывали у духов сокровенные сведения. В преданиях хантов и манси шаман именуется «мухомороедящим человеком». Вот как одно из сказаний повествует об этом: «Бог пошел, шамана привел. Большой котел с мухоморами на огонь повесили. Шаман ворожить стал, мухоморы есть…» К слову сказать, предполагается, что священный напиток, упоминаемый в первом памятнике индийской литературы «Ригведе», приготовлялся из мухоморов.
Люди видели в мухоморах не только живых, но и опасных существ. Чукчи, к примеру, предполагали, что «особое племя» мухоморов очень могущественно и способно разорвать корни деревьев, раздробить камни. Считалось, что эти грибы предстают перед опьяневшим жрецом в облике однорукого и одноногого, похожего на обрубок существа, которое может показать человеку потусторонний мир. Этот сюжет запечатлен на чукотских рисунках, где запутанными извилистыми путями прочерчен «путь мухомора». Для полноты представления стоит добавить, что у майя и в Гватемале изготовлялись изумительные скульптурные изображения духов в виде грибов из камня, а в китайской рукописи XVII века даосский святой спит с грибом линчжи.
Индейцы верили, что в мухоморе-грибе сокрыта некая божественная сила. Похожую идею проповедовали манихейцы, приверженцы религии, возникшей в III веке на территории Ирака и распространившейся от Китая до Европы. По их представлениям, во всей природе заключены частицы божества, и малейшее нарушение сложившегося в ней порядка причиняет этим частицам мучительные страдания. Они советовали не срывать плод с дерева или гриб, так как божественное светлое начало в них обрекается тем самым на полное подчинение власти тьмы.
Но сколько вопросов требует прояснения. Обладают ли шаманы подлинно сверхнормальными силами? Могут ли они перешагивать через нормальное, обычное сознание? Или же они просто стимулируют живые галлюцинации?
В нелегком труде шаманов бывают и солидные издержки. Так, индейцы на реке Насс в Британской Колумбии верят, что врачеватель, случается, может по ошибке заглотнуть душу больного. Тогда собратья по профессии заставляют подозреваемого в таком проступке знахаря наклониться к больному; в это время один маг запускает пальцы в его горло, другой разминает знахарю ладонями живот, а третий хлопает его по спине, чтобы изгнать из него чужую душу.
Надо признать также, что на западе Африки водятся колдуны, не гнушающиеся подрабатывать на умыкании чужих душ. Они ставят специальные западни на души, которые неосторожно бросают тело во время сна. Если воздействовать на отловленную пленницу огнем, то ее владелец может зачахнуть. Ведется такая охота не из неприязни к больному, а из желания пополнить отощавший кошелек. Колдуна не интересует, чей дух попался ему в ловушку, и он охотно возвращает его владельцу за соответствующее вознаграждение.
В феврале 1997 года три колдуна в Кот-д’Ивуаре честно признались, что «съели» души тридцати пяти человек, предварительно превратив их в агути, за что были приговорены к трем годам тюрьмы. Агути – небольшие грызуны которые на западе Африки слывут лакомым блюдом.
Суд в городке Бондуку в трехстах сорока километрах от Абиджана признал Яуа Агнинуа, ее младшую сестру Косию Миэ и вождя деревни Кекерени Коффи Муруфи виновными в колдовской практике. Подсудимые прокрались в больничную палату в тихий час и обратили с помощью магии некую Марту Яуа в агути прямо в постели. Проделали они свой трюк столь ловко, что их односельчанка не заметила покушения. Две колдуньи объяснили в суде, что сами в тот момент были обращены в птиц по указанию вождя Муруфи, чтобы эффективнее осуществить свое черное дело. Потом жертве предоставили печальную привилегию «попасть в кастрюлю и быть съеденной», сообщила абиджанская газета «Суаринфо». Приступая к пиршеству, вождь поделил добычу, отрезав себе по давней традиции самый крупный из трех кусков. Косия Миэ получила голову грызуна как самая младшая в компании.
Тройка нечистых призналась, что таким манером были дегустированы 34 односельчанина, превращенных в пальмовых крыс. Согласно обычаям, бытующим на западе Африки, питание чужими душами бодрит и укрепляет жизненные силы, здоровье чародеев.
Председатель суда Сулейман Диабате обосновал строгий приговор тем, что подсудимые признали себя виновными в «колдовской практике, нарушив ею общественный порядок, что подпадает под действие статьи Уголовного кодекса». «Признание – это и улика, и доказательство, – подчеркнул он. – Тем более если каждый начнет безнаказанно кормиться чужими душами, то…»
Один мой приятель в далекой Африке содержал настоящий приют для заблудших душ. Как-то в качестве косвенного вопроса я с намеком процитировал ему стихотворение А. Кольцова:
Но, среди весны,
В цвете юности,
Я сгубил твою
Душу чистую…
Он явно обиделся и принялся энергично возражать:
– Я не исключение. Мы же не из вредности гоняемся за чьей-то душой. Нам тоже хочется оладьев на пальмовом масле к ужину иметь. Всякий, у кого нечаянно потерялась или заблудилась душа, в какой-то мере виноват сам, но благодаря нам он может за стандартную мзду получить ее в целости и сохранности, – уверял он меня. – К счастью, на свете есть мы. Не будь нас с нашими ловушками, загулявшую душу мог бы уволочь сам дьявол.
Никто не порицает содержателей таких частных приютов, ловцов беспокойных, непоседливых душ; ведь это их ремесло, которым они занимаются не из грубого недоброжелательства к людям, а из сочувствия, быть может, сострадания к ним. На свой, конечно, лад.
Профессия – вождь
Считать африканских вождей историческим анахронизмом явно преждевременно. Они – одно из звеньев, соединяющих африканцев с прошлым. Несмотря на смену политических вех, племенные правители, проявляющие завидную способность приспосабливаться к новым условиям, и сегодня определяют жизнь африканской глубинки. Даже в политическом плане. В полной мере это относится и к региональной «сверхдержаве» – ЮАР, самой благополучной и экономически развитой стране континента. Теперь вождям предстоит решать очередную, быть может, особенно сложную задачу – совмещения своего сословного статуса с реалиями страны, совершающей стремительный переход от апартеида к демократии.
…Белые кучевые облака, подсвеченные слепящим солнцем, неспешно плывут в небесной синеве. Зулусы сравнивают их с седыми волосами умерших предков. Погожий апрельский день 1994 года. В центре деревни Макосини под тенью слоновьего дерева марулы на грубо сбитых деревянных скамейках сидит дюжина пожилых зулусов, потягивая из глиняных кружек домашнее пиво. Запасы его регулярно восполняются – из погребка только что был доставлен очередной вместительный запотевший кувшин. Создавая должное напитку, зулусы не забывают внимательно слушать по радио очередную сводку новостей об итогах первых в истории ЮАР всеобщих нерасовых выборов. На песке прямо под ногами слушателей возятся маленькие дети. Им суждено узнать об апартеиде только из учебников.
Я спросил у крестьян, как найти здешнего вождя. Один из них, не выпуская из рук кружки, поднялся и проводил меня к скромному домику, ничем не выделявшемуся среди остальных. Правители в сельской глубинке очень суеверны и стараются не привлекать к себе опасного внимания колдунов и злых духов.
Вождь Альберт Селе принял меня без протокола. Он тоже сидел за столом и слушал радиоприемник. В белой рубашке и поношенных брюках, обвисших на коленях, вождь выглядел простецки. Лишь тяжелые морщины на его лице выдавали волевого человека, привыкшего к власти.
– В моей деревне проголосовали все, кому положено, – мой августейший собеседник говорил веско, не опускаясь до бытовой скороговорки. – Они там в центре очень долго подсчитывают результаты. В Макосини живет примерно тысяча человек. Нас не волнует, что в национальном масштабе победил Нельсон Мандела. Он хороший человек и, думаю, будет достойным президентом. Но мы считаем, что здесь, в Квазулу-Натале, должна сохранить правящие позиции «Инката фридом парти», за которую голосуют многие зулусы. Каждому народу следует жить в родной этнической среде…
За свою журналистскую жизнь я исколесил Африку вдоль и поперек и частенько встречался с вождями. Титул здесь вроде должности. Во многих случаях руководители ведущих партий в ЮАР – это вожди, активно занимавшиеся политикой. Нельсон Мандела, Мангосуту Бутелези, Лукас Мангопе… Этот перечень можно было бы продолжать очень долго. В быту вожди носят затрапезную одежду и в таком же виде, не испытывая комплексов, могут предстать перед подданными в родной деревне. Но в заветном месте, ожидая случая, хранится совсем иная одежда – церемониальная.
К сожалению, в Южной Африке мне довелось увидеть вождя в парадном наряде лишь однажды, во время обряда поминовения предков. Он был в шапочке из шкуры леопарда и в широком, спадающем на грудь ошейнике (если позволительно употреблять это слово применительно к столь высокой особе) из леопардовой кожи со свисающим к поясу хвостом. Леопардовая шкура – фирменный знак вождя зулусов. По обычаю, любой убитый зверь – его собственность и шкуру может носить только он. «На весь народ леопардов не напасешься», – резонно пояснил мне обладатель этого роскошного одеяния.

Вожди занимают прочное, освященное веками место в жизни черных южноафриканцев. Их чтят, им повинуются, их оберегают. Причем весьма своеобычно. Как-то, заехав в одну из деревушек в Бопутатсване, я попытался разузнать полное имя тамошнего вождя. Люди сурово насупились. Оказалось, что там до сих пор сохраняется табу на употребление не только самого имени вождя, но даже слов, содержащих слоги, которые в нем встречаются. Все, что относится к верховному владыке, подданные называют кодовыми словами, известными лишь соплеменникам, – конспирация на уровне мировых секретных служб! Так, к примеру, хижина вождя обозначается словом «крокодил», кувшин для пива – «тень», соль – «песок», собаки – «вестники». Если вождь спит, то люди говорят: «он дышит», если ест – «работает». Сквозь такой словесный камуфляж не прорвется ни внешняя разведка врага, ни духи…
Однако, несмотря на весь этот политес, власть вождя у зулусов, коса, тсвана и других народностей Южной Африки отнюдь не абсолютна. Честность и справедливость входят в генетический код южноафриканцев, и у них есть свое четкое представление о том, как именно должен вести себя разумный и достойный правитель. Вождь, выходящий за пределы дозволенного, всегда рискует. Крайняя санкция, которая может быть к нему применена, – мятеж или отход части населения под власть одного из его братьев. Так, прежний правитель Бопутатсваны Лукас Мангопе, перебравший с «культом личности» и попытавшийся бойкотировать всеобщие выборы, за которые выступали его соплеменники, слетел с трона без звука, будто и не был вождем.
Почти все южные банту исходят из того, что вождь и народ взаимно дополняют друг друга. Это отразилось и в бытующей здесь пословице: «Вождь потому и вождь, что народ пожелал». Используя лексику современной политологии, можно сказать, что легитимность вождя основывается на воле народа.
В традициях института вождизма – только не улыбайтесь – заложена система «сдержек» и «противовесов», гарантирующая, что человек, облеченный властью и поставленный народом над собой, не выродится в тирана и не станет помыкать людьми. Скажем, любое решение, имеющее правовое значение, у коса принимается лишь после тщательного «коллегиального» обсуждения с несколькими советниками. Правда, иногда (Африка, как и Восток, – дело тонкое) предусматриваются особые меры для защиты достоинства вождя от критики. Так, принятое им решение объявляет не он сам, а индуна – старейшина, что создает возможность для маневра. В случае неблагоприятной реакции именно на этого «стрелочника» можно свалить ответственность за непопулярный акт. Если же ошибочные решения раз за разом обретают силу закона, можно не сомневаться, что подданные не станут долго терпеть столь упрямого и недалекого монарха.
– Все мы – люди, – резюмировал, завершая наш разговор, Альберт Селе. – Власть может стать ядом, если ее слишком много и если человек упивается ею.
Согласитесь, достаточно демократический образ мышления для представителя такой авторитарной, по определению, профессии, как вождь. И Альберт Селе не один такой прогрессист на Юге Африки.
Лидер Конгресса традиционных вождей этого региона Патекиле Холомиса, баллотировавшийся в списке Африканского национального конгресса от Транскея, предупредил, что институт вождей – обоюдоострый меч: он может и сплотить нацию, и посеять рознь. «Система правления, которую венчает традиционный вождь, – говорит Холомиса, – имеет древние традиции и остается близкой сердцам миллионов. Но ее надлежит приспособить к новым условиям так, чтобы она ни в коем случае не могла быть использована для балканизации Южной Африки».
Глубокие корни этого института подтвердил и опрос, недавно проведенный телекорпорацией САБК. Он выявил популярность короля зулусов Гудвила Звелитхини, которого Нельсон Мандела за несколько дней до своего избрания в 1994 году президентом почтительно назвал «мой король». И Мандела, и многоопытный белый политик, бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк в ходе предвыборной кампании стремились найти опору не только массах, но и у правителей этнических групп. Совершив тогда поездку в Трансвааль, Лебову и Венду, Мандела уделил много времени встречам с традиционными вождями и всячески демонстрировал свое братство с ними. А де Клерк специально прибыл в Венду для беседы с королем Диманиикой Мфефу. Примечательно, что оба лидера посетили – правда, порознь – влиятельную «королеву дождя» в Моджаджи, которая в тяжкую минуту засушливой погоды способна вызвать молитвами дождь.
Выступая в законодательной ассамблее провинции Восточный Трансвааль, ее первый премьер-министр Мэтьюс Поза предложил обращаться с королями и вождями этого региона так же, как с королем зулусов Звелитхини, авторитет которого непререкаем. Король Ндзундзы Майиша II и король Маналы, очень эффектные, с красными перьями птицы лурие в волосах, присутствовали на открытии парламента этой провинции, как бы зримо демонстрируя, что африканские монархи и народовластие отнюдь не антиподы. Того же мнения придерживается Патекиле Холомиса, предложивший на первых порах предоставить пяти верховным вождям право поочередно открывать сессии местного парламента.
По мнению Холомисы, если власти желают спокойствия и прогресса в сельских районах, то к установлению демократического нерасового порядка, исключающего дискриминацию по признаку пола, необходимо привлечь вождей. «В деревнях, где действуют племенные законы и правят вожди, – утверждает он, – существует большая стабильность, чем в городах. Женщин поощряют уважать мужчин, мужчин – вождей, а вождей – уважать королей. Горожане же восприняли традиции белых, поэтому уважения к старшим здесь нет. Вожди выполняют ответственную миссию хранителей традиционного права, они обязаны служить интересам своих народов, а если случаются эксцессы, вождей следует отзывать. Сама племенная традиция – гарант предупреждения произвола вождей».
В Южной Африке, родившейся после всеобщих нерасовых выборов, дорога современной демократии пересекается с тропинками традиционных племенных отношений.
Две формы власти, одна из которых формируется на основе всеобщего избирательного права, а другая наследуется в соответствии с линией крови, вполне могут дополнять и усиливать друг друга. Временная конституция, которая будет действовать в течение пяти ближайших лет, гарантирует традиционным вождям достойное место в складывающейся системе государственного правления.
Кроме особых прав на местах вождям в демократической ЮАР будет принадлежать совещательная роль в разработке политики и законодательства в строго очерченных областях. Конституцией определены контуры пирамиды, фундамент которой – традиционные власти и местная администрация. Управленческая вертикаль поднимается от палат традиционных вождей до их же Национального совета.
Как мы уже убеждались, туземный закон, включающий отработанные временем племенные обычаи и практику, сосуществует с современными правовыми нормами. Такие дела, как иерархия власти в племенах и деревнях, распределение земли, отношения в семье и между родственниками, права наследования, уплата лоболы (свадебного выкупа), рождение ребенка, смерть и многие другие, регулируются туземными законами на основании так называемого «обычного права». На уровне провинций консультировать законодательные органы в этих вопросах призваны палаты традиционных вождей. В свою очередь, правительство и парламент ЮАР на национальном уровне консультируются с вождями перед принятием законов, затрагивающих проблемы «обычного права», нормы которого варьируются от общины к общине и от района к району. Племенные иерархи наделены правом приостанавливать принятие закона на срок до шестидесяти дней.
Хотя «обычное право» не кодифицировано и не занесено в своды законов, в современной Южной Африке оно постепенно проникает в официальную юстицию. Так, если суд разбирает спор, связанный со свадьбой, разводом, судьбой детей, содержанием иждивенцев, то юристы принимают во внимание нормы «обычного права», но при условии, что стороны вступили в брак в соответствии с ним.
Принятый в ЮАР «Билль о правах» призывает изменить эту ситуацию. Он, в частности, гарантирует женщинам равенство перед законом, чего никогда не было в племенном праве. Однако здесь есть свои подводные рифы.
Ограничение законом обычая может не сработать, как это случалось в Зимбабве и Замбии. Опыт этих стран показал, что декларированные права слабо влияют на изменение сложившейся практики, так как жители глубинки не всегда знают свои конституционные права, а если и знают, то не имеют средств отстаивать их.
Однако и в традиционных структурах вызревают перемены. Так, вождем зулусов в Эмпангени, в Натале стала… женщина – Сибонджиле Зунгу, ей 31 год. Это первая дама, оказавшаяся на таком посту за последние сто лет, если не считать Северный Трансвааль, своеобразный заповедник черного матриархата, где женщины правят исстари.
– Традиционный совет, состоящий из стариков и советников, поначалу не принял меня, – рассказывает Сибонджиле. – Мне было двадцать восемь лет. Я получила западное образование и воспитание, а наш обычай не разрешает женщинам присутствовать на заседаниях, где принимаются важные решения. На первых порах трудно было убедить не только мужчин, но даже соплеменниц слушаться меня. За мной тем не менее оставалось последнее слово, когда речь шла о жизни общины. Я постоянно следила за тем, как соблюдается обычай на практике, беседовала с людьми, разъясняла. Некоторых штрафовала за нарушения. А иногда, исчерпав другие методы, пыталась заставить уважать себя как вождя, опираясь на полицейских.