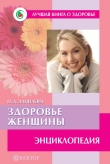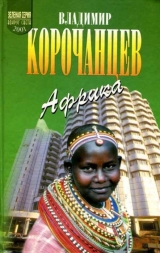
Текст книги "Африка — земля парадоксов"
Автор книги: Владимир Корочанцев
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
ДЕРЕВУ С КРЕПКИМИ КОРНЯМИ НЕ СТРАШНЫ НИКАКИЕ БУРИ
У каждого народа свои обычаи, свой этикет. То, что трогает европейца, оставляет азиата или африканца холодным как камень. Наша вера в определенные истины и вещи, наши взгляды на мир и жизнь не означают, что за тридевять земель их тоже обязаны разделять «на все сто», и, отправляясь в путь, лучше набраться терпения и не удивляться сюрпризам.
В Зимбабве есть два главных близкородственных народа – шона и ндебеле (матебеле). К шона, составляющим шестьдесят семь процентов населения, относятся этнические группы каранга, зезуру, маньика, корекоре, розви и ндау, шестнадцать процентов жителей – ндебеле и родственное им племя каланга. Остальные семнадцать процентов приходятся на тсонга, венда, шангаан и других. За исключением некоторых тонкостей, нравы и обычаи шона и ндебеле одинаковы.
Священные узы
Африканцы уважают общительных, великодушных людей. Скупость и скаредность отталкивают их, ибо сами они готовы поделиться куском хлеба с ближним. С раннего возраста ребенка учат в семье делить все поровну с родными и двоюродными братьями и сестрами. Мать дает сыну початок, предлагая поделить его пополам с братом. С четырех лет шона кормят детей в коллективе. Они едят из одного котла руками, берут только свою долю. Не больше. Эта привычка прививается столь сильно, что зимбабвиец даже стесняется что-то есть один. Когда у него появляется еда, он ищет брата или сестру. Он не соберет пирушки, не созвав родственников.
Шона отличает особое чувство долга перед семьей брата. В случае его смерти он, по обычаю, берет себе его жену и детей, хотя церковь противится полигамии. Он не допустит, чтобы семья брата голодала.
В истинном зимбабвийце трогает преданность родителям. По убеждению шона и ндебеле, тот, кто бросает родителей, недостоин жить на свете. Один из сыновей, обычно младший, обязан присматривать за престарелыми отцом и матерью. Другие сыновья тоже не остаются в стороне. Послать родителей в дом призрения – значит навлечь позор на весь род. Связи внутри семьи неразрывны.
…Однажды Великий Дух Мвари решил раздать людям все богатства природы. Одним он подарил скот, другим – леса, третьим – горы, а самому последнему – голую землю. Но вождем племени, гласит легенда, стал владелец земли, ибо он возделал ее, вырастил урожай и разделил его между голодавшими людьми.
Земля – начало всех начал для всех народов Зимбабве, и главный ее страж – традиционный вождь. Престиж традиционного правителя проистекает в Зимбабве из того, что он избран на высокий пост благодаря поддержке живущих членов племени и духов его. А против воли духов никто не осмелится пойти.
В Маникаленде по пути в Мутаре на поворотах попадаются указатели: «К вождю Маконе» или «К вождю Мутасе». Традиционные вожди имеют немалый вес в жизни африканской страны. Их влияние внешне почти незримо, но велико. У каждого из них свой тотем. У вождя хунгве Маконе – это буйвол, у главы маньика Мутасы – лев, у вождя ньяма Савьюньямы – питон, у предводителя хунгве Шикоре – антилопа импала, у вождя джиндви Зимуньи – обезьяна.
Вождь прежде всего заботится о благосостоянии общины или племени, поддерживает порядок. Он – духовный наставник, администратор и судья, надзирающий за соблюдением законов предков. Он – патриарх, к которому идут за помощью, с проблемами и жалобами. У ндебеле титул вождя обычно наследует старший сын главы племени. В большинстве случаев у шона выбор падает на старого мудрого человека, хотя случалось, что на вершине пирамиды оказывались женщины. У ндебеле бывало, когда вождем избирали молодых, отважных в бою. Но и шона, и ндебеле ценят прежде всего зрелость и мудрость как свойства высшего порядка (в Зимбабве ничтожеству в вожди не пробраться), и у них много седовласых рассудительных вождей. Нельзя стать вождем при живом отце или его родном брате.
В отличие от европейца африканец рассматривает себя лишь как часть семьи, племени, как звено в равноценной цепи поколений, как часть природы. Зимбабвиец живет в мире символов и обычаев, в которых зашифрован весь практический опыт предков, та самая философия целесообразности, позволяющая человеку выжить и настраивающая на соблюдение целесообразности в этой природной среде. По поверьям шона и ндебеле, вечная жизнь достигается продлением рода. Человек умирает – его место занимает старший сын, который берет имя отца, а иногда становится мужем его жен, за исключением своей матери, и имеет от них детей. Сын, заступающий на место главы семьи, наследует его долги и заботы о семье.
Так ли уж плох обычай выкупа невесты?
Когда юноша и девушка вступают в брак, между их семьями завязываются тесные родственные связи, значительно более крепкие, чем у нас. Брачный контракт рассматривается не как союз между мужчиной и женщиной как индивидуумами, а в первую очередь как договор между семьями. В этом – одна из разгадок прочности родовых и нравственных основ жизни в Зимбабве. Впрочем, нынче девушка, как и юноша, может выбирать мужа по любви, но некоторые родители все же не разрешают ей выходить замуж за человека неизвестного им рода. Однако если молодые ссорятся, то оба рода идут на все, чтобы спасти новую семью от распада. В том числе и для того, чтобы избежать дурной репутации. По этой же причине девушка старается блюсти себя, чтобы о ней не шептались за спиной: мол, «невеста с двумя кожаными передниками» (скрывающая свой грех). «Честной девушке передник не нужен: постыдного скрывать ей нечего, у нее все на месте», – говорят здесь.
За невесту принято платить выкуп – лоболо. Что это? Вид купли и порабощения женщины, как утверждает молва? Или способ укрепления брачных уз?
Главный принцип шона и ндебеле – мужчина должен иметь детей. Когда отцу невесты уплачен лоболо (еще употребляется слово «рура»), на него ложится моральное обязательство за обеспечение семьи жениха потомством. В некоторых племенах даже бытует обычай: лоболо не выплачивается, пока жена не докажет способность рожать. Здесь существует полное взаимопонимание, так как браки вершатся в пределах племени или района.
Если выкуп уплачен, но брак оказался бесплодным, то муж вправе востребовать лоболо назад или настоять на том, чтобы ему дали в жены другую дочь, обычно младшую сестру не оправдавшей надежды супруги. Если же стерилен муж, то обычай разрешает его брату по договоренности взять на себя инициативу по продлению потомства попавшего в беду родственника. Кстати, причиной бесплодия у мужчины может стать встреча с вельде… с зайцем. Поэтому зимбабвийцы, завидев косого, стараются его вспугнуть, чтобы он убежал без оглядки, и сразу отворачиваются. Если вы смотрите ему вслед, а ушастый в этот момент остановится и обернется на вас через плечо, то согласно народной примете вы рискуете стать импотентом…
В чем смысл лоболо? Отец невесты использует выкуп для женитьбы своего сына. Для семьи мужа лоболо – своего рода страховой полис, который гарантирует, что будут рождены дети и для новой семьи откроется дверь в вечность. И еще одно – таким способом гарантируется доброе, безупречное поведение мужа и жены. Если супруг плохо обращается с женой, она может покинуть его, ну а если его жестокость и бессердечие доказаны, то мужа заставят частично или полностью возместить затраты, связанные с совместной жизнью. С другой стороны, и жена дважды подумает, прежде чем решится на развод. Во-первых, ее родители могли уже растратить выкуп и не в состоянии вернуть его, во-вторых, родители могут отречься от дочери, возложив на нее ответственность за легкомысленный выбор.
Пока отец держит лоболо, он лично отвечает за поведение дочери. Если она ленива, плохо готовит, ее могут отправить на исправительно-трудовую практику к матери. Если она ворчит, пилит мужа по мелочам или, пуще того, скандалит, то ее также вправе командировать на «курсы» по перевоспитанию к отцу. Если же молодая женщина не исправится, то ее могут вернуть в отчий дом насовсем с требованием компенсировать все расходы, которые из-за нее потерпел пострадавший, то есть муж. Так что система лоболо, гарантирующая нравственность и равноправие супругов, достойна похвал. Во всяком случае, осуждать ее преждевременно. Ее суть отнюдь не в продаже женщины в семейное рабство.
В прошлом достаточно было заплатить одну-две коровы и несколько мешков кукурузы – и брак заключался. Но в последующем выкуп все более превращался в источник дохода. Отцы невест требуют себе костюмы, матери – платья. Увеличиваются и денежные выплаты в счет лоболо – и порой молодые начинают жить с нуля и выглядят почти нищими на фоне расфранченных тестя и тещи.
– Чего не сделаешь для счастья своих детей, – вздохнул как-то в разговоре со мной в Хараре историк Патиса Ньяти.
И поведал оригинальный древний обычай «нхоло ве мвизана» небольшой народности халанга, живущей на юге Матабелеленда. Он предоставляет главе семейства и домашнего очага право первой ночи с невестой сына. В эту знаменательную ночь семья жениха сопровождает невесту к дому свекра. Выполнив свою миссию, тот объявляет невесте, что отныне та является членом семьи. Затем любящий отец зовет к себе сына и при закрытых дверях рассказывает ему о своих впечатлениях и дает отпрыску последние наставления.
Как уверял меня Патиса, этот обычай не был табу у халанга и спокойно воспринимался и мужчинами, и женщинами. Причем невесту о предстоящем испытании извещали заранее. По поверью, мужское достоинство отца не идет в сравнение с сыновним, а посему ему и принадлежит право первой ночи.
Христиане считают эту традицию злом и надругательством над женщиной. И, хотя она по-прежнему бытует у халанга, мятежная молодежь все чаще отказывается соблюдать ее. В мае 1999 года одному из несмелых парней досталась невеста из народности ндебеле, Марита Нкубе. И оказалась она не из робкого десятка. Марита послала свекра куда подальше (иди, мол, к своим старухам), когда тот, сладострастно глядя на нее, стал домогаться интимной близости перед свадьбой. От отчаяния она подожгла его дом. Девушка угодила на полтора года за решетку, но ее судьба привлекла внимание общественности, которая устами члена парламента Зимбабве Анжелин Амсуку потребовала запретить обычай, унижающий человеческое достоинство.
Подать «чистой воды»…
Как и всякий черный африканец, зимбабвиец – а мы говорим о жителе деревни, которую судьба выбрала главным и наиболее надежным хранителем устоев народной морали и культуры, – любит поозорничать, повеселиться, посмеяться. В быту он расположен побездельничать, убить время в свое удовольствие. В конце концов, полагает он, время ниспослано человеку как дар свыше. Вечером в танце шона или ндебеле сбрасывает накопившееся за день напряжение, разряжается эмоционально. Время не имеет цены, так зачем делать сегодня то, что можно отложить на завтра?
В незапамятные времена, когда камни были еще мягкими, первые люди послали к Великому Духу хамелеона Нвабу и ящерицу Нтули. Первому поручили просить Всевышнего о вечной жизни, ящерицу – о том, чтобы человек был смертным. Хамелеон отстал, а Нтули значительно опередила его. Вот почему дети у ндебеле по сей день мстят ящерицам за торопливость, а хамелеонам – за медлительность.
Манеры делают мужчину, но манеры бывают разными.
О нетактичных людях в Зимбабве язвительно бросают: «Обезьяна своего зада не видит, а видит только чужой». Европеец встанет, если в комнату, где он находится, войдет старший по возрасту. Заходя в чужое помещение, европеец никогда не сядет без приглашения. Африканец же, когда к нему наведается старший, садится, иногда даже на корточки. Когда он входит в какой-то дом, то тут же садится без приглашения. Он вежлив согласно своему неписаному кодексу поведения.
Если при встрече подать зимбабвийцу левую руку, то можно нанести ему кровную обиду. Суть в том, что у африканцев есть края, где очень мало воды для жизни. Из экономии человек мыл там одну правую – «чистую» руку. Если ею он пользуется во время еды, то левой – для разного рода «грязных, нечистых, негигиеничных» дел. На того, кто возьмет во время общей трапезы пищу левой рукой, взглянут с неуважением. Подавать или передавать что-либо левой рукой – значит проявлять неуважение, пренебрежение к человеку. Правила хорошего тона требуют, чтобы вы подавали все другому только «чистой» рукой.
Когда африканец протягивает обе руки, чтобы принять дар, то это не означает, что он груб или жаден. Независимо от значительности подарка зимбабвиец стремится показать вам, сколь велик и щедр ваш жест, поэтому он берет подарок сразу двумя руками, прижимая к груди. Принять подарок одной рукой означает приуменьшить добрые чувства дарующего, не выразить должной благодарности.
Если два человека разговаривают, у нас считается невежливым проходить между ними, у шона и ндебеле, напротив, это делается, чтобы показать отсутствие дурных намерений к ним.
Некоторые обычаи для нас выглядят довольно экзотичными, хотя имеют самое прозаическое объяснение. Например, во время брачной церемонии у нас невеста идет слева, что оставляет правую руку жениха, которая когда-то держала меч или копье, свободной, чтобы при необходимости защитить даму сердца. Однако мы поднимаем бровь, когда видим нагруженную африканку, которую сопровождает (в том числе и в больницу) крепкий здоровяк супруг, свободный от всякой поклажи, но с копьем, топором или палкой. А смысл сцены простой: неси он груз, он бы не выручил подругу в случае нападения врага.

Часто бывает, что человек получает бодрый ответ на вопрос, однако затем обнаруживает, что ответ был неправильный. «Далеко ли до деревни?» – спрашивает путник крестьянина. «Нет, близко!» Еще несколько километров по жаркой дороге – а деревни нет. Проявлением благовоспитанности в африканском обществе считается говорить человеку то, что он хочет услышать, даже если это неправда. С другой стороны, африканец может сделать из мухи слона. «Козы съели всю капусту», – уведомляют вас доброжелательные соседи. Бросившись в огород, вы с облегчением обнаруживаете, что только один кочан обглодан козой, сумевшей просунуть голову сквозь ограду. Вы счастливы, чувствуете облегчение. Вам сделали добро!
Иногда можно говорить на одном языке, но понимать друг друга по-разному. В Мутаре я услышал историю, случившуюся в конце 70-х годов. Однажды начальнику округа, белому, сообщили, что в деревенской больнице умерла роженица. За новорожденным пришла бабушка, но у нее нечем было кормить дитя. Отзывчивый администратор купил старушке шесть банок детского питания, долго и дотошно растолковывал ей, как пользоваться продуктом. Она согласно кивала головой, твердя: «Спасибо, патрон».
Через неделю начальнику доложили, что в приемную пожаловала какая-то крестьянка. Он вышел, перед ним стояла та самая бабушка, выглядевшая еще более расстроенной, чем раньше. «Сэр, – пожаловалась она. – Я съела, как вы рекомендовали мне, все питание, но молоко до сих пор у меня не появилось. Дитя голодное». Бедняжка просто не смогла перешагнуть через принятые в ее народе представления о кормлении младенца.
Как поладить с таким человеком, заслужить его доверие? Прежде всего терпением, учтивостью, искренним желанием уяснить обычаи и понятия его земли. Бессмысленно и бесполезно сердиться, обижаться на него, если у вас никак не налаживается взаимопонимание. Зимбабвийцы ценят интерес постороннего к их проблемам, стремление по-человечески понять их заботы, целесообразность социально-политического уклада. В образе жизни, особенностях мышления и поведения народов этой страны присутствует трогательная наивность, которая проявляется в поклонении природе, прошлому. Запоминается романтическая, чуть навязчивая забота о нравственной чистоте человеческих отношений, какая-то необычная, смешная для нашего практичного времени доверчивость.
Наверное, они будут ближе к истине, чем мы, европейцы, если сохранят эту «старомодность» нравов. Мне лично по сердцу изумительная по глубине проникновения в человеческую психологию мысль русского историка В. О. Ключевского: «Отнимите у современного человека этот медленно и трудно нажитой скарб обрядов, обычаев и условностей – и он растеряется, утратит все свое житейское уменье, не будет знать, как обойтись с ближним, и будет принужден все начинать сызнова». Нам ли, россиянам, не знать, сколь психологически тяжело начинать все сызнова, когда даже соотечественники кажутся незнакомцами, чужаками. И как бы тепло человеческих отношений, подобных существующим у жителей Зимбабве, помогло нам в нынешний трудный час!
Воистину, если у дерева крепкие корни, ему не страшны любые бури.
ПРОСТИ НАС, СЛОН!
Пигмеи! Об их существовании вроде бы знают все. А вот о том, как они живут, имеют представление очень немногие. Все годы работы в Африке я интересовался этим удивительным народом маленьких людей, обитающих в непроходимых лесах. И мои поиски однажды увенчались успехом. Я побывал в гостях у пигмеев, увидел их нелегкую жизнь.
Из камерунского городка Йокадума мы с проводником Амаду взяли курс на юго-восток, в края пигмеев бака. Шли пешком, подчиняясь изгибам тропинок, несколько раз форсировали реку Вуму и ее притоки – временами по мостам из побегов лиан. Перед каждой переправой вброд Амаду предупреждал меня о крокодилах, затаившихся в мутных водах. Наконец у берега реки Санга, чуть севернее ее притока Нгока, из зарослей выглянула деревня на укромной поляне.
Несколько круглых хижин из веток и листьев стояли перед нами. Увидев нас, маленькие, как дети, люди, загалдев, кинулись врассыпную, вмиг растворившись в лесу. Помрачнев, Амаду начал истошно что-то кричать, вызывая пигмеев из дебрей, объясняя, что к ним заглянули добрые гости. В припадке скромности я дернул было его за рукав, чтобы умерить пыл, но проводник досадливо отмахнулся: получишь из кустов отравленную стрелу – тогда будет поздно.
Пигмеи замкнуты, недоверчивы, пугливы, но расположить их к себе легко: надо быть добрым с ними. Это они чувствуют. Успокоившись, несколько бака подошли к нам и отвели к старейшине Эссопву. Вождей у пигмеев нет, ибо, объяснил Эссопву, возвеличивание одного может погубить все племя, привыкшее любое дело решать сообща. Старейшина, ростом, как и остальные, примерно 130 сантиметров, красовался в наброшенной на плечи обезьяньей шкуре, прикрепленной к опоясывавшему талию ремню из кожи гориллы. Лицо и тело его были раскрашены древесным углем и растительной смолой, отчего золотисто-коричневая кожа стала темно-шоколадной.
Вечерело. Женщины спокойно варили душистую похлебку из трав на обезьяньем жиру, что отнюдь не приводило меня в восторг.
От района к району пигмеи зовутся по-разному: бака, бабинга, бангомбе, бамбути, бабензеле… Быт их прост и неприхотлив, люди поглощены каждодневной борьбой за выживание. Они мастера использовать все ресурсы леса и живут в согласии с окружающей средой. Создается впечатление, что они буквально отмеривают для себя «жизненное пространство» в лесу: по одному квадратному километру два-три человека, чтобы не «перегрузить» среду. Мужчины промышляют охотой на кабанов, обезьян, антилоп, грызунов и других животных. Пигмеи любят полакомиться белыми муравьями, термитами, личинками, гусеницами, змеями. Дети одной из последних охотничьих цивилизаций, они замахиваются и на слонов. Когда в округе обнаруживают гиганта, организуется группа до тридцати человек, из которых – десяток охотников. Смельчаки подкрадываются к слону с подветренной стороны. Остро наточенными ножами ему перерезают сухожилия задних ног, вонзают копья в хобот и брюхо. Нужно обладать ловкостью, чтобы успеть отскочить от разъяренного исполина. Потом ждут, пока он не истечет кровью и не рухнет наземь.
В июне идут за медом. Нелегко добраться до ульев, которые водружены на деревьях высотой до 70–80 метров. К ним пигмеев приводят птицы, также обожающие мед. Обнаружив рой, люди разводят под деревом костер, наваливают на него сырые ветки и листья, едким, удушливым дымом отгоняя пчел. Натерев тело составом, запах которого отпугивает пчел, бортник карабкается на дерево, набирает мед в крупные листья и спускает их вниз по лиане. Спустившись, он берет кусочек сотов и бросает через плечо, принося жертву духу дерева. Затем все налегают на мед, а насытившись, отплясывают «танец пчел».
Женщины различают в лесу свыше пятидесяти видов съедобных растений. В сухой сезон пигмеи покидают лес и селятся на землях соседнего народа фанг, расплачиваясь с ним своей добычей. За право временно жить там платят фангам дичью. Хижины возводят женщины. Они чертят палкой круг, по периметру которого вгоняют в землю длинные эластичные ветки. Затем побеги сгибают и втыкают в землю на противоположной стороне. Крыши покрывают травой, листьями бананов, других растений. Жильцы проникают в дом через крошечный вход на коленях или ползком. Кроватью служат бревна и подстилки из листьев.
Пигмеи вечно кочуют по чащобам в погоне за дичью, неизменно возвращаясь на старые места. Их поклажа легка. Мужчины шагают, закинув за плечи ягдташи и колчаны из шкур. В них сложены стрелы из бамбука с оперением из листьев. Плотный подлесок затрудняет поиски дичи, подход к ней, поэтому наконечники стрел смазываются ядом из млечного сока лиан. Их действие ужасно – они приводят к мгновенному параличу.
Некоторые вооружены копьями, топориками и даже арбалетами, происхождение которых неясно. Один из крепких парней обычно несет на плече коробку с предметами для высекания огня: кусочками кремня или металла, паклей, трутом. За плечами у женщин – цилиндрические коробки с крышкой, куда они попутно складывают грибы, корни, клубни, фрукты, ягоды, растения. Маленьких детей матери укладывают в люльки и ремешками из сыромятной антилопьей кожи приторачивают к бедру. Одежда пигмеев сводится к набедренной повязке в виде передника или куска ткани, протянутого между ногами и прикрепленного к кожаному поясу. Люди увешаны амулетами и талисманами, их руки унизаны браслетами. Некоторые модницы вдевают в губы деревянные кольца, а в уши – серьги, сделанные из туго свернутых листьев и сучков.
Пигмеи моногамны.
– С одной женой легче поладить и кочевать, чем с тремя-четырьмя, – уверял меня Эссопву.
Браки заключаются по соглашению между семьями. Когда супруга входит в семью мужа, тот обязан ее брату или кузену взамен дать в жены одну из своих родственниц. Обе свадьбы справляют одновременно. Если женщина не рожает детей, то ее родня дает невезучему мужу еще одну девушку. При рождении ребенка отец сажает дерево в благодарность богу, а мать прикрепляет к запястью младенца браслет с амулетом.
Пигмеи поклоняются Комбе – творцу людей и животных. Впрочем, у их бога много имен.
– Никто и никогда не видел Комбу, – вздыхал Эссопву. – У него нет тела. Комба подобен слову, слетающему с языка. Творец незримо витает повсюду, его посланцем на земле является Дженги.
– По убеждению бака, Комба сотворил человека не для того, чтобы тот изменял мир, а чтобы он был частью природы, – пояснил Амаду. – Человек, верят бака, может принимать обличье гориллы или слона. Он в родстве с животными. Каждое дерево в лесу имеет для бака живую душу.
Пигмеи принимают мир таким, какой он есть, точнее, каким они видят его. Если не удалась охота, пигмеи взывают к помощи божества. Но поскольку лес всегда кормит их, они не сомневаются в щедрости Комбы. Невезение объясняют нарушением одного из бесчисленных табу (например, кто-то отведал мясо умершего естественной смертью слона), колдовством или злой судьбой.
– Видите между теми двумя деревьями занавес из лиан? – показал рукой Эссопву. – Такие есть в каждой деревушке. За ними начинаются владения доброго Дженги, которому Комба поручил оберегать нас.
Только мужчины имеют право встречать Дженги. Женщины же только готовят пищу для подношения высокочтимому духу. Если бы хоть одна увидела его, то умерла бы на месте. Дух наведывается лишь в деревни, где царит лад. Он делает невидимками людей, подвергающихся опасности, лечит больных. Нельзя нанести большего оскорбления пигмею, чем усомниться в существовании милостивого духа.
– Я встретил Дженги вечером, когда занедужила жена. Дженги подсказал мне, как исцелить ее. Он низенький, коренастый, – рассказал мне один из охотников.
На мои более подробные расспросы он ответил лишь таинственной улыбкой.
– Взгляните на небесные светила – там правит Комба. Разве вы не заметили этого? – снова перехватил инициативу старейшина.
Солнце – одно из обиталищ божества. Бака зовут его «небесной землей». Бог часто бывает там, чтобы разогреть луну, олицетворяющую плодородие. В легендах пигмеев, заметное место занимает Орион. Они различают Большую Медведицу, Млечный Путь, Кассиопею, Плеяды и в астрономии заткнут за пояс среднего европейца, редко поднимающего взор к небу.
Ежегодно последние дожди перед наступлением сухого сезона подают знак к празднику солнца. По этому случаю в лесу убивают игуану, кладут в яму и покрывают листьями банана и цветущими ветками деревьев. Прежде чем запалить костер, старейшина поет и танцует вокруг него. Едва взлетают первые языки пламени, вся деревня подхватывает его песни. Мужчины и дети, не сходя с места, подражают движениям и жестам старика.
Появление радуги прекращает всякую деятельность в деревне: это знамение. Тогда от имени всех старейшина затягивает песню в честь Комбы и лично идет на охоту. Дичь преподносят божеству. Заботясь об удаче, пигмеи никогда не убивают ворон и хамелеонов, которые, по их поверьям, служат добрым духам.
Пигмеи ценят мудрость, знание, умение. Их стихия – атмосфера вольности, равновесия и душевного покоя. В музыке и танцах проявляются их характер и взгляды. С музыкой они ходят и на охоту. Мужчины, женщины, старики и дети прихлопывают, их голоса перемешиваются в своеобразный хор. Песни, в которых изливается радость возвращения с удачной охоты, полифоничны (пигмеи почти никогда не поют в унисон) и сопровождаются постукиванием палки о палку. Каждый поет по-своему в едином хоре, импровизируя в пределах своей темы.
Я пришел в деревню, когда бака готовились к охоте на слона. Накануне старейшине приснился вещий сон, а любая охота начинается со сна. Проснувшись, он раскинул «кости» из кожи лани и панциря черепахи. Гадание обещало удачу.
– Ночь будет долгой, – обронил Эссопву, обнажая в широкой улыбке острые, как клинышки, зубы. Пигмеи не забывают обычая дедов стачивать зубы камнем.
Языки разгоревшегося костра жадно лизали тьму. Старейший плясун (это был знахарь) в ансамбле, включавшем всю деревню, захлопал в ладоши. Повинуясь ему, забили барабаны. Охотники с прикрепленными сзади пушистыми хвостами из больших пучков листьев двинулись в затылок друг к другу вокруг костра медленной покачивающейся походкой.

– Завтра охота, – пояснил Эссопву. – Сейчас знахарь Губеле будет прорицать. Если в советах Дженги он уловит даже намек на опасность, охоту придется отменить.
Губеле напряженно всматривался в раскаленные угли, стараясь отыскать в мигающем огне фигурки диких животных, которые завтра будут убиты, разглядеть подстерегающие соплеменников опасности. Наконец он воскликнул:
– Охотники, вас ждет успех! Думайте только о завтрашнем дне. В лесу гостит большой слон.
Мне любезно предложили разделить хижину со старейшиной, но я предпочел соснуть у костра. Дело в том, что, даже сидя рядом, ощущаешь характерный для пигмеев резкий запах. Каждому народу присущ особый запах. Пигмеи, особенно женщины, пахнут чем-то вроде мускуса. По мнению других народов, пигмеи не просто пахнут, а воняют. Это связывают, в частности, с древесными клопами и плодами растения мондера, которыми они любят полакомиться. От их едкого «аромата» у меня першило в горле, тянуло кашлять.
На охоту меня не взяли: по поверьям бака, посторонний может омрачить предсказанную удачу. Утром все ждали возвращения охотников. Наконец тишину разорвал резкий свист, и вмиг вся деревня высыпала наружу. Издалека доносился приглушенный хор свистков, которому отвечала вся деревня.
– Сегодня у нас радость – мужчины убили слона с крупными бивнями. Губеле подтвердил славу лучшего ворожея округи! – прокричала одна женщина.
А потом люди вновь пели и плясали, прося прощения у поверженного слона.
– Прости нас, слон, но согласись, что нам надо есть. Как прокормить столько стариков и детей? – пели бака.
Губеле по традиции разбрызгал несколько пригоршней крови слона на все четыре стороны. На шею поверженного животного положили гирлянду цветов и приступили к пиршеству. Первым поджарили хобот. Делили его строго по правилам. Лучшие кусочки по очереди достались охотнику, пронзившему слона копьем, за ним – тому, кто возглавлял поход, хозяину собаки, засекшей слона, другим участникам охоты. Потом люди запели песни в честь слона, а затем о жизни и любви.

Каждый народ за тысячелетия привык жить по-своему, поэтому приобщать «дикарей» к «цивилизованному миру» надо с осторожностью.
Влияние цивилизации на пигмеев мне довелось увидеть на западе Уганды. Наряду с некоторыми благами в их жизнь ворвались ранее неведомые им алкоголизм, наркотики и СПИД. В результате за три десятка лет численность тамошних пигмеев упала с двух тысяч до четырехсот человек. В отличие от предков они приобщились к более легкому образу жизни – паразитированию. Их главным занятием стало выпрашивание денег у туристов, осматривающих национальные парки. С деньгами пигмеи пускаются в разгул в барах, покупают спиртное в универсамах. Они тратят их на наркотики и проституток, следствием чего стало почти поголовное заражение СПИДом.
В науку никто из них пока не спешит идти. Пигмеи проявляют враждебность к учебе и лечебным учреждениям. В 1994 году они даже потребовали деньги с группы медиков, хотевших сделать детям прививки от кори и туберкулеза. Миссионерам удалось убедить нескольких юных пигмеев ходить в школу, но они часто сбегают с уроков просить милостыню у иностранцев, а потом возвращаются в школу пьяными.
Современность причудливо сочетается у пигмеев со стариной. В одной из деревень я записал на магнитофон их песни, а потом дал им послушать. Сначала они пришли в восторг. Однако, услышав в записи разговор, в котором выделялся голос старейшины, принялись настороженно переговариваться и помрачнели. Наутро пигмеи покинули стоянку. Нам сказали, что причина их бегства – запись. По их понятиям, мы заключили дух их старейшины в ящик и унесли с собой. Во избежание беды они ушли в другое место.
Я не знаю больших оптимистов, чем пигмеи. Жизнь их суровей не придумаешь. Будущее мрачно, но они не отчаиваются. Умирая и вымирая, они верят в него.